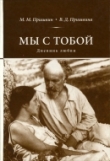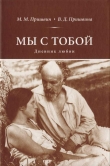Текст книги "Пришвин, или Гений жизни: Биографическое повествование"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 3
ПРИШВИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Увлекшись сим занимательным сюжетом, мы несколько забежали вперед, и теперь нам предстоит вернуться в конец позапрошлого века, где в зародыше скопились все истоки бед века двадцатого. Неизвестно, как сложилась бы пришвинская судьба, когда бы в 1889 году старший братец его матушки, сибирский судовладелец Иван Иванович Игнатов, не предложил племяннику переехать в Тюмень. А в вольной Тюмени, тем более с таким дядюшкой, все было можно, в том числе и учиться волчебилетнику.
Иван Иванович был настоящий антик. Убежденный холостяк и «очаровательный прожигатель жизни», он славился в роду своими неординарными поступками, устройством фантастических пиров и пикников, подношением дамам богатых подарков, любовными романами и игрой в карты. Последнее сближало его с пришвинским отцом. Только в отличие от невезучего в азартных играх и слабовольного Михаила Дмитриевича, однажды чудовищно проигравшись и спустив имение брата, а также и изрядную сумму денег, которые одолжил ему друг, пришвинский дядя Ваня не впал в отчаяние, а взял и уехал в Сибирь. Там он неизвестно как раздобыл первоначальный капитал, занялся пароходным бизнесом и с годами сделался настоящим воротилой, но не переставал интересоваться достижениями науки, новинками литературы и театра, был инициатором создания вольно-пожарной дружины и попечителем реального училища, имел дома большую библиотеку, привез в свой город лейденскую банку и солнечные часы, увлекался охотой, любил шампанское, бывал высокомерен и жесток, одних людей привечал, а других преследовал и оставил о себе воспоминания противоречивые, но чрезвычайно яркие. «Самый высший» звали его в роду.
Под его водительством великовозрастное чадо снова стало учиться («Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами») и в 1892 году окончило реальное училище. Ему исполнилось в это время 19 лет – возраст совсем не маленький, тут сказалось второгодничество – и юноша торопился наверстать упущенное. «Самый высший» предлагал ему делать карьеру в Сибири, но Пришвин, от пассионарного родственника и его опеки подустав, отправился в Красноуфимск поступать на сельскохозяйственное отделение Промышленного училища, причем причина была по-юношески банальна: ему хотелось приехать в Тюмень «с погонами и танцевать как студент!».
В Красноуфимске дело почему-то не заладилось, молодой человек переехал в Елабугу и сдал экзамены экстерном, после чего отправился в Ригу в политехникум и поступил на химико-агрономическое отделение.
В наброске к своей автобиографии Пришвин отметил:
«В Риге меняю разные факультеты в поисках „философского камня“».
А позднее в рассказе-мемуаре «Большая звезда» предположил, что выбор Риги был вызовом семейному народничеству, на дрожжах коего он вырос. Счастливым соперником русского народничества в сердце Пришвина стал марксизм, которым были заражены почти все учебные заведения России.
На протяжении жизни Пришвин много раз обращался к революционному сюжету своей молодости и оценки его колебались от возвеличивания той жертвенной борьбы за лучшую жизнь и даже клятвы в верности этой борьбе до горького признания, что был он шпаной в среде шпаны.
Среди этих противоречивых высказываний располагается и такое:
«Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как крыльями (…) Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и прорастало: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал не-ученье – „Выучитесь инженерами, – говорил он, – и сядете на шею пролетариата“».
Пикантность этой ситуации заключалась в том, что марксистское действие происходило на Кавказе, родине товарища Сталина, в городе Гори, куда студенты выехали, говоря современным языком, на практику (их не то послали, не то они сами добровольно поехали туда для борьбы с вредителем виноградников – филлоксерой, занесенной в Россию из Европы, – неслучайная, символическая, согласитесь, подробность), и по утрам молодежь сидела с лупами и рассматривала корешки виноградной лозы, а в остальное время яростно спорила за столом с бурдюками вина.
«Помню большую веранду, где мы пили вино и вели свои споры, огромное дерево орех, под которым праздновали с грузинами и пили много вина. Помню каких-то грузинских детей, которые учили меня танцевать лезгинку. Странно теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке сам Сталин».
Теоретически у юноши был шанс сделать партийную карьеру, он завел знакомство с достаточно известными в революционном мире людьми и среди них с Василием Даниловичем Ульрихом, на дачу которого его привел другой марксист, по фамилии Горбачев, вытащивший юного Михаила из воды после неудачного купания в Рижском заливе. И все же что-то не сложилось, не получилось у него с революцией. Может быть, потому, что марксизм у него был никакой не научный, не правильный, а фантастический, религиозный, слишком искренний.
В жестокой «не то секте, не то семье, не то партии с бесконечной преданностью этому коллективу и готовностью для него во всякое время принести себя в жертву» Пришвин сравнивал себя с Петей Ростовым
(«Я был юношей, до последней крайности неспособным к политической работе… доверчив, влюбчив в человека…»)
и если не погиб в бою, то испил свою чашу страданий в камере одиночного заключения Митавской образцовой тюрьмы, куда попал в 1897 году, будучи пойманным при переноске нелегальной литературы.
Тюрьма есть тюрьма, хотя о пенитенциарных порядках бывшей империи теперь мы читаем едва ли не с умилением: никакого подавления личности, унижения, пыток, мучений, даже просьбу молодого нигилиста перевести его из полутемной камеры в ту, где было видно небо и закаты, выполнили! Разве что отказал начальник тюрьмы только передать ему книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому что «английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной».
И все же молодому человеку там было крайне тяжело, одиночество давило. В детстве его в шутку во время игры придушили подушкой, и в эти несколько мгновений небытия он пережил смертельный черный ужас, который вернулся к нему теперь, и
«ему мелькнуло в безумии – разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее – разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро».
Не сойти с ума – была его задача, и спасение к нему пришло – он вообразил себя путешествующим к Северному полюсу и высчитывал, сколько раз должен пройти по диагонали камеры, чтобы достичь заветной точки. А позднее в разговоре со случайной знакомой гордо констатировал: коль скоро вышел из тюрьмы невредим, значит, полюса достиг.
Освободившись, Пришвин уехал в Елец – в университетских городах ему было запрещено жить в течение трех лет. Он хлопотал о разрешении выехать за границу, а пока что обитал в доме своего гимназического товарища А. М. Коноплянцева, зарабатывал на хлеб частными уроками, кои ему охотно из сочувствия к участи пострадавшего поставляла местная интеллигенция, и, судя по воспоминаниям окружавших его в ту пору людей, очень недурно проводил время: дурачился, лазал домой через окно, играл на мандолине и пел серенады «О, Коломбина, я твой верный Арлекин…».
Тем временем закончился относительно счастливый для России девятнадцатый век, век расцвета русской литературы, а до литературы двадцатисемилетнему Пришвину было по-прежнему так далеко, что он о ней даже не задумывался. Если отбросить все экивоки, то перед нами, попросту говоря, недоросль, никчемный человек, недоучившийся студент, интеллигентский Гусек, за спиной у которого одни несчастья, провалы и поражения, и все вокруг, казалось, нашептывало: неудачник, неудачник, неудачник.
Даже опыта в отношениях с женщинами у него не было (или почти не было – пыталась его было соблазнить в Риге некая железнодорожная служащая Анна Харлампиевна Голикова, по прозвищу Жучка, но не соблазнила и с горя вышла замуж за их общего товарища по революционному кружку Романа Васильевича Кютнера), зато было много рассуждений о целомудрии и чистоте, идеализма и прекрасных порывов души, по поводу чего так и хочется вспомнить Любовь Андреевну Раневскую из «Вишневого сада»:
«Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..»
И все-таки тем и отличаются по-настоящему талантливые люди, что даже неудачи и неуспехи умеют обратить на пользу своего внутреннего развития, и потому напрасно эти годы для Пришвина не прошли. Что-то исподволь, медленно, осторожно зрело в тайниках его души, ждало своего срока, и неудивительно, что позднее, размышляя о природе успеха и неуспеха, писатель занес в Дневник:
«Только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданием, иной бывает способен радоваться жизни, быть счастливым; удача – это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину».
В полной мере ему предстояло испытать счастье и несчастье в истории своей первой запоздалой и очень сильной любви. Произошло это в Германии, куда Пришвину удалось уехать и поступить на агрономическое отделение Лейпцигского университета. Но об учебе позднее, да и не так эта учеба была важна – важнее была любовь, которая у него получилась не как у всех.
Звали его Лауру Варварой Петровной Измалковой. Фотографии ее не сохранилось, и известно о ней не так много. Только недавно благодаря изысканиям А. Л. Гришунина стало известно, что отец ее, Петр Николаевич Измалков, был действительным статским советником и проживал в аристократическом районе Санкт-Петербурга на Захарьевской улице.
В «Кащеевой цепи» Инна рассказывает о своем родителе одну забавную подробность:
«Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особую просфору на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переменил фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но, чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: „Помни, для меня ты вечный Чижиков!“»
Но было ли это на самом деле, утверждать не возьмется никто. Тем и коварен автобиографический роман, что реконструировать по нему события реальной жизни чрезвычайно сложно – слишком перемешаны здесь фантазия и вымысел. В «Кащеевой цепи» Инна Ростовцева, прототипом которой была Варвара Петровна, появляется в судьбе Алпатова в качестве назначенной партией невесты (как ее к марксистам занесло, неясно совершенно) на тюремном свидании, молодые не знают, о чем говорить, и только в самом конце свидания таинственная девица намекает жениху на скорое освобождение и обещает следующую встречу за границей, куда едет учиться. Лица ее он не видит – оно остается под густой вуалью, и на протяжении всего романа образ этой женщины остается практически нераскрытым.
Вообще, как мне кажется, писать женщин, по крайней мере в своей беллетристике, Пришвин не умел и, похоже, даже к этому не стремился. То же самое относится и к истории любви:
«Я никогда не могу описать свой роман, самую его суть… Я не могу взять море, но я могу подобрать самоцветный камешек и берегу его. Я не могу погрузиться в бездну вулкана. Но я могу собрать пемзу и остывшую лаву».
И все же из дневников ранних лет и писем обоих влюбленных встает очень любопытный и вполне ощутимый образ.
Знакомство с Варварой Петровной Измалковой произошло ни в какой не в тюрьме, а благодаря пришвинской приятельнице Анне Ивановне (?) Глотовой, замужней даме, которая переживала в ту пору тяжелую драму в личной жизни, уходила и возвращалась к мужу, и немолодой студент играл роль посредника в отношениях между супругами. Она приятельствовала с Варей, а само действие происходило в каком-то парижском пансионе. Двое земляков непринужденно беседовали на родном языке, на столе стояли в вазе красные цветы. Пришвин потихоньку оторвал большой лепесток и положил девушке на колени…
Однако дальше целомудренного жеста их отношения не пошли. Они посещали вместе театр, много говорили, и Варвара Петровна признавалась, что не смогла бы жить в России среди мужиков (к чему готовился Пришвин), он приводил в ответ умозрительные доводы, потом провожал домой, философствовал, рассуждал о Канте, а однажды сделал ей замечание, когда в конке оказался усталый потный рабочий и дамы, зажав носы, демонстративно вышли на площадку.
– Даже если б я был аристократом, то не позволил бы себе так оскорблять рабочего.
– Я не думала, что вы такой глубокий, – ответила она, смутившись и покраснев.
И в этот момент он понял, как сильно любит ее.
Отчего они расстались? Если верить роману, Инна хотела от Алпатова положения в обществе, за которым он и отправляется в Петербург, где знакомится с ее отцом, урожденным Чижиковым, а потом получает от девушки решительное письмо, выдержанное в телеграфном, отрывистом стиле:
«Слишком уважаю, чтобы отдаться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».
Так было в романе. Из пришвинских же дневниковых записей история получается иная. Девушка нашла что-то обидное в одной из его записок, они объяснились, целовались, но наутро она пришла к нему и дала письмо, где было написано, что не любит его, хотя лицо ее выражало иное. В тот же вечер он уехал в Лейпциг и через день получил письмо из Парижа, бросился туда: Люксембургский сад, пароход на Сене, Булонский лес и наконец расставание на каком-то кладбище.
«Она мне сказала тогда, я люблю не ее. А между тем я не оставляю ее до сих пор. Не помню ее земного лица, но что-то люблю. Да кто же она?..
К той, которую я когда-то любил, я предъявил какие-то требования, которых она не могла выполнить. Мне не хотелось, я не мог унизить ее животным чувством. Я хотел найти в ней то высшее, себя, в чем бы я мог возвратиться к себе первоначальному. В этом и было мое безумие. Ей хотелось обыкновенного мужа. Она мне представилась двойною. Она сама мне говорила об этом:
– Поймите, что в действительности я одна, а та другая есть случайность. Это то лучшее, что останется с вами всегда, что вы от меня отняли».
Варваре Петровне было явно неуютно в обществе этого странного молодого человека, она не понимала, чего он от нее хочет, томилась, пугалась и наконец решилась сказать последнее «нет».
Он вернулся в Россию, с горя сошелся с другой женщиной, стал отцом, ребенок умер, но и после всего пережитого Пришвин не забывал Варвару Петровну, и несколько лет спустя, когда был уже фактически женат, неожиданно получил от нее письмо, в котором она сообщала о своем приезде в Петербург и назначала свидание. Ему было откуда-то известно, что она собиралась выйти замуж за профессора в Берлине, но в последний момент передумала и профессору отказала.
Все могло решиться в одночасье…
Но судьбе не было угодно, чтобы Михаил и Варвара встретились. Несчастный возлюбленный, словно старый и рассеянный профессор, перепутал день встречи и явился на вокзал сутки спустя назначенного свидания. Разгневанная Варвара Петровна уехала навсегда.
«Что было бы, если бы я сошелся с этой женщиной. Непременное несчастье: разрыв, ряд глупостей. Но если бы (что было бы чудо) мы устроились… да нет, мы бы не устроились».
Он ее очень любил. Все, что ни было важного в пришвинской жизни, второстепенно по сравнению с историей этой любви, а вернее, берет из нее начало и к ней возвращается: и литература, и секты, и декаденты, и революция, и охота, и скитания по стране, и несчастная семейная жизнь.
В тридцатые годы в ернических и одновременно серьезных размышлениях о загробной жизни Пришвин написал с невероятной тоской, как проходит без любви его жизнь:
«Только вот одна невеста моя, с ней бы я встретился, я бы все отдал за это, я готов до конца жизни на железной сковороде прыгать или мерзнуть, лишь бы знать, что на том свете с ней встречусь и обнимусь».
Она не принесла ему мужского счастья (если только есть такое понятие в противовес счастью женскому), даже не так – он не захотел это счастье взять, она-то была готова его отдать, но вместо того разбудила в нем поэта, и он проклинал и благословлял судьбу одновременно за то, что так произошло, – вот еще одна причина вечной пришвинской раздвоенности и противоречивости и такое страстное стремление к цельности.
Уже будучи пожилым человеком, вспоминая свою жизнь и подводя некоторые итоги, Пришвин записал в Дневнике:
«Голос „прозевал“ говорил мне о девушке, которая откинулась в кресле, закрыла глаза, вдруг вспыхнула и прошептала: „За такое чувство можно все отдать“. А я ей читал в это время с бумажки исповедь своей любви к ней, все видел и почему-то не смел. И так прозевал я, пропустил навсегда единственную, предоставленную мне минуту блаженства в жизни самой по себе. Так было назначено мне – променять жизнь свою на бумажку».
В 1921 году Измалкова работала переводчицей в издательстве «Всемирная литература», основанном Горьким, куда могли привести ее либо К. Чуковский, либо Е. Замятин, либо Н. Гумилев, известные склонностью к молодым красивым женщинам.
В Петербурге-Ленинграде она прожила как минимум до 1934 года, работая после упразднения «Всемирной литературы» преподавателем Ленинградского химико-технологического института имени Ленсовета, после чего следы ее теряются…
Но именно благодаря любви к Измалковой родился писатель:
«Разглядывая фигурки в заваленном снегом лесу, вспоминал, как в молодости Она исчезла и на место ее в открытую рану как лекарство стали входить звуки русской речи и природы. Она была моей мечтой, на действительную же девушку я не обращал никакого внимания. И после понял, что потому-то она и исчезла, что эту плоть моей мечты я оставлял без вниманья. Зато я стал глядеть вокруг себя с родственным вниманием, стал собирать дом свой в самом широком смысле слова».
Но прежде нашему герою нужно было преодолеть еще одно испытание, которое одни люди проходят легко и незаметно, а другие чудовищно тяжело.
Пришвин был из породы вторых – из тех, кого, как правило, и вербует искусство.
«Любовь была задержкой половому чувству (на Прекрасной Даме нельзя жениться!)».
Глава 4
ДУХ И ПЛОТЬ
Каждый человек, в том числе и писатель, имеет право на частную жизнь, на свое privacy, как бы мы сегодня сказали. И, рассуждая об интимной жизни, читая его дневники и включенные в них письма, мы рискуем оказаться в положении подглядывающих в замочную скважину. Но случай с Пришвиным особенный.
Михаил Михайлович относился к своей жизни как к объекту творчества. Он творил ее и Дневник, свои тетрадки, куда заносил каждодневные обширные свидетельства своей жизни, считал главным своим произведением. Все, что ни есть в них тайного и интимного, что люди обыкновенно скрывают, Пришвин, напротив, бережно хранил для будущего Друга-читателя, в роли которого оказались все мы, дожившие до времени публикации его архивов.
За это пристальное вглядывание в себя
(«Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало»,
– писал Розанов)
многие его не любили. А когда были опубликованы только выдержки из пришвинских «Дневников», И. С. Соколов-Микитов раздраженно отзывался о прочитанном:
«Игра словами и мыслями. Лукавое и недоброе. Отталкивающее самообожание. Точно всю жизнь на себя в зеркальце смотрелся».
Самое интересное в неподцензурном и неизвестном Пришвине, самое ценное в нем – его последовательность и честность. Говорить обо всем, так обо всем. Не делать ни из чего тайны, не выпячивать в болезненном припадке душевные язвы, но и не прятать их стыдливо, а показать человека таким, каков он есть. Поскольку для Пришвина легче всего было показать эту борьбу на своем примере, ведь себя он лучше знал, то именно по такому пути он и пошел.
«Как трогательно воспоминание из жизни Алпатова, когда он, весь кипящий от желания женщины, окруженный множеством баб, из всех сил боролся с собой (с ума сходил) и сохранял чистоту для невесты, даже не для невесты, а для возможности, что она когда-нибудь будет его невестой. Казалось, что вот только он соединится с одной из баб, так он сделается в отношении ее таким, что и невозможно будет уже к ней прийти».
И все же дело здесь не только в трогательности. То там, то здесь по очень искреннему Дневнику писателя обронены самые горькие признания насчет своей обделенной юности и затянувшегося целомудрия.
«Недаром голубая весна так влечет к себе мое существо: смутные чувства, капризные, как игра света, наполняли большую часть моей жизни. Ведь в 47 лет только я получил наконец от женщины все то, что другой имеет в 25 лет и потом остается свободным для своего „дела“; „моя драма: преодоление девства“».
«Любовный голод или ядовитая пища любви? Мне досталось пережить голод».
В зрелые годы, встретив наконец женщину, которую так долго искал, Пришвин пришел к убеждению в благотворности сексуального воздержания и полагал, что именно из этого голода он родился как художник.
Весьма благосклонно он относился на семьдесят девятом году жизни и к естественному прекращению этой страсти:
«Люди еще молодые, состоящие в плену главной человеческой страсти, обеспечивающей размножение, представляют себе жизнь без этого, как смерть. Они не подозревают, что как раз-то и начинается свободная и большая жизнь, когда они освободятся от этого пристрастия».
Но в молодости и даже в середине жизни все представлялось ему гораздо сложнее и трагичнее:
«Пишу Алпатова чистым, а между тем сам в это время не был чист, и это очень задевает: ведь я хочу держаться натуры. Но вот особенность моей натуры, из которой можно выделить кусок для создания Алпатова: в общем, редкие „падения“ с проститутками совсем не затрагивали собственно эротическую сторону моей природы, напротив, очень возможно, что именно этой силой отталкивания закупоривало девственность, создавая экстремизм».
Отчасти именно этот экстремизм и страх психического расстройства свели Михаила Михайловича на тридцатом году жизни с женщиной, которая стала матерью его детей, с которой прожил он много лет в несчастливом браке и принес много страданий и себе, и ей.
Так появился еще один очень важный герой, вернее, героиня нашего повествования – его по-настоящему первая женщина и первая жена, столь не похожая на Прекрасную Даму.
«Было мне очень неладно: борьба такая душевная между животным и духовным, хотелось брака святого с женщиной единственной, вечного брака, соединиться с миром, и в то же время… мне был один путь – в монахи, потому что я воображал женщину, ее не было на земле, и та, за которую я принимал ее, пугалась моего идеала, отказывалась. Мне хотелось уйти куда-нибудь от людей в мир, наполненный цветами и птичьим пением, но как это сделать, я не знал, я ходил по лесам, по полям, встречал удивительные, никогда не виденные цветы, слышал чудесных птиц, все изумлялся, но не знал, как мне заключить с ними вечный союз. Однажды в таком состоянии духа я встретил женщину молодую с красивыми глазами, грустными. Я узнал от нее, что мужа она бросила, – муж ее негодяй, ребенок остался у матери, а она уехала, стирает белье, жнет на полях и так кормится. Мне она очень понравилась, через несколько дней мы были с ней близки, и я с изумлением спрашивал себя: откуда у меня взялось такое мнение, что это (жизнь с женщиной) вне того единственного брака отвратительна и невозможна».
В 1925 году Пришвин сделал, в скобках, между прочим, рассуждая о своем становлении как писателя, изумительное добавление к истории его знакомства с Ефросиньей Павловной, быть может, лучше всего объясняющее, что же тогда с ними двумя произошло и как возникла эта странная семейная пара:
«Когда мы совокупились, то решили купить ко-ро-ву! вот ведь какие соки-то пошли».
В разное время он очень по-разному писал об этой женщине и об истории их связи. Разнообразие оценок одного и того же человеку свойственно, но у Пришвина оно достигло самого невероятного размаха и касается любого вопроса: от отношения к Розанову до революции семнадцатого года и философских понятий, декадентства, политики и христианства, и, быть может, этой переменчивости, шаткости, а если угодно, диалектики и сложности не могли простить иные из его современников или более поздних интерпретаторов.
Еще в восемнадцатом году во время чрезвычайно путаного, противоречивого и, по мнению биографов писателя, единственного пришвинского адюльтера, которому посвящено немало страниц в чрезвычайно насыщенном, богатом событиями Дневнике за этот год, Пришвин записал:
«Соня плохо поняла мой союз с Ефросиньей Павловной: она говорит, что мы с ней неподходящая пара; но в том-то и дело, что я свою тоску по настоящей любви не мог заменить, как она, браком по расчету на счастье; я взял себе Ефросинью Павловну как бы в издевательство „над счастьем“».
Сюжет любви интеллигента к простолюдинке какой-то бунинский, что-то вроде «Митиной любви» (недаром так сильно потряс Михаила Михайловича этот рассказ земляка) или «Темных аллей», которые Пришвин вряд ли читал, но, если бы прочел, наверняка оценил бы не менее высоко. Однако есть и разница. Для бунинских героев, дворян, студентов, барчуков – а точнее, для одного общего героя, перемещающегося из рассказа в рассказ, – было естественно сойтись с крестьянкой или горничной, пусть даже полюбить ее, и совершенно немыслимо на ней жениться, ибо Бунин сословных предрассудков всегда придерживался, и Пришвин это остро чувствовал; пришвинская же судьба и некий, поначалу противоположный бунинским разрывам и расставаниям исход его любви, женитьба на дикарке, рождение детей, строительство дома и будущие очень сложные отношения с простонародной супругой, так или иначе все равно приходящие к разрыву, словно дают ответ, а что бы было, если б Николай Алексеевич из давшего название всей бунинской книге рассказа женился на крестьянке Надежде.
Мучительное переживание разрыва плоти и духа сближало елецких юношей ничуть не меньше, чем ужас от революции семнадцатого года двух соседей-помещиков. Не случайно, размышляя над любовными страницами автобиографического романа, который Пришвин писал как раз в те годы, когда прочитал «Митину любовь», бросая земляку своеобразный вызов, Михаил Михайлович настаивал на своем решении проклятого вопроса:
«Я же дерзну свою повесть так закончить, чтоб соитие стало священным узлом жизни, освобождающим любовь к жизни актом. Для этого Митя сделает Аленку своей женой и за шкурой Аленки познает истинное лицо женщины, скрытое…»
Между тем жена Пришвина, о браке с которой он неоднократно сожалел за годы своего супружества, была тоже по-своему удивительная и замечательная женщина, и лучше нее самой никто о ней не расскажет.
«Родилась я в деревне Следово Смоленской губернии, Дорогобужского уезда, в семье Бадыкиных. Жили бедно: отец рано умер, мать одна маялась с детьми – кроме меня, было еще четверо…
Недолго длилась моя девичья жизнь. Вскоре просватали меня за Филиппа Смогалева. Просватали против моей воли, потому что Смогалевых двор считался богатым: у них лошадь была. Мне тогда было шестнадцать лет, ему двадцать два…
Муж был пьяница и безобразник. Ни доброго слова, ни ласки я от него ни разу не слышала, не видела. Он бил меня без вины, жизнь была – сплошная мука.
Земский начальник знал о моей тяжелой жизни и распорядился выдать мне на три месяца паспорт – как ушедшей в город на заработки. Я мешок с пожитками собрала, Яшу у матери оставила – и уехала. Хотела прямо в Москву. Да меня отговорили – ты, говорят, там пропадешь. Лучше в какой-нибудь небольшой городок. Вот так и очутилась я в Клину.
Поступила на работу в прачечную. Работала, пока срок паспорта вышел. А дальше что делать?.. Делать нечего, собрала я мешок в дорогу. И тут приходит знакомая моя, хорошая женщина, Акулина, и говорит, что живут тут поблизости два холостяка – Михаил Михайлович Пришвин да Петр Карлович (фамилии не помню). Им прислуга нужна. Только я это услышала, мешок в сторону и, не раздумывая, прямо к ним пошла. Думаю, будь что будет, хуже не станет.
Михаил Михайлович посмотрел на меня и засомневался:
– Женщина красивая, молодая, как бы не стали к ней солдаты ходить!
Однако же взял меня. Солдаты не ходили, а мы с Михаилом Михайловичем скоро друг друга полюбили и сошлись как муж с женой».
Пришвин не женился, а именно сошелся с Ефросиньей Павловной. Жениться он и не мог – она ведь была замужем, и официально брак свой они оформили только после революции. Он не относился к этой связи очень серьезно и в любой момент был готов с крестьянкой расстаться.
«Наш союз был совсем свободный, и я про себя думал так, что, если она задумает к другому уйти, я уступлю ее другому без боя. А о себе думал, что если придет другая, настоящая, то я уйду к настоящей… но никуда мы не ушли от себя…»
«Ефросинья Павловна вначале была для меня как бы женщина из рая до грехопадения: до того она была доверчива и роскошно одарена естественными богатствами. Я эту девственность ее души любил, как Руссо это же в людях любил, обобщая все человеческое в „природу“. Портиться она начала по мере того, как стала различать».
На беду свою, она была умной и незаурядной женщиной, что в несколько парадоксальной манере подтверждал и ее второй муж: «Ефросинья Павловна была настолько умна и необразованна, что вовсе и не касалась моего духовного мира».
Ими было прожито вместе почти тридцать лет, Ефросинья Павловна родила Пришвину троих сыновей (один из них рано умер) и закончила свои воспоминания лаконично и хлестко:
«Муж мой не простой человек – писатель значит, я должна ему служить. И служила всю жизнь как могла».
Она сыграла в жизни Пришвина роль чрезвычайно важную: «Через деревенскую женщину я входил в природу, в народ, в русский родной язык, в слово».
Однако позже, в пору работы над «Кащеевой цепью», Пришвин в одной-единственной фразе так описал свою жизнь со всеми ее коллизиями и подводными течениями:
«Вот какие есть люди: встретил женщину, которая отказалась выйти за него, он берет в поле первую бабу, делает ее женой и потом всю жизнь, занимаясь охотой, путешествием и философией, старается в этих радостях скрыть свое горе».
А отвечать за брак с Фросей пришлось довольно скоро, тем более что в характере самобытной смолянки, похоже, напрочь отсутствовали такие несомненные женские добродетели, как терпение и кротость. Пришвин писал книги, путешествовал, участвовал в литературной жизни, но с горечью отмечал, что в своей семье он на обочине. В 1915 году он написал: