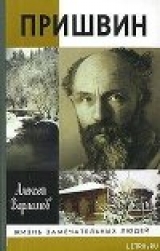
Текст книги "Пришвин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
И все же узнику было там крайне тяжело, одиночество на него давило и трудно было поверить, что когда-нибудь все это кончится. Он вспоминал, как в детстве его однажды в шутку во время игры придушили подушкой и как в эти несколько мгновений небытия он пережил смертельный черный ужас, который вернулся теперь, и «ему мелькнуло в безумии – разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее – разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро». Страшно смотреть на стену – «стена соблазняет», страшно на окно – и «окно соблазняет». Здесь словно рушилась его мечта и терялась обманная цель его бессмысленной жизни: «Хотел освободить людей от Кащеевой цепи, а вместо этого сам разбил себе голову».
Вот почему странно читать в статье Н. Замошкина, хорошо Пришвина знавшего и им ценимого (его сочувственно цитирует В. Курбатов): «Никто никогда еще так радостно и здорово не изобразил жизни человека, лишенного свободы». [117]117
Цит. по: Курбатов В.М.Указ. соч. С. 24.
[Закрыть]Странно, если только не учитывать, что написано это было в 1937 году и Пришвин в одной из дневниковых записей советского времени обронил, что царская тюрьма спасла его от тюрьмы пролетарской.
Не сойти с ума – вот была его задача, и спасение к нему приходит – он вообразил себя путешествующим к Северному полюсу и высчитывал, сколько раз должен пройти по диагонали камеры, чтобы достичь заветной точки. А позднее, в разговоре со случайной знакомой, гордо констатировал: коль скоро вышел из тюрьмы невредим, значит, достиг полюса. [118]118
Образ этого полюса, как некоего идеала, который может быть достигнут, образ реализованной мечты в пришвинской философии чрезвычайно важен. Ср. также дневниковую запись 1905 года: «Фрося говорила, что она всех понимает, но во мне не понимает что-то последнее… И я сам этого не понимаю. Это последнее похоже на северный полюс, куда нельзя добраться. Там, может быть, ничего нет, пустая точка… И мне хочется стать ногой на эту точку» (Пришвин и современность. С. 249).
[Закрыть]
Освободившись, Пришвин уехал в Елец – ему было запрещено в течение трех лет жить в университетских городах. Он хлопотал о разрешении выехать за границу, а пока что обитал в доме своего гимназического товарища А. М. Коноплянцева на Бабьем базаре, зарабатывая на хлеб частными уроками (их ему охотно, из сочувствия, поставляла местная интеллигенция) и, судя по воспоминаниям окружавших его в ту пору людей, очень недурно проводил время: дурачился, лазал домой через окно, играл на мандолине и пел серенады «О, Коломбина, я твой верный Арлекин…», а много позднее о себе написал: «Какой я был бездельник и пустой человек, откуда же потом все взялось? Ведь буквально из ничего (…) Был Семашко, был Илья Волуйский, Семен Маслов, и у всех у них что-то было, но у меня, как сравнишь то время и себя, ничего не было…» [119]119
Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 636.
[Закрыть]
Но все же в его душе в ту пору свершилось нечто очень важное. Он приехал в Елец еще марксистом и неделя за неделей, месяц за месяцем все дальше и дальше уходил от революционного дурмана, готовя себя к началу другой, еще неведомой жизни. Марксизм его ломался изнутри, неспешно, нехотя, и в «Кащеевой цепи» очень искусно, художественно показано, как это происходило. Это был переход от внешнего к внутреннему, или, как он сам скажет, от книжного представления о жизни к самой жизни, к личному творчеству, к подлинному и неподдельному бытию, средоточием которого и стала в дальнейшем для Пришвина литература. Позднее, в 1921 году он так определил свое отношение к Марксу и своему с ним разрыву: «Я пережил Маркса в юности. И я наверное знаю, что все, верящие теперь в Маркса, как только соприкоснутся с личным творчеством в жизни, оставят это мрачное учение». [120]120
Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 191.
[Закрыть]
Поразительная вещь: и пришвинский роман, и пришвинская жизнь – все это по большому счету история о том, как молодого человека в младенчестве напугали концом света, а потом в юности вовлекли в революцию, как он через это пострадал и как от революции отрекся, уходя в совершенно иные сферы – сюжет, прямо скажем, совершенно контрреволюционный. В Дневнике и невошедших набросках к «Кащеевой цепи» эти мотивы выражены более отчетливо, но и в романе их предостаточно, и тем не менее автор считался классиком советской литературы, роман его много раз издавался и был всеми признан, выходили книги его жены, глубоко религиозной женщины, где она вовсе не эзоповым языком писала о том же самом, о катастрофичности, гибельности революционного пути для молодежи своей эпохи. Писала сама и приводила выдержки из Дневников мужа, которые целиком при коммунистах опубликовать не могла, но зато везде, где получалось, давала убийственные выдержки.
Вот, например, приведенная ею пришвинская запись об одном из революционеров – Илье Мелитоновиче Волуйском: «Его ужас похож на пустынный татарник. Аполлона разобью! Настоящее дайте! Похабные слова при барышнях… Савонарола!» [121]121
Путь к слову. С. 66.
[Закрыть]
Илья Мелитонович – а был он сыном городского главы и любил шокировать своего папеньку и его именитых гостей тем, что встречал их у ворот собственной усадьбы в невозможной рванине жутким гоготом – куда уж там Марку Волохову! – стал впоследствии хирургом; другой революционер получил отцовское наследство на Мясницкой и вмиг сделался капиталистом: революция была для значительной части тогдашней молодежи не столько делом жизни, сколько поводом для того, чтобы всем вместе собраться и показать начальству или общественному мнению фигу. У Пришвина если и была бравада, то лишь на поверхности, и к тому же богатого отца у него не было, не было и никакого дела, и в глубине его беззаботного и бесшабашного существа, в подземной кладовой его души происходили совсем иные процессы, о которых он, возможно, и не подозревал.
Глава V
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Итак, в Ельце ему исполнилось двадцать семь, заканчивался относительно счастливый для России XIX век, век расцвета русской литературы, а до литературы моему герою было по-прежнему так далеко, что он о ней даже и не задумывался. Если отбросить все экивоки, то перед нами, попросту говоря, недоросль, никчемный, недоучившийся студент, за спиной у которого были одни несчастья, провалы и поражения, а ничего материального, практически пригодного создано не было; все это он понимал, запоминал, было отчего прийти в отчаяние, и все вокруг, казалось, нашептывало: неудачник, неудачник, неудачник. Не зря позднее Пришвин написал: «Неважно прошли у меня и детство, и отрочество, и юность, и вся молодость – все суета», [122]122
Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 339.
[Закрыть]а еще девять лет спустя добавил, что был тогда «рядовой, необразованный, претенциозный русский парень». [123]123
Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 73.
[Закрыть]
Даже опыта в отношениях с женщинами не было (или почти не было – пыталась его было соблазнить в Риге некая железнодорожная служащая Анна Харлампиевна Голикова, по прозвищу Жучка, но не соблазнила и с горя решила выйти замуж за их общего товарища по революционному кружку Романа Васильевича Кютнера; тут уж Михаил Михайлович спохватился и стал делать ей предложение, но она ему отказала и потом довольно часто снилась), зато было много рассуждений о целомудрии и чистоте, идеализма и прекрасных порывов души, по поводу чего так и хочется вспомнить Любовь Андреевну Раневскую из «Вишневого сада»: «Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..»
Чехов тут вообще очень кстати. В «Журавлиной родине» Пришвин писал: «Часто эпоха берет человека и делает его как бы засмысленным. Я начал в эпоху лишних людей, чеховских героев. Отсутствие бытия, в котором бездумно, как цветок, распускается личность художника, готово было и меня обречь на бессильное раздумье о моральном согласовании с жизнью своего действия».
И все-таки тем и отличаются по-настоящему талантливые люди, что даже свои неудачи и неуспехи умеют обратить себе на пользу для внутреннего развития, и потому напрасно эти годы для Пришвина не прошли.
Что-то исподволь, медленно, осторожно зрело в тайниках его души, что-то готовилось, ждало своего срока, и неудивительно, что позднее, размышляя о природе успеха и неуспеха, писатель занес в Дневник:
«Только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданием, иной бывает способен радоваться жизни и быть счастливым; удача – это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину». [124]124
Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 28.
[Закрыть]
В полной мере ему предстояло испытать счастье и несчастье во всех измерениях в истории своей запоздалой и очень сильной первой любви.
Произошло это не в Ельце и вообще не в России, а в Германии, куда Пришвину удалось уехать и поступить на агрономическое отделение Лейпцигского университета. Учился он опять неважно (см. Копию диплома в фототетради), да и не так учеба была важна – важнее была любовь, потому что «с этого момента начинается зачатие личности, при ярком внезапном свете (любовь) жизнь человека вступает во второе полукружие, рожденная личность (второе рождение), стремясь не быть как все, направляется к центру (эрос) (…) и так слагается движение домой, к своей самости». [125]125
Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 11.
[Закрыть]
И действительно, любовь у него получилась не как у всех!
Звали его Лауру Варварой Петровной Измалковой. Фотографии этой прекрасной дамы не сохранилось, и известно о ней не так много. Ни из Дневника, ни из воспоминаний не удается восстановить никаких достоверных сведений о самой Варваре Петровне, и только недавно, благодаря изысканиям А. Л. Гришунина, [126]126
Гришунин А. Л. Пришвин, Блок и В. П. Измалкова // Михаил Пришвин и русская культура XX века. Тюмень, 1998. С. 116–120.
[Закрыть]стало известно, что отец ее, Петр Николаевич Измалков, был действительным статским советником. Он учился в Москве на юридическом факультете, после чего переселился в Петербург, стал членом Дворянского земельного банка и – благодаря А. С. Суворину – редактором журнала «Сельское хозяйство и лесоводство» и проживал в аристократическом районе на Захарьевской улице.
В «Кащеевой цепи» Инна рассказывает о своем родителе забавную подробность: «Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особую просфору, на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переменил фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: „Помни, для меня ты вечный Чижиков!“»
Но было ли это на самом деле, утверждать не возьмется никто. Тем и коварен автобиографический роман, что реконструировать по нему события реальной жизни чрезвычайно сложно – слишком перемешаны здесь реальность и вымысел. Это касается не только истории с Измалковой, и Пришвин, хорошо это понимая и объясня свой художественный метод, написал:
«С тех пор как я задумал свой старый роман „Кащеева цепь“ сделать романом автобиографическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама правда. И это дело! А то как же без правды я удержал бы себя в автобиографическом романе героем.
Но тоже, оказывается, нельзя было оставить и правду одну без себя, без своего вымысла. Вот почему, наверное, она и постучалась.
Представляю себе на аэродроме самолет: без горючего он не летит, а торчит и ожидает, пока я не принесу свое горючее – вымысел. И как только я налил в самолет-правду горючее, так самолет поднимается на воздух. (…)
Так моя домашняя гипотеза, пособие в работе, никогда не изменяла мне: отдаешься одной правде – вымысел напомнит о себе, забудешь правду в вымысле – она постучится».
И все же что бы писатель ни утверждал, в романе, на мой взгляд, история его любви выглядит надуманнее и скучнее, чем в Дневнике, где вызревала параллельная литература. В «Кащеевой цепи» Инна Ростовцева, прототипом которой была Варвара Петровна, появляется в жизни Алпатова еще в России в качестве назначенной партией невесты (при этом что ее-то к марксистам занесло, неясно совершенно) на тюремном свидании, молодые не знают, о чем говорить, и теряют время на молчание и на ничего не значащие фразы, и только уже прощаясь, таинственная девица намекает жениху на скорое освобождение (откуда ей это может быть известно, автор также не поясняет) и обещает следующую встречу за границей, куда едет учиться.
Лица ее он не видит – оно остается под густой вуалью, и на протяжении всего романа образ женщины, столь много значившей в личной судьбе ее создателя, образ, к которому он многажды обращался в Дневнике и художественной прозе, остается практически нераскрытым. Зато подробно описывается, как безумно влюбленный герой романа ездит за своей пассией по Германии: вчера она была в Йене, а сегодня уехала в Дрезден; он бросается следом, встречается с людьми, которые ее только что видели, но не может настичь – сюжет почти тургеневский, – пока не находит наконец в Париже. Там, в Люксембургском саду, происходит несколько туманных встреч, где она рассказывает ему о своих высокопоставленных родителях, мило щебечет какую-то ерунду, оба мечутся, она с ужасом думает, как будет жених целовать руку ее матери-графине, и посылает ему взбалмошные записки.
И только в минуту сильного душевного волнения, несколько лет спустя, Пришвин дает штрихи к ее портрету: «Глаза у нее карие, этим карим заполнено все в глазу, карие на розовой коже, розовое круглое лицо, а лоб высокий, волосы как глаза, маленькая, склонная к полноте – ничего особенного! И все-таки…» [127]127
Пришвин и современность. М., 1978. С. 256.
[Закрыть]
Вообще, как мне кажется, писать женщин Пришвин не умел и, похоже, что к этому не стремился. Левитан, например, не умел писать людей, и то же самое подмечал Пришвин в творчестве своего доброго друга скульптора Коненкова, который позднее изваял памятник на его могиле. Про главный женский образ в пору создания романа Пришвин отозвался так: «Морская царевна останется, верно, за сценой, как рок в древней трагедии, ее описать и невозможно, потому что в той действительности, которую мы мерим и считаем, едва ли есть она». [128]128
Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 273.
[Закрыть]
То же самое относится и к истории любви: «Я никогда не могу описать свой роман, самую его суть… Я не могу взять море, но я могу подобрать самоцветный камешек и берегу его. Я не могу погрузиться в бездну вулкана. Но я могу собрать пемзу и остывшую лаву». [129]129
Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 64.
[Закрыть]И все же из Дневника ранних лет и писем обоих возлюбленных встает очень любопытный и вполне зримый образ.
Знакомство с Варварой Петровной Измалковой произошло благодаря пришвинской приятельнице Анне Ивановне (?) Глотовой, замужней даме, которая переживала в ту пору тяжелую драму в личной жизни, уходила и возвращалась к мужу, а немолодой студент играл роль посредника в отношениях между супругами. Она приятельствовала с Варей, и все это происходило в каком-то пансионе, где было много французов. Двое непринужденно беседовали по-русски, на столе стояли в вазе красные цветы. Пришвин потихоньку оторвал большой лепесток и положил девушке на колени…
Однако дальше этого целомудренного жеста их отношения не пошли. Они ходили вместе в театр, много говорили, и Варвара Петровна признавалась, что не могла бы жить в России среди мужиков (к чему готовился Пришвин), он приводил в ответ литературные доводы, провожал домой, философствовал, рассуждал о Канте, а однажды сделал недемократичной девушке замечание, когда в конке оказался усталый потный рабочий и дамы, зажав носы, демонстративно вышли на площадку.
– Даже если б я был аристократом, то не позволил бы себе так оскорблять рабочего.
– Я не думала, что вы такой глубокий, – ответила она, смутившись и покраснев.
И в этот момент он понял, как сильно ее любит.
«Я ее так полюбил, навсегда, что потом, не видя ее, не имея писем о ней, четыре года болел ею и моментами был безумным совершенно и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом. Я помню, что раз даже приходил к психиатру и говорил ему, что за себя не ручаюсь», – писал Пришвин в 1905 году. [130]130
Пришвин и современность. М., 1978. С. 217.
[Закрыть]
Отчего они расстались? В романе Инна хочет от Алпатова положения, за которым он отправляется в Петербург, где знакомится с ее отцом, урожденным Чижиковым, и здесь опять удивительное совпадение с Буниным и его неудавшейся женитьбой. «Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее: она, конечно, совершенно свободна, но буде пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски: я не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании», – говорит либеральный доктор в бунинском романе; в действительности отец В. В. Пащенко и вовсе употребил то же самое слово «положение», которое так мучает Алпатова. «Отец (…) хочет, чтобы мы сошлись только тогда, когда у меня будет определенное положение», [131]131
Цит. по: Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917. М., 1983. С. 36.
[Закрыть]– писал Бунин брату Юлию 19 мая 1892 года.
Но вернемся к «Кащеевой цепи». Возлюбленная главного героя в ответ на его путаные размышления о том, что его «кащеева цепь» из внешней стала внутренней, присылает ему решительное письмо, выдержанное в телеграфном, отрывистом стиле: «Слишком уважаю, чтобы отдаться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».
«Друг мой, – обращается после этого умудренный житейским опытом автор не то к герою, не то к самому себе, а не то ко всем будущим юношам, которым еще придется пережить на своем веку неизбежную любовную драму, – в любви к женщине бессильна молитва (…) Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота, и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить со всеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, не судьба».
Так сложилось в романе. Из пришвинских же дневниковых записей история получается иная. Девушка нашла что-то обидное в одной из его записок, они объяснились, целовались, а наутро она пришла к нему с письмом, где было написано, что она его не любит, хотя лицо ее выражало иное. В тот же вечер он уехал в Лейпциг и через день получил письмо из Парижа, бросился в Париж, снова Люксембургский сад, пароход на Сене, Булонский лес и наконец – расставание на каком-то кладбище.
Все эти разговоры Пришвин восстановил три года спустя в Дневнике, и так снова всплыла тень Розанова, подмигнул своему непокорному ученику странный гимназический учитель, затуманивший мальчику голову мечтами и фантазиями.
«– Вы фантазер? – спросила она с таким выражением: можно ли на вас положиться… ведь это несерьезное, это ненастоящее.
Как это больно кольнуло меня. Но я сейчас же справился и говорю ей: «Нет же, нет, я не фантазер, но пусть фантазер, но я знаю, что из моей фантазии рождается самая подлинная жизнь. Своей фантазией я переделаю, я сделаю новую жизнь…»
Боже мой, как верил я в то, что говорил, как это ясно было для меня и как хотелось мне убедить ее, заставить и ее поверить. Фантазер потому, что нет союза, нет ответа у ней…
«Но что же мы будем с вами делать?» – спросила она. «Как что? – отвечаю я. – Мы уедем с вами в родные места, поселимся вместе и будем так жить прекрасно, что Свет будет от нас исходить. Мы будем радоваться жизни, и все вокруг нас будут радоваться». (…)
На другой день все опять заколебалось. Она мне сказала: я не могу решить окончательно, кажется, вы слишком большой фантазер, чтобы на вас положиться. Вы живете повышенной жизнью, которой живут художники, артисты… Ну так что ж, говорю я, ведь это хорошо. «Конечно, – сказала она, – но, как вам сказать, в сущности же я вас вовсе не знаю». – «Да как же не знаете, я весь перед вами. Я вам могу все сказать о себе… вы должны видеть меня…»
«Вы фантазер, – сказала она, – будемте пока только друзьями».
Она ушла и назначила мне свидание на завтра.
Я пошел от нее в парк, в поле, в лес, между прудами…» [132]132
Пришвин и современность. С. 232–233.
[Закрыть]Пришвин написал это в 1905 году. Тогда он только начинал вести Дневник, из которого дошли до нас разрозненные отрывки, с трудом поддающиеся порою точной датировке, и записывать обстоятельства недавней «love-story» ему еще очень тяжело.
«Она мне сказала тогда, я люблю не ее. А между тем я не оставляю ее до сих пор. Не помню ее земного лица, но что-то люблю. Да кто же она?
Примечательно то, что все образованные, развитые женщины теперь мне почему-то неприятны… Чем выше духовный мир женщины, тем сильнее это отталкивание во мне. (…)
К той, которую я когда-то любил, я предъявил какие-то требования, которых она не могла выполнить. Мне не хотелось, я не мог унизить ее животным чувством. Я хотел найти в ней то высшее, себя, в чем бы я мог возвратиться к себе первоначальному. В этом и было мое безумие. Ей хотелось обыкновенного мужа. Она мне представилась двойною. Она сама мне говорила об этом:
– Поймите, что в действительности я одна, а та другая есть случайность. Это то лучшее, что останется с вами всегда, что вы от меня отняли.
И вот это лучшее действительно со мной. Это то, что помогает мне писать, что вдохновляет меня. Это – если бы у меня оказался талант – было бы моей «музой». Но она и бич мой».
Варваре Петровне было явно неуютно в обществе этого странного человека, она не понимала, чего он от нее хочет, томилась, пугалась и наконец решилась сказать последнее «нет».
«Она мне ответила на один миг и, когда одумалась, отказала. Это был острый удар в грудь. Я уехал от нее… Я уехал… Сердце мое было раскаленный (зачеркнуто) чугунный шар (…)» [133]133
Там же. С. 250.
[Закрыть]
Он вернулся в Россию, с горя сошелся с другой женщиной, стал отцом, потом ребенок умер, но и после всего пережитого Пришвин не забывал Варвару Петровну и несколько лет спустя, когда был уже фактически женат, неожиданно получил от нее письмо, в котором она сообщила ему о своем приезде в Петербург и назначила свидание. Ему было откуда-то известно, что она собиралась выйти замуж за профессора в Берлине, но в последний момент передумала и профессору отказала.
Все могло решиться в одночасье…
Позднее Пришвин предполагал, что полученная им записка «имела целью ликвидировать все серьезное каким-нибудь легким концом», то есть флиртом, но тогда он так не считал и от отчаяния рвал на голове волосы.
И было отчего: судьбе не было угодно, чтобы они встретились. Несчастный влюбленный, словно рассеянный профессор, перепутал день встречи и явился на вокзал сутки спустя назначенного свидания, когда окончательно и бесповоротно разгневанная Варвара Петровна уже уехала навсегда – «мне только случайно не удалось попасть на этот пир, и, вероятней всего, был заменен кем-нибудь другим, может быть, третьим, но это уж, конечно, ликвидация». [134]134
Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 332.
[Закрыть]
«Что было бы, если бы я сошелся с этой женщиной. Непременное несчастье: разрыв, ряд глупостей. Но если бы (что было бы чудо) мы устроились… да нет, мы бы не устроились». [135]135
Пришвин и современность. С. 219.
[Закрыть]
Он, правда, очень ее любил. Все, что ни было важного в пришвинской жизни, второстепенно по сравнению с историей этой любви, а вернее, берет из нее начало и к ней возвращается: и литература, и секты, и декаденты, и революция, и охота, и скитания по стране, и несчастная семейная жизнь.
В 30-е годы, в ернических и серьезных одновременно размышлениях о загробной жизни, Пришвин написал с невероятной тоскою, ощущая, как проходит без любви жизнь: «Только вот одна невеста моя, с ней бы я встретился, я бы все отдал за это, я готов до конца жизни на железной сковороде прыгать или мерзнуть, лишь бы знать, что на том свете с ней встречусь и обнимусь». [136]136
Пришвин М. М. Дневник 1931–1932 годов // Октябрь. 1990. № 1. С. 177.
[Закрыть]
Она не принесла ему мужского счастья (если только есть такое понятие в противовес счастью женскому), даже не так – он сам этого не захотел – она-то была готова; но вместо того разбудила в нем поэта, и он проклинал и благословлял судьбу одновременно за то, что так произошло – вот еще одна причина вечной пришвинской раздвоенности и противоречивости и такого страстного стремления к цельности.
Уже будучи пожилым человеком, вспоминая свою жизнь и подводя некоторые предварительные ее итоги, Пришвин записал в Дневнике:
«Голос „прозевал“ говорил мне о девушке, которая откинулась в кресле, закрыла глаза, вдруг вспыхнула и прошептала: „За такое чувство можно все отдать“. А я ей читал в это время с бумажки исповедь своей любви к ней, все видел и почему-то не смел. И так прозевал я, пропустил навсегда единственную, предоставленную мне минуту блаженства в жизни самой по себе. Так было назначено мне – променять жизнь свою на бумажку». [137]137
Там же. С. 168.
[Закрыть]
Да он просто обязан был после этого стать писателем, все к тому шло, и за писательством, как за волшебным колобком, устремился Пришвин, отталкивая свою любовь, но это понимание пришло позднее, а тогда, в год первой русской революции, когда рана была еще свежа и неясен смысл страдания, молодой влюбленный человек признавался:
«Я люблю тень той женщины и не знаю, мог бы узнать на улице или нет. Я по привычке всегда ищу ее глазами в петербургской толпе, но никогда не нахожу. В последнее время я два раза встречал на Невском женщину в черном, очень похожую на нее, необыкновенно похожую, но, кажется, чуть-чуть выше. Впрочем, я мог бы ее найти, и очень просто. Но я этого не делаю. Для чего? Это значит не признавать настоящего, а мне подчас кажется, что я свой minimum спокойствия, похожего на частицу счастья, сковал с громадной энергией и мужеством; так я думаю иногда, но иногда считаю эти мысли самообманом, иллюзией, без которой не могу жить.
Теперь мне 32 года, но я решительно ничего не имею. Время от времени меня влекут мечты, но они проходят, а пустое место заполняется снова. Но она мне сама говорила, что не стоит меня, она была искренна со мной, как ни с кем. Я читал ее дневники, заветные, никому не открытые думы. Я ее знаю больше, чем они». [138]138
Пришвин и современность. С. 219–220.
[Закрыть]
В 1912 году – то есть десять лет спустя после разрыва – довольно известный писатель (у Пришвина в том году вышло в горьковском «Знании» первое собрание сочинений) с трепетом в душе послал ей свои книги и надписал их: «Помните свои слова: – Мое лучшее, да, лучшее, навсегда останется с вами! Забыли?.. А я храню ваш завет: лучшее со мной. Привет от Вашего лучшего». [139]139
Там же. С. 212.
[Закрыть]
И вот ответное письмо.
Что же пишет эта загадочная женщина? Благодарит? Удивляется? Кусает локти и жалеет о своей суровости?
Ничего подобного!
«Я получила Ваше письмо и книги, но не ответила Вам сразу, потому что надпись на одной из книг возмутила меня.
По какому праву берете Вы на себя монополию на то, что есть во мне «лучшего»? Поверьте, Михаил Михайлович, мое «лучшее» осталось при мне и было и будет со мной всю жизнь, потому что не может один человек отнять от другого то неотделимое и невесомое, которое называется «лучшим». А разве может женщина с седеющими волосами быть ответственной за слова и поступки двадцатилетней полудевочки? Годы, пропасть, Михаил Михайлович, и если бы мы с Вами встретились теперь, то мы друг друга не узнали бы (…)» [140]140
Там же. С. 254.
[Закрыть]
Это возмущение, достойный тон письма (здесь я решительно не соглашаюсь с уважаемым Валентином Курбатовым, назвавшим ответ Измалковой «бухгалтерски скучным и мертвым») характеризуют пришвинскую возлюбленную лучше любого романа независимо от того, как были в нем перемешаны правда и вымысел. Она не хотела быть мечтой: ни Прекрасной Дамой, ни Марьей Моревной, она не хотела быть художественным образом или материалом, из которого можно такой образ вылепить, – она была обычная и тем, наверное, действительно чудесная женщина, похоже несчастливая, резкая, прямая; она была личностью и как когда-то, в случае с Розановым, здесь снова столкнулись два самолюбия и столкновение это оказалось трагическим.
Дело не в глухоте «не к одному настоящему, но и к себе давней», а в том, что ей было очень худо в то время. Ведь Варваре Петровне всего тридцать, а пишет она так, словно большая часть жизни прожита и никаких надежд на лучшую долю нет, и ничего кроме раздражения и досады этот странный человек, попавшийся когда-то на ее пути, сбивший ее с толку, у нее не вызывает – она слишком занята собой и своей болью и слишком трезво, не по-пришвински смотрит на жизнь.
Но Пришвин, Пришвин, который так этого часа ждал, был задет и как мужчина, и как писатель ее угрюмым, каким-то даже брезгливым, обывательским отзывом на его литературные достоинства: «Про Вашу книгу ничего сказать не могу. Мы с вами говорим разными языками, и мне при моей крайней утилитарности жизни трудно даже настроить свою душу так, чтобы читать с пониманием о психологии людей столь далеких от меня во всех отношениях. Я ничего кроме английских газет и книг не читаю.
Почему Вы не пишете о чем-нибудь более ежедневном и близком».
Это письмо и этот вопрос не остались без ответа. Пришвин мучился, черкал бумагу и наконец выдал довольно пространный и странный текст (самую пространную и странную часть которого лучше опустить, потому что к делу прямо она не относится и заведет в такие дебри психоаналитики, из которых уже и не выбраться):
«Ваше письмо получил. Оно было для меня страшное. Беру большой лист, чтобы хоть сколько-нибудь сделать себя понятным. Вы спрашиваете, отчего я не пишу о чем-нибудь ежедневном и близком. Как художник, я должен сливать это ежедневно-близкое с далекими близкими. А мое близкое так далеко, что для воплощения его я должен искать людей и природу необычную.
Меня смешит иногда, когда я читаю статьи моих противников, спорящих о моей «позиции». Вы были всегда моей единственной «позицией». А Вы далеко, вот почему я не пишу о том, чего Вы хотите. (…)
Мне было очень больно, Варвара Петровна, что Вы не поняли мою надпись на книге. Я думал о том, «лучшем» детском, которое весь мир бросает как ненужное нам, мечтателям, поэтам и художникам, и мы возвращаем его миру обратно. Я же у Вас ничего не отнимал, а просто подобрал ненужное Вам (это Вы и теперь не цените) и назвал его своим и Вашим «лучшим». (…)
Я потому называю страшным Ваше письмо, что оно пустое, голое, как скелет, и в то же время искреннее (скелеты самые искренние).
Теперь Вы, надеюсь, поняли смысл «возмутительной» надписи, но я признаю, что мысль моя выражена в надписи неясно и как-то задорно очень, и потому прошу вас вырезать эту страницу. Скелетных писем мне больше не нужно от Вас. Но я напишу Вам теперь еще лет через десять и пришлю Вам основную книгу, эта книга будет о Вас самой, и Вы тогда, совершенно седая, как императрица Мария Федоровна, поймете наконец, что значит: «привет от Вашего лучшего». Рыцарь Максим.
P. S. Эту книгу напишет рыцарь Максим, и книга эта будет знаменитой. Это совершенно серьезно (потому что в ней же все мое счастье и горе будет)». [141]141
Там же. С. 254–256.
[Закрыть]
Какой уж тут рыцарь? Скелетным можно было бы назвать пришвинский жесткий и подростковый обиженный ответ… Но переписка их на этом прекратилась, и никогда больше они не встречались, хотя встретиться, случайно или намеренно, могли.
Пройдут еще те самые десять лет, через которые Пришвин грозился ошеломить седую, как императрица, свою возлюбленную, и умудренный писатель, теперь уже никого не осуждая, совершенно иначе взглянет на эту ситуацию и напишет о своем первом любовном романе: «Он обобрал ее как девушку совершенно, взял с собой всю ее девичью душу и не дотронулся даже до тела, а потом, через десять лет, когда она совершенно высохла в бюро и поседела даже, то послал ей копию с его картины – портрет ее прекрасной души, – какое можно выдумать большее оскорбление! Между тем, он был искренним, потому что он был художник и считал, что остановленное мгновение жизни дороже проходящего. Она же и была вся там, в этом проходящем мгновенье (Для чего ее разбудили!)». [142]142
Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 136.
[Закрыть]








