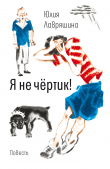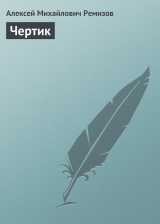
Текст книги "Чертик"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Единственный гость у Дивилиных – тараканомор Павел Федоров.
Дети хоронились от тараканщика, и тараканщик не любил детей.
– Поганое, – говорил тараканщик, – дьявольское семя. Зачаты во грехе, грехом насыщены, грех плодят. Поганое.
На дворе росло репею видимо-невидимо, и Дениска урывками, когда удавалось незаметно проскользнуть от Яги, собирал колючих собак и незаметно сажал этих собак тараканомору на самые непоказанные места.
Если было когда-либо такое поразительное сходство человечьего лица с собачьей мордой, так именно у Павла Федорова. Да большего сходства, наверное, и никогда не было. Ну прямо собака и собака. Заросший весь, поджарый, зубастый, и не голос, а глухой лай. Пес сопатый.
Павел Федоров ходил по известным купеческим домам и там морил тараканов. Через плечо висела у него черная кожаная сумка с белым ядом, а в руках – палка с кожаным наконечником.
Наконечник он обмазывал свиным салом, вынимал из сумки баночку с белым порошком, осторожно открывал крышку и макал туда палку. Потом шептал какое-то тараканье слово и приступал. Он ходил по стене. Где водились тараканы, и медленно прикладывал свой наконечник, так что вся стена покрывалась беленькими кружочками вроде огненных белых языков. Медленно прикладывал тараканщик наконечником, да с расстановкою и со вкусом. И тараканы, уж не боясь света, ползли на приманку и ели белые кружочки, ползли из всех потайных гнезд, из всех щелей и подщелей с малыми детьми, с яйцами и ели белые кружочки. Наевшись, сонно уползали они назад в гнезда, щели и подщели, чтобы уж никогда не выйти не только при свете, но и в самый разгар усатой тараканьей жизни – в ночную пору.
Тараканомор считал свое дело большим и важным. Словно бы в тараканьем шуршанье мерещился ему сам Дьявол, а побороть Дьявола, стереть Дьявола с лица земли было главным и первым заветом тараканомора.
И, отрываясь от работы, он только и говорил о главном:
– Вся земля в плену у нечистого, все проникнуто его сетями, всюду его сатанинские лапы. Дети родятся не для славословия – поганое семя! – они родятся, чтобы творить козни Дьявола. И конец уж идет, прогнивает земля от нечистот и пакости. И время уже близится… Дьявол и все сети его станут явными, ибо скрываться ему уже не к чему. Обречена земля, умирают последние праведники, расплождаются, как песок морской, сыны бесовские. Скрываться уж не к чему. Сядет он на престол, как царь и судия, начнет повелевать и судить от моря до моря рабов своих и обратит царство свое в ад кромешный с огнем неугасимым и червем неосыпающимся.
Тараканщик так лицом к лицу никогда не видал Дьявола. А стань Дьявол перед ним, тараканщик не устрашился бы вступить в борьбу.
Поморив тараканов, Павел Федоров закрывал свою баночку, убирал ее в сумку, вешал сумку через плечо и принимался за палку, в трех кипятках обмывал наконечник, вытирал сухою тряпкой, ставил палку в сенях, потом, плескаясь и фыркая, мыл себе руки и бороду и под бородою, шептал опять тараканье отпускное слово и, помолившись, садился за стол пить чай со сливным вареньем.
Не дай Бог, чтобы варенье не так было сварено, как любил тараканщик.
За стол не сядет и выговорит.
– Ты сливу разрежь сперва пополам, посыпь ее сахаром, да ставь сковородку на ночь в печь, да наутро вынь из печи и начинай варить. Тогда слива к сливе, что таракан к таракану, будет отдельно.
Возьмет тараканщик свою палку, нахлобучит шапку и уйдет. И ты его проси не проси, ни за что в сердцах не вернется.
А если все оказывалось в исправности, тут за чаем начинался разговор о главном.
И изливают хозяева душу, перебирая все горести и беды своей семейной жизни.
– Поганое, – лает тараканщик, – все поганое.
И куда бы он ни пришел, что бы он ни услышал, кого бы ни увидал, ему от всего отзывало поганью, скверным духом, – мерещился Дьявол.
Но самого Дьявола так лицом к лицу он никогда не видал. И если бы Дьявол явился к нему, тараканщик не устрашился бы и – верил, он верил, одолел бы Его.
Если бы Дьявол явился к нему!
Жизнь Павла Федорова проходила в моренье тараканов. Так, не по делу, он никуда не заходил, исключая Дивилиных. И только иногда, а случалось это не больше пяти-шести раз в году, он сдергивал с себя черную сумку с белым ядом и куда ни попало швырял свою палку с кожаным наконечником.
Это приходило совсем неожиданно. Суровость и мрачность вдруг достигали какой-то своей последней точки. Он начинал весь дрожать, глаза застилало, зубы скалились. Какой-то собачий вой подымался в груди, и если б тогда привязать его на цепь, он завыл бы собакой. Он запирал все двери, завешивал занавески, шарил по углам, засматривал под кровать – его тянуло, он трогал полые предметы, вынимал стаканы, чашки, снимал ламповые стекла – его тянуло, душа его горела, сердце стукало, нутро выворачивалось.
Стуча зубами, как в лихорадке, наконец вырывался тараканщик из комнаты и шел, окутанный мутью, с тяжелой тупой головой, а мозг его придавливало, будто лежал на нем какой-то плотный слой какой-то коры. Слепо добирался тараканщик до зверинца. Там, в зверинце, молча бродил он от клетки до клетки, от кролика к морской корове, от обезьяны к слону. Потом также молча и слепо, когда темнело, покидал он зверинец, выходил на главную улицу, а на улице уж пробуждалась ночная открытая жизнь. Шел он все напряженнее и беспокойнее, глядя перед собою, не давая дороги, не сторонясь, не уступая, напролом. И если бы нелегкая подтолкнула остановить его, трудно ручаться, что бы тут же не задушил он, а будь при нем нож, не зарезал бы негодяя. И так он шел по улице медленнее и медленнее, пока вдруг не застывал на месте: тогда первая попавшаяся женщина была обречена. Он не вел, а волок ее, тащил в какой-нибудь номер или комнату. Там набрасывался – брось голодной собаке кость, как она набросится! или рыбу… с костями, с кожей, с внутренностями, и, урча и сопя, все схряпает, загрызет с костями, с кожей, с внутренностями поганое лакомое мясо, и было в этом что-то страшное и головокружительное и продолжалось целые часы, целую ночь.
Молча, не глядя, покидал тараканщик не человека, не женщину, молча, не глядя, покидал тараканщик труп и шел себе домой, чтобы заснуть мертвым сном и, выспавшись, начать жизнь обычную и работу – морить тараканов.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Приключения тараканомора оставались глубокою тайной. Как загадочные истории, они нет-нет и выплывали на свет, но никто не поверил бы, что все это – его дело рук. Все считали тараканщика за необыкновенного и не простого, но чтобы такое делать… да никому и в голову не придет.
Тараканщик у всякого на языке. За последнее время стали немало занимать его посещения Дивилиных: ни к кому без дела порога не переступит, а к Дивилиным – накось! – каждую субботу обязательно. А дом глухой, не подступишься, и нет возможности узнать, чем он там занимается. А уж очень всем любопытно было знать, чем он там занимается.
Кто-то смеялся:
– В доме все уж давно перемерли, и ни одной ноздри не осталось, а наместо людей тараканы завелись, с этими тараканами тараканщик и водит компанию; вот какой хлюст!
– А Дениска? – возражали смехачу. – Ведь шляется же мальчишка всякий день в гимназию!
Нет, шутки в сторону, шутками тут не отделаешься. И начинались догадки. Вспоминали самого старика – утопленника. Без утопленника не могло обойтись.
Говорили:
– Утопленник и не думал помирать, утопленник жив и находится в великом затворе, только с тараканщиком что и водится.
Говорили:
– Тараканщик с Дивилиными бабами новую веру хочет объявить.
А другие говорили:
– Никакой веры тараканщик сделать не может, все веры уж сделаны, а просто живет он с дивилинскими бабами; с Глафирою полюбовно, а со старухою, как с малым дитем, обманом.
– Да он и не человек вовсе, – замечали хитрецы, – нешто человеку дана власть над тварью, а ему таракан повинуется.
– Таракан, не корова, – встревался встревальщик, – корова ли, лошадь ли, овца ли, баран ли и прочий скот, все они Богом благословенны на служение человеку, таракан же не в воле человека, о таракане да о мышах нигде не сказано.
Находились бабы, уверяли бабы, будто они собственными глазами видели, как тараканщик превращался в таракана, и затем собственными ушами слышали, как хрюкал он по-свинячьи.
– При чем же тут свинья, – унимал догадливый догадливых баб, – дело не в свинье, и свинья ни при чем, а вот куда девался старшой утопленников сынишка Борис?
– С книг.
– Конечно, с книг. Да с каких книг? С простой не сгинешь: черную он читал книгу.
– А откуда она к нему попала?
– От утопленника.
– А утопленник откуда достал?
– Ну, утопленник на то и утопленник.
– Никакой черной книги нет.
– Как нет?!
– Да так, очень просто, нет и нет.
– Нет, говоришь, значит, по-твоему, и Бога нет?!
И если бы не Федосей, отколошматили бы беднягу, до новых веников не забыть.
Федосей – мудрый, слова от него не добьешься, а уж если начнет, за словом в карман не полезет.
– Черная книга есть, – отчеканил Федосей, и все язык прикусили, – черную книгу написал Змий, от Змия перешла она Каину, от Каина Хаму. А когда пришел потоп, Хам скрыл книгу в камне. А когда кончился потоп, вышел Хам из ковчега, пошел к камню, отвалил камень, вынул книгу и передал ее сыну своему Ханаану. И пошла книга от сына к сыну в род Хамов. И задумали сыны Хама насмеяться над Богом, как отец Хам насмеялся над своим отцом Ноем. Задумали сыны Хама построить великую семи лучей башню, соединить разделенное Богом – небо и землю. Но разгневался Бог, смешал языки, рассеял людей по лицу земли, и попала книга в Содом. И не было преступления, которое не совершил бы проклятый город. Провалился проклятый город, канули грехи и злодеяния, но книгу не приняло проклятое озеро и огонь не попалил ее. Досталась книга Навуходоносору-царю. И творились всякие беззакония. И творились всякие беззакония сорок два века человеческих, пока не разрушены были царства и не попала книга на дно морское. Там, под горючим Алатырем камнем, лежала книга невесть сколько. И вот один араб за великие грехи свои взят был в плен праведным царем и заключен в медную башню. Но Дьявол полюбил араба, научил араба, как достать книгу. Чарами колдовскими сожжен был праведный город, погиб праведный царь и все его христолюбивое воинство, и вышел тот самый араб из медной башни, спустился на дно морское и достал со дна морского черную книгу. И пошла она гулять по белому свету, пока не заклали ее в стены Сухаревой башни. До сей поры она лежит там, и не было еще никого, кто бы сумел достать ее из стен Сухаревой башни. Она связана страшным проклятием на девять тысяч лет с тысячею.
– Да как же он пробрался в стену-то, с пустыми руками к этому предмету не подступиться?
– А утопленник-то на что, э-эх ты, голова!
– И совсем не утопленник, а тараканщик.
– Конечно, тараканщик! – загалдели все в один голос.
– Да будет вам огород городить, – вступился здравый человек, – какую вы такую загадку разгадываете, когда все ясно, как Божий день. Дивилины, слава Богу, не щепотники[8]8
Щепотники – те, кто крестится щепотью, тремя пальцами (так старообрядцы именуют сторонников официального православия).
[Закрыть], закон чтят, службу-то править надо, тоже собакой жить не полагается, вот тараканщик и ходит к ним службы отправлять и больше ничего.
– Бабы-то уж очень подозрительны… – усумнился который-то.
– Наладил: бабы да бабы, а сам хуже бабы!
– Старуха Аграфена с нечистым, говорят, зналась и старшого, которому пропасть, понесла от черта, да и эта их Глафира сущая Яга.
– И по какой такой причине утопленникова внучка Антонина безногая сидит? Нет, тут что-то неладно.
Снова начинались догадки. Трепался язык вовсю. И ссорились, и дрались, и опять мирились. Приплеталось и совсем неподходяшее. Даже совсем неподходящее.
Был один человек ихнего же толка, который не только книги читал, но и сам что-то писал божественное. Ходили к нему за расспросами, но ничего не узнали, только еще больше запутались. Человек этот такое им загнул словечко, поджилки затряслись и бороды сгунявились.
– Может статься, и Миша-то у нас того, не тараканьим ли делом промышлять стал! – не решив недоуменного вопроса, порешили.
Были и такие дотошные, выслеживать стали, кто в дом к Дивилиным ходит, но никого, кроме тараканомора, не встретили.
И согласились все на одном, что творится в доме что-то чудесное. И с течением времени никто уж не сомневался, что в доме нечисто.
Но что в доме делается, ни одной душе не было открыто.
Всякую субботу к Дивилиным приходил тараканомор Павел Федоров. Все сходились в образную. Павел Федоров облачался, и начиналась служба. Служба длилась долго. И когда кончалась всенощная, утомленную Антонину почти на руках уводила Глафира в детскую, а Дениску шлепками прогоняли спать. Утром в воскресенье совершалась обедня. После службы обедали. И тараканомор уходил к себе домой.
Вот и все.
Так было при покойном старике. Так было и теперь, после его смерти. Тогда утопленник был за священника, а тараканомор за дьякона, теперь за священника был тараканомор, а за дьякона ходила Глафира-Яга.
Вот и все.
Службы совершались чин чином по уставу со всею строгостью, какая только отцами когда-либо положена была. Служил тараканщик с оттяжкою и гнусил на весь дом, благо еще стены толстые, а то бы в реке всех рыб посмутил. У тараканщика лестовка ременная: лапостки алые с белыми и голубыми веточками, у Яги на лестовке лапостки черного бархата с синим ободком и все золотом расшитые, горят при свечах, что звездочки.
Вот и все.
А люди… люди чего не наскажут!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Однажды после долгой всенощной Дениску прогнали спать. Лег Дениска, а спать что-то не хочется. Вот он лежал-лежал, покликал было Антонину. Антонина не отзывается, сопит, – так истощали ее все эти стояния и поклоны. Делать нечего, встал Дениска, походил по комнате, и взбрело ему в голову в потемках по дому побродить, а если придется, и Ягу попугать. Ягу попугать, чтобы вперед не подзатылила. И, держа в голове, как бы все это лучше обделать, вышел Дениска из детской, спустился с лестницы и уж хотел отворить дверь в коридорчик, окружавший женскую половину, да только дверь не поддается, дверь оказалась заперта. Что за оказия? Походил он вокруг. Приставил ухо к замочной скважине, – ничего не слыхать. Зашел с другого конца, и опять та же история. Так и пошел ни с чем.
И долго Дениска ворочался, все головою раскидывал: отчего это дверь заперта – никогда дверь не запиралась, – и ничего не слышно, хоть бы вот этакий комариный зуд. И снились Дениске всю ночь страшные разбойники, хотели разбойники не то живьем его проглотить, не то отрубить ему голову, – словом, что-то страшное сделать. Но Дениска не трусливого десятка, укусил главного разбойника за палец и проснулся.
«Это дело нужно разведать; так оставить его нельзя!» – порешил Дениска и, сговорившись с Антониной, притворился на следующую субботу больным. И чесался-то он, и ерзал, и перхал, и глаза муслил, и рука-то у него онемела, и все части непоказанные сохнут, и в голове-то где-то в самом мозгу свербит, что страсть, и в ушах такой звон, – куда звон у Ивана Великого! Ко всенощной его, конечно, не тронули, куда такого тронешь: прямо на ладан дышит.
А когда началась служба, Дениска шасть с кровати, спрыгнул да со всех ног в коридорчик, ключ от одной двери и прикарманил. Воротился опять в детскую, улегся, лежит. Кончилась служба, Яга привела Антонину, а он себе мечется весь, будто в жару лютом, и кукишки кажет, и язык высовывает. Притворила Яга дверь, помешкала на площадке у детской и спустилась вниз. И все в доме затихло.
Вот выждал Дениска время да тихонько в коридорчик к двери. Думает себе, так сейчас все и увидит, потирает руки от удовольствия. Ан нет, не тут-то, – толкнулся, а дверь-то не отворяется – заставлена. Осмотрел Дениска все тщательно, понапер грудью – маленькую щелку сделал, да в щелку и юркнул. И пошел. Столовую прошел, шкапную прошел, заглянул в боковые – нет ничего, темно, обогнул Ягиную комнату, малую молельню и к образной. Приставил ухо к образной и слышит: долбит тараканщик, а о чем долбит – ничего не поймешь. Долбит и долбит. И опять тихо. И опять долбит, что твой дятел. Пождал Дениска, послушал и только что уходить собрался, как вдруг откуда ни возьмись чья-то огромная нога – хвать его сапожищем и наступила. Хорошо, что у Дениски железная грудь, а то только мокренько бы стало, проломил бы его сапог, как пить дал. Дениска свернулся в горошину, зажмурился да по полу ползком, по полу и покатился, докатился до двери, да в щелку, да в коридорчик, да по лестнице в детскую бух на кровать. А в ушах так и долбит и долбит тараканщик.
Что за чудеса? Много Дениска с Антониной ломали голову. Подступал Дениска к бабиньке, и так и сяк приставал к старухе, но старуха ни полслова, хоть бы что, только молится да вздыхает, молится да вздыхает. О чем молится? – О грехах. – Да о каких грехах?
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Слух о том, что в доме Дивилиных неладно, исколесив много дорог, дошел и до гимназии.
Учитель географии, по прозванию Мокрица, будто случайно, спросил Дениску:
– Эй ты, как тебя, Дивилин, что ли, каких это у вас там в доме чертей вызывают?
Дениска Мокрице язык высунул.
Мокрица рассвирепел: заставил Дениску простоять битый час, не двигаясь, и сам стоял против Дениски и, не спуская глаз, следил за ним. И Дениска, выпятив свою железную грудь, выстоял час, не только не шевелясь, но и не сморгнув ни разу. Не потому, чтобы боялся Мокрицы и слушался, а просто из ухарства и упрямства.
«И выстою, что – выкуси – а?!» – каменел каждый мускул на его детском нежном лице.
Но Мокрицей дело не кончилось. Позвали Дениску к директору. Когда звали ученика к директору, это означало, что просто уж решено выгнать из гимназии. С тем пошел и Дениска.
Директор долго морил Дениску. Дениска стоял и смотрел на директора. Бритая директорская губа то поднималась, показывая волчий клык, то прикусывалась без остатка.
– Чем занимаются твои родители? – не глядя, спросил директор.
– Отец помер, – ответил Дениска.
– Чем занимаются твои родители в настоящее время?
– Капусту рубят.
Директор скосился.
– Я тебя про капусту не спрашиваю… – забарабанил директорский палец.
Дениска молчал.
– Ты у меня позанимаешься, наглый мальчишка! – уж грозился директорский палец, а острый камень перстня, сверкнув, кольнул прямо в глаза. – Остаться после уроков.
Призадумался Дениска пуще прежнего. Отпирал он запрятанный ключом дверь коридорчика, проникал к образной, прислушивался, слышал долбню тараканщика и только.
Тут на грех пошли истории в гимназии, да такие, не было уж возможности продолжать свои наблюдения. Много суббот пришлось Дениске отстаиваться в карцере.
И все из-за пустяка.
Как-то на большой перемене, пробегая мимо инспектора, Дениска, столкнувшись с ним нос к носу, крикнул:
– Леонид Францевич, в каком у меня ухе звенит?
– В левом, – ответил, не задумавшись, инспектор и вдруг побагровел весь: так ошеломил его Дениска своим неожиданным, недопустимым, прямо невозможным вопросом.
И за этот-то самый вопрос, а скорее за то, что инспектор ответил ему на недопустимый вопрос, наказали его жестоко. В карцере Дениска не отсиживался, а отстаивался. Стоял столпом, как велел директор, руки по швам, голову так. И старичок швейцар Герасим, хмуря седые солдатские брови, тоже стоял и наблюдал в окошечко, словно бы под туркой. Дениска стоял, а сам думал, что же это такое происходит в доме у них, и все даже спрашивают, и всем интересно знать, а он не только не знает, а и узнать ничего не может?
И возвращаясь поздним вечером из карцера и не попадая уж к обеду, измытаренный после долгой всенощной, Дениска подолгу разговаривал с Антониной и гадал, и все об одном, о доме, что за причина завелась у них в доме?
Антонина как-то сказала:
– Может быть, они там детей делают…
– Детей не так делают, – ответил серьезно Дениска, – ты ничего тут не понимаешь.
– Ну тогда что же можно еще делать? – поправилась Антонина. – Карт в дому нет, отобрал тараканщик.
– Не люблю я эту собаку, такая собака, – огрызнулся Дениска.
– А по-твоему бабинька… – растягивая и что-то свое соображая, перевела Антонина.
– Бабинька помешанная.
– Грех так, она тебе мать.
– Кто?
– Бабинька.
– А твоя мать – Яга.
Антонина не ответила, только нехорошо сдвинула бровки.
– Яга говорит, будто твой отец от книг пропал, конечно – Яга, от книг учителя делаются.
– Я тоже не люблю тараканщика, – сказала Антонина.
– А знаешь, Антонина, я придумал. Я влезу в окошко.
– В окошко не видно, – покачала головой Антонина.
– Тогда вот что… я… Антонинка! Я просверлю дырку в образной, так, маленькую дырку.
Девочка сверкнула глазами:
– И все увидишь.
– Конечно, увижу, да как еще!
– И мне расскажешь?
Ударили по рукам.
А в доме принимались предосторожности. Слухи ли по городу, либо еще какие подозрения, либо просто сердце подсказывало: теперь не только вечерами в субботу, но и в обыкновенное время запирались все двери и все комнаты, так что проникнуть в коридорчик никакой или почти никакой не было возможности.
Глафира ягела, тараканщик чертенел. Одна старуха Аграфена безропотно, безмятежно все молилась да вздыхала, молилась да вздыхала.
А все же как-никак, а под разными предлогами удавалось Дениске урывать минуты и ковырять в двери дырку. Целые недели старался, и к одной из суббот дырка поспела.
Как Дениска выстоял всенощную, одному Богу известно.
И когда все затихло, он спустился из детской, отпер своим ключом дверь, пробрался в коридорчик и через столовую, шкапную, боковую – прямо к дырке.
Антонина не могла заснуть ждавши. Битый час ждала она Дениску. Калечные мысли проходили в ее голове, отвратительные, недетские – калечные, и дразнили, и приманивали, и ужасом подымали волосы, и щемили ее больные места. Тянулись минуты, они тоже, казалось, на костылях шли.
Сломя голову прискакал Дениска в детскую.
– Знаешь, что они делают?
– Что? – испуганно спросила Антонина.
– Они молятся.
Антонина заплакала. Так ее измучили калечные мысли и ожидание чего-то страшного и необыкновенного.
А Дениска больше не знал покоя. Одна мысль точила его, он все думал и думал: да чем бы это насолить тараканщику и Яге заодно, какую бы такую штуку придумать, чего бы такое им подстроить, когда они молятся?
Так проходили вечера за вечерами.
Все валилось из рук. Сколько Дениска бумаги перевел зря: начнет рисовать и разорвет.
– Они молятся, – повторял он и спохватывался, цепляясь за что-то, за какую-то дорожку, которая вела его к уморительной каверзе, – они стоят все трое рядом… они целуются… эта собака и Яга… они молятся…
– О чем же они молятся?
– Молятся. Видно только, как губы их раскрываются, и потом хлест лестовок, хлещутся.
Антонина насторожилась.
– А если… Антонина, знаешь, я придумал, Антонинка! В эту субботу я проберусь в образную… – И Дениска затрясся весь от хохота и горел весь от мысли, мелькнувшей в бедовой его голове. – Понимаешь, Антонинка? Ты понимаешь? – И шепотом на самое ухо он сказал что-то Антонине, покосился на дверь, потер себе руки от удовольствия и, схватив со стола снимку, принялся жевать ее во все скулы с наслаждением.
Красные пятна вспыхнули на бледном личике девочки, загорелись глаза смехом и слезами, и она вдруг захохотала и хохотала, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать, и вся подпрыгивала, и костыли за спиною прыгали.
– Он? – подмигнул Дениска, вынимая изо рта снимку и принимаясь выделывать из снимки какую-то странную дьявольскую фигуру.
– Он! – хохотала вся в слезах Антонина.