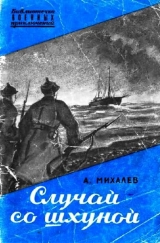
Текст книги "Случай со шхуной"
Автор книги: Алексей Михалев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Дай-ка топор, – сказал он Азабаеву. Тот подал.
– Дай полотенце, – продолжал Васильев.
Азабаев стал искать полотенце. «Р-раз!» услышал он удар топора, повернулся и с ужасом отпрянул: отмороженная половина ступни валялась на полу, из обрубленной ноги хлынула кровь, а Васильев спокойно клал топор рядом с собой.
Азабаев вывез из Америки только золотые зубы и привычку ежедневно бриться. Не брезгуя ничем, он всяческими путями пробовал достичь в Америке богатства и при этом испытал ряд превращений: из рабочего на прииске стал старателем, разбогател, владел прииском, разорился; служил по найму солдатом; был владельцем бара, прогорел; работал посыльным, грузчиком, возчиком; поступил в сыщики, нажился и открыл публичный дом; подвергся ограблению, сам занялся грабежами, попал в тюрьму; освободившись, уехал на Чукотку. Высокий, поджарый, с горящими глазами, он походил на поджавшего хвост волка.
Выделялись мужественной красотой и достоинством медлительных движений трое братьев Алихановых. Родившись в семье рудокопов на Кавказе, они шахтёрами работали в Америке. По приезде В Анадырь Алихановы не поехали в верховья какой-либо реки, как это все делали, а, переправившись на левый берег лимана, стали что-то искать по невысоким холмам.
– Эй, парни, у вас мозги набекрень свернулись, что ли?! – удивлённо кричали им. – Что вы надеетесь найти здесь?
– Золото. Чёрное золото, – спокойно отвечали братья. И они нашли его.
До появления Алихановых уголь для отопления завозился в Анадырь из Владивостока. И вот эти осетины, да ещё поляк Стасевич – с виду немощный, но очень живучий старик – начали добывать уголь в Анадыре. Их шахты на левом берегу лимана скорее походили на медвежьи берлоги; кроме лопат и кайла, никаких орудий не было, но угля они давали достаточно. И благодаря им завоз дорогостоящего сучанского угля прекратился.
Выделялся среди золотоискателей своим самомнением, несусветным хвастовством и высоким ростом – выше Кравченко – старик Мирошниченко, прямой, как мачта.
Была тут ещё компания: агроном, механик и два студента-электрика, которых сюда привела и не давала покоя мечта об анадырском золоте. Но пока его не было. И агроном служил сторожем во вновь построенном клубе, а студенты возили на собаках уголь. Это были личности с убеждениями, стремлениями, взглядами и… неоправданными претензиями.
Вообще говоря, сборище было редкое.
Когда Первый Чукотский отряд прибыл в Анадырь, золотая горячка уже прошла. Правда, отдельные маньяки всё ещё бродили по горам и верховьям рек, но большинство пришельцев перешло уже к рыболовству, охоте или извозу на собачьих нартах – каюрству. И, кроме того, все они потихоньку занимались скупкой пушнины у чукчей, кочевавших вокруг, в безграничных просторах тундры.
В свободное время, – а его у анадырцев тогда было вдоволь, – они варили брагу, собирались компаниями, играли в покер, находились мастера играть на гитарах «по-гавайски» и лихо отплясывать джигу. Но чаще и больше всего развлекались воспоминаниями из своей богатой приключениями жизни.
Мирошниченко владел испорченным руль-мотором и вечно чинил его, беззастенчиво хвастаясь при этом.
– Хитроумные замки во всей Америке лучше меня никто не понимал, – рассказывал он однажды своим гнусавым тенорком, по обыкновению ковыряясь в руль-моторе. – Бывало, пропадут у какого-нибудь ихнего миллионщика ключи от несгораемого шкафа, инженеры тырк-мырк – и ни в какую. Вот и начнут носиться по всей Америке, Мирошниченку искать. Найдут в какой-нибудь обжор… ресторане, значит, и давай кланяться. Ну, конечно, приходилось всё время ездить то туда, то сюда, выручать этих пьяниц. Брал с них, сколько хотел. Жилось неплохо…
И он покосился на своего дружка, такого же старого бродягу, Глушкова. Этот сплошь зарос волосами и был такого огромного роста, что казался слоном среди людей. Они вместе добирались до Сиэтля и кое-как, впроголодь, приехали сюда. В своих странствованиях по Европе, Америке, Африке и Австралии Глушков сохранил добродушный облик тамбовского крестьянина, но потерял снисходительность даже к друзьям, и Мирошниченко побаивался его.
– Жилось неплохо, – ехидно подхватил Глушков последние слова приятеля. – Только портков не хватало. Оба сюда в такой вот рваной робе прикатили, зато в шляпах…
И Глушков потрепал Мирошниченко за оборванную штанину американского комбинезона.
– Не лапай, не купишь, – огрызнулся тот.
– Знамо, не куплю, – согласился Глушков. – На чёрта она мне нужна. Я тебя дёргаю, вот что: ты не так мотор собираешь, не туда привинчиваешь, вот у тебя и не получается.
– Много ты знаешь «не туда привинчиваешь», – передразнил Мирошниченко приятеля. – А не получается потому… что на заводе дырку для винта не там, где надо, сделали.
– Ха-ха-ха!.. – прыснули окружающие. – Дырку не там сделали!
– Да, не там, – упрямо повторил Мирошниченко. – Придётся поправлять дьяволов.
И, отыскав инструмент, он стал сверлить дырку рядом с другой.
– Брось, Сергей Иванович, портить мотор. – Пойди лучше к Полистеру, купи или выпроси в долг новую робу… Чай, он тебе даст в счёт ремонта несгораемого ящика… – послышались ехидно-доброжелательные голоса.
Мистер Полистер был доверенным фирмы «Свенсон и компания», которая продавала всевозможные товары и скупала пушнину.
Эта фирма американского дельца, которого молва рисовала «простым парнем из старателей», опутала сетью торгово-заготовительных факторий всю Камчатку и Чукотку.
Фактория Свенсона на посту была расположена за Казачкой, под горой Маришкой. Задняя половина главного дома фактории, где жил Полистер, была врыта в гору и соединялась с выкопанными в Маришке подземными кладовыми. Справа к дому примыкал большой склад с товарами, слева – комната для приезжих чукчей. Всё это находилось под одной крышей. Не выходя из дома, Полистер и его помощник Кетчим могли принимать чукчей, угощать их, спаивать, а потом за безделицу покупать драгоценные меха.
Но этому приходил конец. По концессионному договору Свенсон в эту зиму должен был распродать товары. Уже организовывалось Охотско-Камчатское рыбопромышленное акционерное общество – ОКРАО, которому Свенсон обязан был передать свои фактории и товары.
Нескладная фигура Полистера в дорогих мехах шныряла по домишкам поста, сверкая золотыми зубами. Он вечно или свистел, или жевал резинку, угощая ею всех желающих.
– Плиз, плиз… – говорил он, улыбаясь и протягивая пластинки резины в ярких рекламных обложках, наподобие лезвий для бритвы.
Одна фирма утверждала, что её резина освежает и дезинфицирует рот, другая уверяла, что употребление её резины делает зубы жемчужными, третья гарантировала долголетие своим потребителям.
– Неужто это правда, Гаврила Иваныч? – спросил как-то Илюхин старика Глушкова, любившего пожевать табак или резину. – Глядя на вас, вполне можно поверить, что они дают большую пользу…
– Это верно. Пользу они дают, только кому? Форду! – рассердился старик, работавший одно время в Детройте.
– На конвейере не закуришь – некогда. Ну и заменяешь курево жвачкой. Жуёшь эту резину и работаешь без передышки. Мастера они соки выжимать…
И под влиянием воспоминаний старик разоблачил Свенсона.
– Резинку он «плиз, плиз», а вот патронов калибра 30 на 30 не привёз. В прошлом году распродал ружья 30 на 30, ничего не скажешь – ружья неплохие… А патронов к ним сейчас нет. Значит, покупай ружья 20 на 25, к ним и патронов сколько угодно. А на будущую зиму их не будет… Или, возьми, лампы. В каждом доме на посту не меньше десятка ламп, а стёкол к ним нет. Ну, и покупают новые, со стёклами…
Подошедший к ним Щепотьев, имевший вид псаломщика и елейный голос монаха, – у него бойцы учились играть на гитаре «по-гавайски», двигая по струнам столовым ножом, – добавил:
– А вы посмотрите, у Полистера шляпы ковбойские, кепки жокейские, шляпки дамские, шапки, фуражки. Любая вещь за рубль. А они ему стоят не больше пяти центов за штуку. Хе-хе… Всю эту заваль в Америке никто не купит: вышли новые фасоны. К тому же, гниль. Свенсон получил их в придачу к какой-либо партии хорошего товара. Сгниют совсем – выбросят и никакого убытка. А каждый вырученный рубль – чистая прибыль-с…
Упражняясь в езде на собаках, пограничники часто бывали в верховьях Кончелана. Там они заезжали в табуны богатейшего чукчи Тейтельхута, имевшего, как говорили, до четырнадцати тысяч оленей. Пограничники дружески беседовали с батраками полуфеодала, рассказывали им о войне и революции, состязались в беге, в борьбе и постепенно сдружились.
Особенно тянулся к пограничникам батрак Кальтэк, стремительный силач, с весёлой улыбкой, обнажавшей два ряда крупных белых зубов. Он любил рассматривать картинки в журналах и расспрашивать о Ленине, о революции, Москве и Ленинграде, гражданской войне, равноправии, конфискации земель… Быть может, половину не понимал, но слушал, затаив дыхание.
Однажды Кальтэк привёз на пост в факторию от своего хозяина две нарты пушнины и выпоротков. Тейтельхут брал у Полистера патроны, капканы, табак, чай, спирт, посуду, материю, ножи и другие товары, необходимые кочевникам, обменивал их на пушнину у окружающей бедноты и периодически расплачивался с Полистером.
На этот раз вместе с Кальтэком приехала его жена Рылькуна, за которую он четыре года батрачил её отцу бесплатно, в виде выкупа за невесту. Прежде всего Кальтэк зашёл с женой к пограничникам и, напившись у них чаю, отправился к Полистеру. С ним пошли Толкачёв, Илюхин и Кравченко.
Кетчим принял от Кальтэка пушнину, выпоротки, пыжики, шкуры оленей, присланные Тейтельхутом, и стал делать записи в книгах. По знаку Кальтэка, Рылькуна внесла ещё мешок с пушниной.
– Моя капкан лови, – гордо сказал Кальтэк, славившийся как удачливый охотник.
Подвыпивший Полистер захохотал, поочерёдно встряхнул песца и двух лисиц, поданных ему Кальтэком, подул на мех, спросил что-то у Кетчима, пробормотал «олл райт» и повесил шкурки в угол.
– Объясните своему приятелю, – сказал американец на отличном русском языке, – объясните, что пушнина у него плохая, но из уважения к вам, – ехидная усмешка скользнула по его губам, – из уважения к вам я беру эту дрянь в уплату его долга. Прошлой зимой мистер Кетчим ездил по стойбищам и дал ему в долг табак и чай…
– Объясняйтесь, мистер, сами. Мы не умеем.
Тогда Полистер, который так же хорошо разговаривал по-чукотски, как и по-русски, стал быстро-быстро что-то говорить Кальтэку.
Лица чукчей бесстрастны во всех случаях жизни. Но тут глаза Кальтэка гневно сверкнули и было видно, как на смуглых щеках его стал проступать тёмный румянец. Негодующе обратился он к пограничникам:
– Моя… взяла… один, – он показал палец и повторил – один… пачка таак… один ирпич… ча… Моя хачу ин… инчестер.
Тогда Полистер объяснил пограничникам:
– Прошлой зимой мы давали кирпич чая и пачку табаку за двух лисиц, только за двух лисиц, если их сразу тут же отдавали нам. Ну, а если отдают через год, то этого уже мало. Конъюнктура рынка ухудшилась. Кроме того, птицы несут яйца, важенка приносит телёнка, собака – щенят… Товар должен приносить выгоду, особенно, если его дают в кредит. Понимаете? Поэтому сверх двух лисиц он должен мне отдать песца.
– У нас в Саратове лавочник Залогин, к примеру, тоже так торговал, – понимающе поддержал Илюхин. – Двадцать да двадцать – рупь двадцать, чай, не брали – полтора…
– Илюхин, не ввязывайся, – остановил его старшина.
– Какой лавочник?! У нас большая, солидная фирма «Свенсон и компания»…
Между тем Кальтэк, видимо, твёрдо решивший приобрести ружьё, вынул из мешка ещё трёх песцов, добавил к ним выдру и бросил их на прилавок:
– Ружьё! – сказал он угрюмо.
Полистер достал из заднего кармана брюк флакон виски, хлебнул, подмигнул и пошёл в дальний угол склада. Вернувшись с дамской шляпой в руках, он водрузил её на голову Рылькуны. Серьёзное лицо чукчанки с татуировкой на щеках, чёрные косы с вплетёнными бусами и прикреплёнными монетами, меховая кухлянка и… фасонистая шляпка с дрожащими цветочками – нелепее этого и придумать было трудно.
Илюхин не смог удержать улыбку.
– Стыдно, товарищ Илюхин, – одёрнул его старшина.
Американцы хохотали, ничего не понимающая Рылькуна улыбалась, Кальтэк недоуменно смотрел на друзей.
– Эх, как вдарю ему зараз в очи. Тоди вин зроду не буде смиятыся! – вскипел Кравченко.
– Уймись!.. Не дипломатично… Комиссару доложим, он разберётся. Пойдём, братва.
Старшина потом говорил, что он увёл ребят потому, что боялся дипломатического скандала.
– Даст он ему в зубы, свернёт салазки, а он иностранец, у него договор с Советской властью… Увезут его на операцию, а потом пришлют ноту: что ж вы, скажут, договора заключаете, а потом в морду бьёте! Нельзя…
Сдружившийся с пограничниками Кальтэк стал одним из первых большевиков тундры. А, может быть, и самым первым…
Однажды в табун из стойбища приехал Тейтельхут. Жирный, он сидел на беговых санках, и медно-красное лицо его раскраснелось ещё больше от быстрой езды. Как и все чукчи, он был подпоясан очень низко сыромятным ремнём, на котором висел нож в деревянных ножнах и кисет с табаком, От сильных, рослых оленей шёл пар. Хозяин не спеша вынул из-за пазухи трубку, набил её табаком и протянул Кальтэку.
– Прикури!
Надо было сейчас же схватить трубку, побежать к костру, прикурить и, подбежав обратно, подать Тейтельхуту.
Но Кальтэк стоял и не двигался. Только глаза его, смотревшие на богача, засверкали, как угли.
– Ты зачем приехал? – вдруг спросил он Тейтельхута. – Оленей пасти?
Владелец табунов взглянул на людей, но глаза его как будто не видели их.
– Я приехал к своим оленям. Хочу посмотреть, хорошо ли пасёте вы их.
– Нет твоих оленей! Смотри! – вскричал Кальтэк и стал показывать на отдельные группы чёрных, белых, бурых, серых важенок и быков, пасшихся невдалеке по склону холма. – Вот – олени Гемалькута, это – олени Тевлянто, вот – Карауге, вот – моего отца, вот – Милеткина… Ты у всех отбираешь и оленей, и пушнину. А сам не работаешь. Ты, как овод, залез нам под кожу…
– Замолчи! Я вам есть даю…
– Мы работаем у тебя, как беговые олени, а едим, как тундровые мыши.
– Замолчи! Ты кто?
Тейтельхут вынул изо рта трубку и с удивлением посмотрел на смельчака.
И тогда Кальтэк, гордо выпрямившись во весь свой рост, медленно и громко ответил:
– Я бол-че-вик!
Глаза Тейтельхута стали круглыми, он молча и зло бросил свою тяжёлую, вылитую из олова, трубку в лицо Кальтэка, ударил оленей, они испуганно метнулись, и он ускакал.
…Через год Кальтэк уехал в Ленинград, в Институт народов Севера.
III
С марта месяца солнце с каждым днём удлиняло свой путь по небу, взбиралось всё выше и выше, лучи его становились теплее и теплее.
Весна пришла сразу.
Ещё вчера лежали мощные забои снега в руслах рек, в оврагах и между холмами. Только немногие проталины показались кое-где, да потемнели по краям озёра: выступила вода на лёд. А сегодня скопившаяся в ручьях под снегом вода прорвала пласты снега и весенние ручьи побежали в озёра, речки, реки, в лиман и море, поднимая постепенно в них лёд. Быстро зазеленела травка на проталинах, завозились в траве насекомые, и скоро появились комары и мошки, этот «гнус» – бич всего существующего в тундре. С юга показались стаи летних жильцов тундры. На озёрах и реках гомон птиц становился всё громче от количества и богаче от разнообразия голосов. Только в лимане лёд, набухший и синий, был неподвижен. Но в двадцатых числах июня и он тронулся, а к первому июля лиман очистился ото льда.
К этому времени солнце пряталось за горизонтом не дольше, чем девушка от милого за занавеской. В неуловимый миг вечерняя заря становилась утренней. Зазеваешься, не успеешь лечь спать вовремя – смотришь, уже утро, и солнце высоко. Да и сон в это время бежит от человека.
Как можно предаваться сну в эти ясные, тихие, прозрачные дни приполярной весны и короткого северного лета. Почти незаходящее солнце греет мягко и ласково, кажется, что видишь и слышишь, как растёт под его лучами трава, просыпается кругом жизнь. Смотришь в тундру и чувствуешь её величественный размах, погружённый в тишину, которую не нарушают, а точно тонут в ней, звуки свободной первобытной природы. Доносится гоготанье гусей с озёр, свистят поднимающиеся с земли ржанки, завывают сторожкие и хитрые гагары, слышится резкий голос какого-то хищника, подравшегося из-за добычи с белой, далеко видной в тундре, полярной совой, с задорным криком взмоет над тундрой петушок-куропатка и – тишина… Только шумит в стороне весенний ручей, каскадом падающий с обрыва.
В один из таких дней пограничники сидели у вырытой на окраине поста землянки старого чукчи Окоя, когда-то самостоятельно кочевавшего со своим табуном. Польстился Окой на хорошие зимние пастбища у моря и подогнал туда своих оленей. Подул с моря тёплый влажный ветер, а потом ударил мороз, и погубила оленей смертоносная гололедица. Не в силах были они достать мох из-подо льда, не могли и убежать – скользили, разъезжались ноги – и обессиленные, измученные животные падали и подыхали. По костям своих оленей Окой проследил весь их путь, проследил, как его табун растаял, словно снег весной. И стал Окой ловить рыбу на посту и перебиваться чёрной работой то у одного, то у другого…
Окой развивал пограничникам, не больше, не меньше, как анимистическую теорию религиозного мировоззрения, повторяя для ясности некоторые фразы ломаным русским языком. Шитиков, служивший переводчиком у начальника уезда, переводил. В общем, по Окою, получалась такая концепция:
– В речном яру живёт человек, – говорил Окой, – голос там существует и говорит. Маленькая серенькая плиска с синей грудью шаманит на ветке… Дерево дрожит и плачет под топором, как бубен под колотушкой… Всё, что существует, живёт… Духи окружают людей. Всё наполнено жизнью и голосами – светильник ходит, стены имеют свой голос, и даже урыльник имеет свою страну и шатёр, и жену, и детей… Шкурки песцов в мешках разговаривают по ночам. Рога на могилах ходят дозором по кладбищу, и сами покойники встают и приходят к живым. В небе живут солнце и луна, а звёзды – это их дети. Всё живёт.

– Вот так символ веры, – сказал негромко Ливанов, а Толкачёв в стремлении ниспровергнуть эту систему взглядов спросил:
– А камни и облака тоже живут?
И получил ответ:
– Если камень лежит – он мёртвый, если катится с горы – живой. Если облако бежит по небу – оно живёт…
– Эх, отец, а не был ли ты случайно этим, как его… шаманом? Ну-ка переведи, – сказал Илюхин, чувствуя во взгляде старика что-тб чуждое, враждебное.
– Кто поверит шаману, у которого погиб табун оленей? – ответил вопросом Окой.
– Ты, Окой, не виляй, прямо говори…
Неизвестно, куда завёл бы этот философский диспут, но в это время из-за кладбища вынеслась шхуна. «Тра-та-та… тра-та-та… тра-та-та…» – бойко татакал её мотор. Шхуна шла прямо к посёлку. На флагштоке трепыхался флаг с красными полосами и белыми звёздами по синему полю.
– В ружьё! – донеслась из казармы команда Воронцова. Пограничники побежали, перегоняя один другого…
Когда вельбот погранотряда подошёл к шхуне, она уже стояла на якоре недалеко от устья Казачки, как раз напротив ревкома.
Первым на борт шхуны ловко прыгнул Букин. За ним неторопливо перелез Воронцов. За командиром перебрались взятые им на шхуну пограничники: Кравченко, Илюхин, Чеботарёв, Соболев.
Шхуна представляла собой небольшое двухмачтовое судно. Её выпуклая палуба, вымытая морскими волнами, поражала чистотой. Из приоткрытого люка переднего трюма шёл аромат фруктов. В кормовой части шхуны стояла штурвальная рубка, небольшой трап сзади её опускался к двери кубрика.
Два матроса стояли на носу шхуны, у ручной лебёдки, и с любопытством разглядывали советских пограничников. Двое других обитателей шхуны стояли у штурвальной рубки. Один – в штатском костюме, с галстуком и чётким пробором на голове – имел хищное выражение лица и насторожённый взгляд. Другой – в синей робе и с рыжими вихрами – глядел из-под белёсых бровей голубыми глазами внимательно и спокойно. Он вынул бумажник, вытащил из него пакет и молча подал его Воронцову. Командир пограничников неловко взял пакет своими толстыми непривычными пальцами крестьянина и стал его рассматривать. Он превосходно стрелял, прекрасно знал все виды оружия, уверенно бросал гранаты, но бумаги смущали его, как в двадцать лет смущают письма любимой.
– Распечатывай, – шепнул комиссар.
Воронцов медленно оторвал краешек пакета и, передав его в таком виде Букину, с облегчением вздохнул.
Букин вынул письмо. Оно было напечатано не русскими буквами на бланке. Букин так долго смотрел на него и с таким видом, что можно было подумать, что он его читает. Наконец, обратившись к американцам, он сказал «олл райт» и положил письмо во внутренний карман гимнастёрки.
Услышав «олл райт», рыжий американец обрадованно заговорил и стал угощать сигаретами. Но у пограничников были свои хорошие папиросы, и от сигарет они отказались.
Тогда рыжий что-то крикнул, и стоявшие на носу матросы принесли из трюма ящик ярко-оранжевых калифорнийских апельсинов, каждый из которых был величиной с небольшой арбуз. Очень хотелось попробовать их, но тоже отказались, – первым Букин, а за ним и остальные.
– Дайте-ка лучше ваши документы, граждане! – потребовал у американцев Букин.
Они не поняли. Тогда им стали объяснять на разные лады: вынимать различные бумаги, удостоверения, предъявлять их друг другу. Быстрее всех понял американец в штатском. Он буркнул что-то рыжему, и тот, вынув из бумажника, передал Букину сложенную бумагу. Но она была написана не по-русски. Положив её в тот же карман, где лежал пакет, Букин распорядился:
– Илюхин и Кравченко, отправляйтесь на берег и привезите сюда Алихановых. Они будут у нас переводчиками. Быстро!
По отзывам вернувшихся из Америки анадырцев, Алихановы знали английский язык лучше всех других.
Через полчаса двое из братьев степенно сошли с вельбота на шхуну. Это были богатыри с неторопливыми движениями и тем выражением спокойного достоинства, какое встречается только на лицах людей труда.
С их помощью произошёл следующий разговор:
– Есть ли у вас разрешение советских властей на плавание в наших водах? – спросил Букин.
– Нет.
– Зачем вы к нам прибыли?
– Торговать. Я хозяин шхуны и хозяин товаров. Но у нас в Америке я не могу торговать. Нельзя конкурировать с большими фирмами. Это невозможно.
На щеках рыжего американца проступил румянец, он бросал тревожные взгляды то на море, то на Букина или Воронцова, то на второго американца со строгим пробором волос.
– У меня не хватит денег открыть своё дело в Америке. Меня выпустят в трубу вместе с моей шхуной… Я её построил своими руками, один.
Рыжий топнул о палубу шхуны и протянул свои здоровенные ручищи, покрытые веснушками и волосами.
– И мотор он тоже сам сделал? – язвительно проговорил вполголоса Илюхин, но прикусил язык, увидев строгий взгляд Воронцова.
– Я рабочий, – ткнул себя пальцем в грудь американец. – Вы тоже рабочие, – окинул он взглядом пограничников. – Я приехал к вам и прошу разрешить мне торговать. Если надо патент – я куплю его у вас. Скажите, сколько стоит.
– Насчёт этого мы запросим, сами разрешить не можем, – ответил Букин.
– Я могу уплатить… У нас это стоило бы… ну, скажем… тысячу долларов, хорошо?
Американец переводил вопросительный взгляд с Букина на Воронцова.
– Мы не берём взяток. Разрешение торговать, если его только вам дадут, ничего не будет стоить.
Американец недоверчиво посмотрел на пограничников. С кем он говорит? Понимают ли они что-нибудь в бизнесе? Деловые ли это люди?
– Но это же… без этого нельзя… это – ваш бизнес… – пробовал он объяснить.
Комиссар, обратившись к Воронцову, вполголоса сказал:
– Придётся растолковать ему, что мы боремся за дело, не имеющее ничего общего с их бизнесом…
Но командир был другого мнения: «Только время зря потеряем: не поймут. Да и не к спеху это…» И вновь обратился через переводчиков к рыжему американцу:
– Что за люди на вашей шхуне?
– Я, два матроса, повар и мой компаньон мистер Генри Вуд.
Все взглянули на второго американца. Алихановы удивлённо переглянулись, о чём-то пошептались, и старший из братьев задал Генри Вуду какой-то вопрос. Тот отрицательно качнул головой и лающим голосом бросил отрывистую фразу. От Воронцова не укрылось, что при вопросе Алиханова лицо мистера Вуда мгновенно окаменело, но уже в следующую секунду он придал ему прежнее выражение.
– О чём это вы? – спросил Воронцов.
– Да уж очень похож этот человек на мистера Джексона, который был здесь помощником мистера Полистера… Я спросил его: не Джексон ли он. Говорит – нет.
– A-а… хорошо… Ну, а теперь передайте им, чтобы шхуна подняла якорь и зашла в Казачку, Правильно, комиссар?
– Вполне.
Когда передали это распоряжение, американцы встревоженно заговорили сначала между собой, затем с Алихановыми. Второй из братьев перевёл:
– Они боятся, как бы в реке во время отлива не повалило шхуну на бок, тогда она может повредить себе корпус. Боятся, что в таком случае товары попортятся. Просят разрешить им остаться на якоре здесь, в лимане.
Поблёскивая исподлобья волчьими глазами, американец с пробором что-то сказал. Старший Алиханов перевёл:
– Говорит, что они приехали сюда добровольно. И спрашивает: разве их арестовали и они не могут выбрать место стоянки судна там, где безопаснее.
– Скажите, что мы их не арестовываем. Но делаем так для того, чтобы они не ушли отсюда без нашего разрешения.
Алихановы ито-то продолжительно говорили с американцами, наконец, старший брат объявил:
– Они дают гарантию, что не уйдут отсюда без разрешения.
– Что же это за гарантия?
– Говорят, что их гарантия – слово джентльменов. Они дают джентльменское слово, что без разрешения не уйдут.
– Хм… Крепкая ли это гарантия?
– Смотря по тому, кто даёт… А вы их сами видите.
И, выразительно взглянув на комиссара, старший Алиханов повернулся к американцам спиной. Было видно, что эти люди не возбудили в нём никакого уважения к себе.
– Скажите, что на свою просьбу они получат ответ через полчаса.
И пограничники уехали, оставив на шхуне двух часовых: Илюхина и Кравченко.
На берегу тотчас была создана комиссия для перевода полученных от американцев бумаг. Кроме Алихановых, в комиссию вошли ещё два бывших эмигранта: Стасевич и Щепотьев. В результате их труда и пререканий появились переводы удостоверения и письма.
Удостоверение было переведено так:
«Сим удостоверяется тем, кому это нужно, что это – мистер Хенриксен, владелец и капитан шхуны „Голиаф“ вместимостью 32 регистровые тонны или около того, приписанной к порту Ном на Аляске. Команда шхуны – 4 человека. Что подписью и приложением печати удостоверяется.
Начальник порта Ном на Аляске Г. Вильсон».
В пакете оказалось письмо:
«Камчатка, Анадырь, Совету.
Джентльмены!
Я пишу вам это письмо по просьбе живущего в городе Ном на Аляске мистера Хенриксена. Он владеет шхуной „Голиаф“, имеет небольшой капитал, нажитый им своим трудом. В два года он сам себе выстроил шхуну. Он едет к вам потому, что открыть какое-либо дело здесь, у нас, он не в состоянии, Мало средств.
Поэтому на свои сбережения он закупил товары, погрузил на шхуну и отплывает к вам. Джентльмены! Если по вашим законам вы можете разрешить ему торговать, то разрешите. Если нет – отпустите обратно. Я ручаюсь, что он вернётся прямо на Аляску.
Остаюсь с почтением, мэр города Ном Гарри Вильсон».
Эти документы были зачитаны на экстренном заседании ревкома. Разгорелись споры. Что делать с американцами: арестовать и посадить или отпустить? Или разрешить торговать, имея в виду, что они привезли фрукты, необходимые как антицынготное средство…
В разгар споров в ревком прибежал, запыхавшись, начальник радиостанции Иванов.
– Вот поймали… случайно… телеграмму из Америки.
Отдуваясь, он подал клочок бумаги, на котором было написано:
«Камчатка. Всем Советам Сибири.
Копия фирме Олаф Свенсон.
Второго сентября из порта Ном направлении Анадырь вышла шхуна „Голиаф“ грузом колониальных товаров зпт на борту четыре человека шкипер Хенриксен тчк Всех знающих что-либо месте нахождения шхуны просим сообщить тчк
Начальник порта Ном Вильсон».
Ревком решил, что арестовать шхуну нет причин, следует запросить губревком, как с ней быть, а впредь до ответа ограничиться взятием с американцев честного слова.
– Но часовых на шхуне мы всё-таки оставим. Командир, как твоё мнение?
– Резонно.
– Действуйте по вашим инструкциям. Ревком не будет вам мешать, – сказал председатель ревкома Курилов.
Американцы с видимым удовольствием, восклицая «олл райт» и «о-кей», дали и джентльменское слово, и подписку о том, что шхуна «Голиаф», самовольно вошедшая в советские воды, будет стоять на якоре в Анадырском лимане до тех пор, пока ревком не разрешит ей сняться и уйти.
Одновременно был послан в губревком телеграфный запрос, как поступить с пришедшей шхуной.
Долго не могли уснуть в ту ночь пограничники. Теперь они чувствовали: вот она, граница. А за ней – Америка с её алчными империалистами, необыкновенной техникой и чистильщиками сапог, превращающимися, по заверению американских газет, в миллионеров…
Почему же владелец шхуны, имеющий деньги, чтобы заполнить её товарами, не нашёл себе там дела?
И почему у американцев-матросов такой апатичный и обездоленный вид? Почему рассказы об Америке побывавших там анадырцев так непохожи на ходячие представления о счастливой жизни там?..
Ложась спать, Букин выглянул в окно своей комнаты, выходившее на лиман. На мачте шхуны слабо мерцал огонёк. «Спят джентльмены, – усмехнулся комиссар. И, уже совсем засыпая, вдруг вспомнил: а мы ведь не оставили часовым продовольствия, и у них нет с собой фляжек… Ну, воды они могут спросить там…»
Утром, вскочив с постели, Букин первым делом подбежал к окну. Взглянул на лиман, протёр глаза, снова взглянул и свистнул. «Полундра, чёрт возьми!»
Шхуны в лимане не было…
Командир сердито ходил по берегу, под его ногами разлеталась галька, обычно спокойное лицо подёргивалось от порывистого движения, которым он стащил с головы «будённовку», волосы растрепались, руки рубили воздух, подчёркивая слова.
– Эх, если бы катер. Джентльмены, язви их… Вот тебе и честное слово джентльменов. Сели мы с тобой в лужу, комиссар. Эх, если бы морской катер. Ну, да погодите…
Ничего не отвечая ему, Букин пошёл в ревком.
А Воронцов говорил сбежавшимся пограничникам:
– Нельзя верить этим купцам. Сначала поп, потом купец, за ними урядник-подлец. Вместе с японцами и англичанами такие купцы участвовали в интервенции. До тех пор, пока им по шеям не наклали…
И Воронцов рассказывал:
– Это не трудно – по шеям-то им накласть. Видели мы этих вояк… Где? В Приморье во время интервенции. Ну и вояки…


