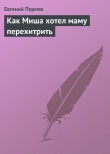Текст книги "Перехитрить Набокова"
Автор книги: Алексей Медведев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Медведев Алексей
Перехитрить Набокова
Алексей Медведев
Перехитрить Набокова
О Набокове хочется писать так, как если бы до этого о нем никто не писал. Понятно, что это практически невозможно. Не говоря уже о тысячах статей и книг о нем, его произведения сами по себе представляют развернутый комментарий к "жизни и творчеству". Человек, начавший сочинять свою эталонную биографию, не дожив и до сорока лет, изо всех сил постарался если не лишить читателей и почитателей права на новые интерпретации, то, по крайней мере, предопределить направления их поисков и ассоциаций. И все же в каждом набокофиле живет мечта стать святее папы римского: то солидный ученый вставит в статью ссылку на выдуманного авторитета (подобно тому как сам Набоков выдумал биографа Чернышевского – Страннолюбского – или Джона Рэя, "автора" предисловия к "Лолите"), то научная монография прерывается лирическим отступлением, вычурной метафорой, каламбуром, загадкой или неожиданно обретает закольцованную композицию, столь любимую объектом исследования.
Людям, живущим в тени Набокова, сухое научное описание кажется по определению недостаточным. Набоков оказался едва ли не последним писателем нашего столетия, сумевшим с помощью виртуозной словесной эквилибристики сохранить непрозрачность текста, ощущение зашифрованной и глубоко запрятанной тайны. Стремление приблизиться к этой тайне – именно оно движет филологами, культурологами и просто взыскательными читателями. Кажется, что один из двойников, прячущихся в сложной системе зеркал набоковской прозы, должен обладать плотью и кровью, отбрасывать тень. В конце концов, Набоков сам говорил в интервью Альфреду Аппелю, что в его прозе "настоящих" двойников нет. Значит, должен существовать по крайней мере один настоящий оригинал – пусть и его неминуемо придется поставить в кавычки.
Тень Набокова. Иногда она вырастает до исполинских размеров – как в старом экспрессионистском фильме (ночь, мерцающий свет факелов, мощеная средневековая улочка, закопченные стены домов, крадущийся герой). Иногда в ровном, сером свете наступающего утра кажется, что тень эта – лишь порождение прихотливого воображения и ничего не было, оптический обман.
Набоков словно навязывает выбор между двумя банальностями: миф о собственной независимости, оригинальности, уникальности (в предисловии к английскому изданию "Приглашения на казнь" он скажет, что единственный писатель, оказавший на него влияние, – это Пьер Делаланд, которого сам же он и выдумал) и – представление о нем как о знатоке мировой культуры, каждая строка которого отзывается обратным эхом писателей, поэтов и философов прошлого. Первый тезис Набоков упорно защищает в различных автокомменатриях – статьях, предисловиях, интервью. Второй – заявлен в его прозе, полной открытых отсылок к чужому культурному опыту. Отслеживая эти отсылки, легко впасть в распространенную среди набоковедов (и не только) ошибку. В конце концов, любой мотив можно проследить хоть до античной литературы. Но нельзя забывать о том, что писатель, невольно или сознательно цитируя тот или иной фрагмент другого писателя, поступает так только потому, что эта конкретная цитата наполнена для него специфическим личным смыслом, а не потому, что он хочет помочь заработать на хлеб будущим критикам и интерпретаторам. Только обнаружив внутренние психологические причины цитирования, можно приблизиться к пониманию того, насколько существенна наметившаяся параллель.
Все началось с одной цитаты:
Сейчас я могу признаться, что и в ту ночь, и в последующую, да и раньше меня донимало призрачное ощущение того, что моя жизнь – это не вполне идентичный близнец, пародия, неудачная версия жизни другого человека, проживающего где-то на этой ли, на иной ли земле. Я чувствовал, как демон заставляет меня вживаться в этого человека, этого писателя, который был и всегда останется несравненно более великим, здоровым и жестоким, чем ваш покорный слуга. ("Взгляни на арлекинов!")
Очевидно, что слова Вадима Вадимовича, повествователя последнего законченного романа Набокова, в первую очередь относятся к отношениям "герой – автор". Подобно Цинциннату ("Приглашение на казнь"), Кругу ("Под знаком незаконнорожденных") и многим другим героям Набокова, писатель Вадим Вадимович в критические моменты начинает подозревать мир в сделанности, вымышленности. Стоит достаточно быстро оглянуться – и застигнутые врасплох предметы не успеют занять свои привычные, отведенные им автором-демиургом места, а за лицевой стороной реальности обнаружится сверкающая подкладка. Но сколь же велик соблазн применить эту цитату к самому Набокову. Логично предположить, что писатель, все произведения которого строятся вокруг темы зеркал, двойников, близнецов, так или иначе пробовал спроецировать эту тему на свою жизнь и на тех людей, которые окружали его в реальном мире. И пусть Набоков, рассуждая о Гоголе, безапелляционно заявлял, что нос из одноименной повести – прежде всего литературный прием, а не факт биографии, биографическая проекция неизбежна, если задаться вопросом, почему повесть называется все-таки "Нос", а не "Ухо" или "Язык".
Писателей, радикально повлиявших на Набокова, не так уж и много Пушкин, Шекспир, Достоевский (с необъяснимым легковерием слависты цитируют презрительные набоковские отзывы о нем, не думая, что это всего лишь способ "замести следы"), может быть, Белый... Увлекаясь анализом конкретных параллелей и скрытых и открытых цитат, легко забыть, что ни один из номеров этого списка не интересовал Набокова сам по себе – просто потому, что ему "понравилось их творчество". Набоков действительно независим и уникален в одном отношении: он выбирал тех, кто окажет на него влияние. Иными словами, повлиять на него могли те и только те, кто так или иначе совпадал со структурой его главной темы, его raison d'etre, его исходным креативным импульсом, который дал о себе знать задолго до того, как он взялся за перо.
Имя очередного кандидата на роль "тени" Набокова, которое пришло время добавить к "списку влияний", может показаться таким незначительным и маргинальным, что вся статья принимает сходство с розыгрышем. И тем не менее: Николай Николаевич Евреинов (1879-1953) – драматург, постановщик, философ, режиссер театра "Кривое зеркало", автор пьесы "Самое главное", высоко оцененной Луиджи Пиранделло, и трактатов "Театр как таковой" и "Театр для себя" – об извечном театральном инстинкте преображения, который проявляется не только в творчестве, но и в каждом мгновении повседневной человеческой жизни. Чтобы частично избавиться от впечатления мистификации, сразу же приведу единственное абсолютно достоверное доказательство связи между Набоковым и Евреиновым, уже знакомое внимательным читателям набоковедческой литературы. 29 декабря 1977 года в парижской газете "Русская мысль" была опубликована заметка "Владимир Набоков (Сирин) играет Евреинова" (подпись – инициалы А. А. – по-видимому, принадлежит вдове Евреинова, Анне Александровне Кашиной-Евреиновой). В ней рассказывалось о литературном суде, устроенном 27 мая 1927 года в Берлине над автором "Самого главного" и основной идеей его пьесы – о том, что, "раз мы не в силах дать счастье обездоленным, мы должны дать хотя бы его иллюзию. Это самое главное" (Николай Евреинов. Самое главное. Ревель, 1921). Роль ответчика на шуточном процессе, как уже понятно из заголовка заметки, исполнил Набоков, который "вызвался сыграть самого Евреинова, чтобы защитить идею пьесы" ("Русская мысль").
Своеобразие сюжета "Самого главного" (новоявленный апостол театральности нанимает труппу актеров, подселяет их под видом обычных людей к неприкаянным жильцам меблированных комнат и заставляет разыгрывать театр в жизни, чтобы скрасить несчастным их невеселые дни) было не единственной причиной интереса к Евреинову, возникшего в кругах русской эмиграции. После отъезда из Советской России в 1925 году Евреинов оказался едва ли не единственным из эмигрантских авторов, обладающим громкой европейской славой и материальным благополучием. В 1922 году его арлекинаду " Веселая смерть" поставил в театре "Старая голубятня" знаменитый французский режиссер Жак Копо. В мае 1925 года "Веселая смерть" и "Самое главное" появились в репертуаре театра Луиджи Пиранделло в Риме. В ноябре 1926 года в Париже состоялась премьера "Самого главного" (переименованного в "Комедию счастья") в постановке Шарля Дюллена (пьесу ему рекомендовал все тот же Пиранделло). Вместо запланированных 30 представлений, в первый же сезон пьесу сыграли 250 раз, а авторские отчисления за первые полгода выросли с обещанных пяти до ста тысяч франков. Еще за год до этого "Самое главное" перебралось за океан – пьесу поставили в нью-йоркском театре "Guild" в декорациях Сергея Судейкина (в главной роли – Эдвард Джи Робинсон, будущая звезда фильмов Билли Уайльдера и Орсона Уэллса).
Это затянувшееся представление нужно не для того, чтобы реабилитировать в глазах современного читателя полузабытого драматурга (со сверхъестественной проницательностью Евреинов даже в лучшие годы предвидел это медленное и, в сущности, труднообъяснимое сползание в безвестность; отчаянно цеплялся за славу, раздавая себе преувеличенные похвалы в статьях и трактатах; даже собственную историю русского театра написал, чтобы закрепить свое место в ней, – все впустую). Но важно понять, что значила подобная слава для полунищих писателей и поэтов, потерявших в эмиграции всякий рынок сбыта, кроме узкого кружка себе же подобных.
Итак, одно вещественное доказательство представлено: по крайней мере, один раз в жизни Набоков ощущал себя тенью другого писателя, перевоплотился в него, стал его сценическим двойником. Что еще? В 1932 году, во время своего первого путешествия в Париж, Набоков обедал у Евреинова и в письме жене от 14 ноября написал: "Евреинов – из тех людей, которые мне совершенно чужды, но он чрезвычайно забавен, гостеприимен и пылок. Имитируя кого-нибудь, он демонстрирует восхитительный талант, но что за ужасающая вульгарность в его философствованиях! Например, он утверждает, что весь мир делится на "типы"... и Достоевский – величайший в мире писатель" (цитирую по биографии Набокова; ее автор Брайан Бойд приводит также слова Набокова о "мистико-фрейдистской" атмосфере в квартире хозяина, любопытно, что в пустяковом с виду фрагменте упоминаются сразу два вечных антагониста Набокова – Достоевский и Фрейд). С марта 1939-го по май 1940 года Набоков с семьей жил в Париже по адресу рю Буало, 59, в трех минутах ходьбы от дома Евреинова (№ 7 по той же улице). Вот, пожалуй, и все свидетельства прямого контакта.
И все же Евреинов в определенном смысле – двойник, тень, "не вполне идентичный близнец" Набокова, а точнее – Набоков в определенные периоды мог ощущать себя двойником Евреинова, а порой и его "неудачной версией". Абсурдно было бы утверждать, что без Евреинова не было бы Набокова. В конце концов, при всей оригинальности первого, в "эстетическом" смысле эти величины несопоставимы. Пьесы Евреинова остроумны, но совершенно "нелитературны" – он не обладал никакой властью над словом, да, впрочем, и не стремился к ней, утверждая внеэстетическую природу театральности: "И какое мне (черт возьми!) дело до всех эстетик в мире, когда для меня сейчас самое важное стать другим и сделать другое, а потом уже хороший вкус..." ("Театр как таковой", 1913). Так что цель этой статьи – отнюдь не в том, чтобы "разоблачить" Набокова, предъявив скрытый источник его вдохновения, а в том, чтобы показать, как он, обращаясь к тому или иному автору, "берет свое". Как он заимствует те и только те элементы чужой творческой вселенной, которые вписываются в его личный узор. Моя тема – не Набоков и Евреинов, а то чудо алхимического превращения, тот резонанс, который происходит при соприкосновении Набокова с культурной традицией.
О сходстве Набокова и Евреинова с разной степенью настойчивости и подробности писали слависты Владимир Александров, Рене Герра, исследователь творчества Евреинова Спенсер Голуб, первый биограф Набокова Эндрю Филд. Предположение Филда о серьезном влиянии, которое Евреинов оказал на Набокова, было названо "абсурдным" вторым набоковским биографом новозеландцем Брайаном Бойдом. Даже наиболее обстоятельно подошедший к этой теме Александров написал, что "ни в художественных произведениях Набокова, ни в его критических дискурсах экзистенциальный акт театрализации жизни, по Евреинову, никакого отклика не нашел" ("Набоков и потусторонность"). Возразим тремя цитатами:
Весь театр – это обман, сплошной обман, сознательный, нарочный, но очаровательный настолько, что ради него только и стоит жить на свете! ("Театр как таковой")
Единственное, быть может, подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство. ("Камера обскура")
Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. ("Дар")
Две набоковские цитаты (обратите внимание, насколько слова Годунова-Чердынцева, протагониста "Дара", подходят Горну, антигерою "Камеры обскуры") почти дословно продолжают евреиновскую идею театра как "очаровательного обмана". Именно на этой идее Евреинов строил свой главный аргумент против "натурализма" театра Станиславского. Ведь если в основе театра лежит сознательный и неустранимый обман, то любая попытка скрыть этот обман, показать на сцене "настоящую", "реальную" жизнь, выдать условное театральное зрелище за безусловную действительность оказывается недобросовестным подлогом, разрушающим театральную иллюзию. Аргумент против "ненужной жизненной повторности" реализма ("Театр как таковой") мог оказаться особенно близок Набокову; равно как и его обратная сторона утверждение творческой воли к преображению действительности. В биографии Бойда есть упоминание о том, как Набоков еще в дореволюционном Петербурге видел пародийную постановку "Ревизора" на сцене театра комических миниатюр "Кривое зеркало", главным режиссером которого в то время был Евреинов (всего в 1910-е годы он поставил в "Кривом зеркале" около 100 пьес, 14 из них – собственного сочинения). "Ревизор" Евреинова представлял собой "режиссерскую буффонаду в пяти построениях одного отрывка". Это была пестрая последовательность различных версий постановки гоголевской пьесы: сначала – добротная "классическая постановка"; потом – в духе Станиславского (как пояснял в пьесе ведущий, "высокохудожественные постановки Московского художественного театра отличаются, во-первых, тем, что все происходит, как в жизни, а во-вторых – тем, что все происходит не как в жизни, а в "настроении"; "режиссер съездил в Миргород, установил местоположение дома городничего, изучил местный говор..."); в духе Макса Рейнгардта (пляски аллегорических персонажей и цирковые трюки); "мистериальная постановка" в манере Гордона Крэга ("сцена представляет собой беспредельное пространство, окруженное сукнами", а хрестоматийная фраза о скором прибытии ревизора сопровождается похоронным ударом колокола) и, наконец, "кинематографическая" версия – с непременными погонями и летящими в лицо тортами. Бойд приводит цитату из дневника Набокова, из которой ясно, что больше всего его позабавила пародия на натурализм Художественного театра.
Но, пожалуй, самым остроумным произведением Евреинова, направленным против буквально понятого реализма в театре, стала пьеса "Четвертая стена" (премьера состоялась в "Кривом зеркале" 22 декабря 1915 года в декорациях Юрия Анненкова – того самого, который почти четверть века спустя поставит в парижском "Русском театре" набоковские пьесы "Событие" и "Изобретение Вальса"). В ней он виртуозно демонстрирует, как неумолимая логика театра выворачивает наизнанку утопию натурализма, как попытка имитировать жизнь приводит к неуклюжей пародии на реальность. По сюжету амбициозный режиссер ультрареалистического направления ставит "Фауста". Для наибольшего правдоподобия он требует от актера изъясняться "на древнегерманском наречии", мечтает "напульверизовать зрительный зал каким-нибудь составом, передающим запах ветхости", а бутафору приказывает налить в чашу настоящий яд. Правда, возникает непредвиденная трудность: как известно, по ходу действия Мефистофель превращает яд в волшебный напиток, после чего Фауст осушает чашу до дна. Тогда режиссер, ничуть не смущаясь, просит актера "имитировать" процесс питья. Но на этом оргия реализма не заканчивается. Доводя до абсурда идеи Станиславского о "четвертой стене", которая должна отделять актера от зрителей, помощник режиссера предлагает соорудить на авансцене настоящую стену. Предложение с восторгом принимается: "Четвертая стена!.. Вот она, заря нового театра! – театра, свободного от лжи, комедиантства, от недостойных чистого искусства компромиссов!" Во втором акте стена уже на сцене. В окне появляется измученный актер:
Фауст (обращаясь к публике). Не могу больше!.. Господа, вы свидетели!.. (Осушает чашу яда и, шатаясь, скрывается...)
К счастью, выясняется, что осторожный бутафор вместо "стрихнина пополам с синильной кислотой" налил в чашу безобидных желудочных капель. Обратим внимание, что остроумная логика Евреинова, использованная в "Четвертой стене", идеально соответствует "гегелевскому силлогизму юмора", который Набоков вывел в английской версии "Камеры обскуры" – романе "Laughter in the Dark":
Дядя остался дома с детьми и сказал, что устроит им на потеху маскарад. После долгого ожидания он так и не появился; дети спустились вниз и увидели человека в маске, набивающего мешок столовым серебром. "Ой, дядя!" – закричали они в восторге. "Ну, правда хороший костюм?" – отозвался дядя, снимая маску. Так строится гегелевский силлогизм юмора. Тезис: дядя переоделся во взломщика (на потеху детям); антитезис: это действительно был взломщик (на потеху читателю); синтез: это все-таки был дядя (читатель одурачен). ("Смех во тьме")
Применим силлогизм к шутке с ядом. Тезис: безвредный напиток вместо яда; антитезис: это действительно яд; синтез: все-таки это не яд, а желудочные капли. Отличительные черты юмора Евреинова и Набокова выворачивание наизнанку понятий и ситуаций, провокационная игра с читателем и зрителем, который лишь задним числом понимает смысл шутки, и, наконец, обыгрывание условной природы искусства и насмешка над теми, кто принимает иллюзию за реальность.
Но не только презрение к безвдохновенному реализму и специфическое чувство юмора связывают Евреинова и Набокова. Скучной имитации жизни Евреинов противопоставил образ Арлекина, преображающего и театр, и саму действительность. В своих трактатах он не только отождествлял себя с этим героем комедии дель арте, но и видел в себе провозвестника религии нового, "чудесного века маски, позы и фразы": "Я Арлекин и умру Арлекином!" ("Театр как таковой"). А на обложке "Самого главного" работы Юрия Анненкова Евреинов был изображен в виде арлекина, распятого на кресте.
Именно здесь, в этой точке, и произошло короткое замыкание; возникает скрытая, но прочная связь между Евреиновым и Набоковым, все творчество которого прошито и структурировано арлекинскими мотивами. Но прежде чем привести доказательства, вспомним, что представляла собой художественная вселенная Набокова в середине 20-х годов – незадолго до того, как Набоков полчаса побыл Евреиновым на эстраде второразрядного берлинского кафе.
В том фрагменте из "Взгляни на арлекинов!", где герой говорит о себе как о неудачной версии куда более великого писателя, интересна не только тема двойничества, но и тема творческой несостоятельности. Эта тема имеет непосредственное отношение к началу писательской карьеры Набокова: его стихотворения и рассказы, написанные до 1924 года, поражают своей беспомощностью и какой-то беспросветной банальностью:
Твой будет взлет неизъяснимо ярок, / а наша встреча – творчески тиха... ("Родине", 1923)
...я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых звезд. (Рассказ "Слово", опубликован в берлинской газете "Руль" 7 января 1923 года).
Пишет все это не испуганный гимназист, в первый раз принесший тетрадку собственных сочинений в редакцию иллюстрированного журнала для юношества, а вполне уверенный в себе 24-летний литератор, успевший получить кембриджский диплом филолога и опубликовать не одну книжку. Со дня разлуки с Россией, якобы разбудившей сонный дар Сирина, прошло уже несколько лет, а его стихи и проза, бессодержательные и вяловато-торжественные, так и не сдвинулись с мертвой точки, поставленной в конце его первого поэтического сборника, вышедшего в Петрограде в 1916 году. Дежурная фраза в духе "лучшие его строки были продиктованы любовью к России" не имеет к раннему Набокову никакого отношения. По странной иронии именно стихам, обращенным к родине, свойственна наиболее сокрушительная бездарность (Кость в груди нащупываю я: / родина, вот это кость – твоя. "К родине", 1924).
Перемену, произошедшую с Набоковым около 1924 года, иначе как чудом не назовешь. В рассказах "Картофельный эльф", "Бахман", "Возвращение Чорба" он с такой головокружительной легкостью достигает безукоризненной верности тона, что остается предположить, что до этого момента его замещал какой-то мелкий, неудачливый двойник, немедленно прогнанный при появлении настоящего хозяина. Если в 1925 году этот двойник еще пытается вернуть утраченные позиции, то с 26 года он окончательно изгоняется со страниц прозы и лишь изредка проявляет себя в некоторых не слишком удачных стихах. Появляется новый писатель, ослепительный дар которого возник словно из ничего, по мановению волшебной палочки невидимого фокусника.
Присмотримся повнимательнее к упомянутым трем рассказам, позднее вошедшим в сборник "Возвращение Чорба" (Берлин, 1930). Иногда на периферии, иногда в центре сюжета в них повторяется один и тот же мотив, восходящий к античному мифу о Дедале и Икаре и средневековой легенде о незадачливом ученике чародея (последняя была актуализирована романтиками, а позднее перешла в пользование современной низовой культуры – страшных историй и фильмов ужасов). Это мотив несостоявшегося чуда, неудавшегося фокуса:
Шок протянул руку, хотел, видно, выщелкнуть монету из уха карлика, но, в первый раз за многие годы мастерских чародейств, монета некстати выпала, слишком слабо захваченная мускулами ладони. ("Картофельный эльф", 1924)
Он совал монетку в щелку музыкального автомата и при этом плакал навзрыд. Сунет, послушает мелкую музыку и плачет. Потом что-то испортилось. Монета застряла. Он стал расшатывать ящик, громче заплакал, бросил, ушел. ("Бахман", 1924)
В "Возвращении Чорба" мотив несостоявшегося чуда уже становится сюжетообразующим: герой рассказа, жена которого недавно погибла, наступив на оголенный провод, покупает на ночь проститутку, чтобы воскресить в номере обшарпанной гостиницы свое прошлое – первую брачную ночь. Посреди ночи он просыпается и – испускает "страшный истошный вопль".
Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую с ним рядом. Он крикнул ужасно, всем животом. ("Возвращение Чорба", 1925)
Далее следует несусветная трагифарсовая сцена, в которой спасающаяся бегством проститутка сталкивается в дверях с родителями жены Чорба, ничего не подозревающими о смерти дочери и пришедшими увидеться с ней. Фокусник Шок, музыкант Бахман, Чорб – первые в длинной галерее набоковских "неудачников". И если уж говорить о едином метасюжете произведений Набокова, то им является отнюдь не драма утраты и ее последствия (как естественно было бы предположить, если согласиться с мнением о том, что главным источником вдохновения для Набокова была память об утраченной России), а творческая неудача. Лужин кончает жизнь самоубийством, не справившись с миром шахматного наваждения, который сам же вокруг себя и создал ("Защита Лужина"). Изобретатель конструирует движущиеся манекены, плавные движения которых идеально имитируют человеческую пластику, но в итоге не может поддержать в них иллюзию жизни ("Король, дама, валет"). Магда мечтает о карьере кинозвезды, но ее первое появление на экране заканчивается полным провалом ("Камера обскура"). Герман задумывает идеальное преступление и обряжает простолюдина Феликса собственным двойником, но сходство оказывается мнимым, существующим лишь на территории германовского безумия ("Отчаяние"). Цинциннат и Чернышевский, эти двойники с разными знаками, равные друг другу "по модулю", пишут в тюрьме, перед лицом смерти, книгу своей жизни, но не могут совладать с непослушными словами ("Приглашение на казнь", "Дар"). Мечта Гумберта об эротическом рае в обществе Лолиты сбывается – но лишь на то недолгое время, пока Лолита не повзрослеет, а болезненное чувство любви и раскаяния не поставит под сомнение успех его гедонистического проекта ("Лолита"). Чарльз Кинбот лелеет воспоминания о Зембле, но поэт, которому он вверяет свое прошлое, упоминает его родину лишь в одной строчке своей поэмы ("Бледный огонь"). И наконец, писатель Вадим Вадимович так и не может вспомнить, тенью какого писателя он является ("Взгляни на арлекинов!").
Все эти персонажи, даже если профессия их не имеет ничего общего с искусством, изображаются Набоковым как творцы, которым по той или иной причине не удается (вос)создать подлинную реальность – будь то в искусстве или в жизни. Их замыслы, мечты и наваждения чреваты скрытым изъяном, который рано или поздно приводит к неудаче. Чаще всего – не без участия коварного двойника (Валентинов в "Защите Лужина", Горн в "Камере обскуре", Барбашин из пьесы "Событие", Куильти в "Лолите"...). Чрезвычайно важно, что от произведения к произведению причины этой неудачи могут казаться диаметрально противоположными. Иногда фатальная ошибка персонажа заключается в рабском подражании реальности и недостатке воображения (изобретатель из "Короля, дамы, валета", писатель Зегелькранц из "Камеры обскуры", Чернышевский из четвертой главы "Дара", художник Трощейкин из "События"). Иногда эта ошибка – в попытке без остатка раствориться в мире вымысла и забвении реальности, которая впоследствии жестоко мстит герою (Гумберт Гумберт, Чарльз Кинбот, Сальватор Вальс из пьесы "Изобретение Вальса").
Вся эта галерея неудачливых творцов порождена сильнейшим ощущением творческой несостоятельности, которое преследовало Набокова в самом начале его карьеры. Под творческой несостоятельностью я имею в виду не просто технически плохое качество его ранних стихов и рассказов, но и осознание бессилия искусства перед лицом времени и смерти. В начале 20-х годов в Берлине Набоков сталкивается с невозможностью воссоздать в воображении утраченную Россию, а также на опыте познает необратимость смерти, когда от рук террористов гибнет его отец. Но боль потери для Набокова – это отнюдь не обычная ностальгия. В авторецензии на книгу мемуаров "Убедительное доказательство" он пишет о себе в третьем лице: "В каком-то смысле Набоков прошел через все уныние и упоение ностальгии задолго до того, как революция разобрала декорации его юных лет". Чувствительнее всех прочих потерь для него – не утрата родины или миллионного состояния, а опыт ускользания реальности, которая вытекает из мира, как молоко из прохудившегося пакета. Именно этот опыт, по-видимому, данный ему очень рано, ляжет в основу его писательских усилий. Сквозь призму этого опыта даже чувство тоски по родине принимает у Набокова специфическую окраску. Боль потери для него – это, прежде всего, боль от невозможности почувствовать боль, сделать потерю "своей", настоящей, избавиться от самоощущения бесплотного призрака, бесцельно бродящего среди размалеванных декораций. Самое страшное для Набокова и его героев – когда выясняется, что терять-то, в сущности, нечего: реальность ускользнула сквозь пальцы задолго до того, как стать недоступной из-за внешних обстоятельств. В "Событии" Люба в разговоре о погибшем сыне скажет Трощейкину: "Бог тебя знает, может быть, тебе и нечего забывать".
Тема творческой несостоятельности причудливым образом переплетается у Набокова с темой несостоятельности финансовой. Обратите внимание, что во всех трех ранних рассказах, цитаты из которых были приведены выше, в ключевых сценах фигурируют деньги: монетка выпадает у фокусника из руки, Бахман сует монетку в автомат, Чорб платит проститутке "двадцать пять" за ночь (забавная отсылка к "Двенадцати" Блока). Это зародыш важной для Набокова темы, которая впоследствии останется постоянной спутницей его героев. Набоков часто сравнивает неудачную рифму с несостоятельным должником; в зеркальной структуре романа "Дар" литературный эмигрантский вечер остроумно срифмован с собранием Общества русских литераторов, на котором выясняется, что касса Общества безнадежно растрачена; и совсем уж комичный пример: когда неудачливый и полунищий художник Трощейкин из "События" говорит, что "Баумгартен денег не даст", в этом хочется видеть намек на несостоятельность безвдохновенного реализма, которому сам основоположник эстетики Александр Готлиб Баумгартен отказывает в новом кредите. В произведениях Набокова, всегда стремившегося зарабатывать деньги только литературным трудом (что вплоть до выхода "Лолиты" ему не удавалось), мотив финансового неуспеха становится не менее важным, чем творческая неудача персонажей. Можно даже предположить, что невероятный по эмигрантским масштабам коммерческий успех Евреинова стал одной из причин, по которой внимание Набокова было надолго отдано этому человеку (за это наблюдение автор статьи благодарит Андрея Томашевского).
В 1938 году, в тот период, когда Набоков решал свое языковое будущее, он вернулся к ранним драматургическим опытам и создал две лучшие свои пьесы – "Событие" и "Изобретение Вальса". Неудивительно, что именно на территории драматургии тайное стало явным: в "Событии" отсылки к произведениям Евреинова особенно заметны и бесспорны. Отметим, что "Событие" отделено более чем десятилетием от того времени, когда Набоков внимательно прочитал Евреинова (логично предположить, что это произошло, самое позднее, перед шуточным процессом 1927 года). Тем важнее то обстоятельство, что Набоков использует в пьесе не только концептуальную канву евреиновских сочинений (критика имитационного реализма), но и включает в нее отдельных персонажей, сошедших со страниц Евреинова, вкладывая в их уста почти дословные цитаты. Пьеса "Событие" начинается со сцены, в которой Трощейкин готовится дописать заказной детский портрет. Почти законченный холст стоит на сцене: мальчик окружен пятью круглыми дырками, в которые художник намеревается дописать сине-красные мячи. Но мячи куда-то закатились, из пяти осталось только два, и Трощейкин злится, не в силах приступить к работе. Перед нами – знакомый мотив творца, стремящегося воссоздать точную копию реальности и терпящего крах на этом пути.