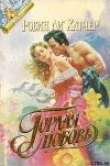Текст книги "Похороны стрелы"
Автор книги: Алексей Куксинский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Он стоял и смотрел на тело старого охотника, от бессилия сжимая кулаки. Ютай был настоящим сыном тайги, гордым и простодушным, не способным ударить исподтишка, обмануть или украсть. Во время своих поисков Ловенецкий часто встречал его в тайге, и они охотились вместе, иногда по несколько дней подряд. Ловенецкого всегда удивляла наивная бесхитростность тунгуса в сочетании с чувством собственного достоинства, недоступного жителям больших городов, такое чувство могло развиться только у человека, лишь слегка тронутого цивилизацией и всю жизнь прожившего в единении с дикой природой.
За спиной хрустнула ветка. Одним движением вскидывая карабин и стреляя по звуку, Ловенецкий понял, что опоздал. Чьё-то тело без звука рухнуло в кусты, но тут же кто-то тёмный, пропахший потом и порохом ударил Ловенецкого по голове прикладом винтовки.
Он пришёл в себя, мучимый головной болью, и с удивлением отметил, что жив, лежит на животе и у него не связаны руки. Прямо перед лицом колыхались стебли лисохвоста, действительно вблизи похожие на маленькие зелёные лисьи хвосты.
– Гляди-ко, очнулся, – сказал чей-то голос, отчётливо выговаривая «о».
Кто-то подошёл и пинком под рёбра перевернул Ловенецкого на спину, как черепаху. Он зажмурился от яркого света. Сосны, росшие вокруг маленькой поляны, вращались вокруг, как чёртово колесо. Бандитов было трое. Они обступили Ловенецкого, возвышаясь над ним, как сказочные великаны.
Первый, явно азиатского вида, со шрамом во всю щёку, длинными тонкими усами над верхней губой, свешивающимися почти до подбородка. На ногах ичиги, выше – какое-то подобие халата из оленьих шкур мехом наружу, за пояс заткнут морской офицерский кортик в самодельных ножнах. Второй, до самых глаз заросший рыжей бородой, в начищенных до блеска сапогах, кожаных штанах и куртке из дабы, постукивал нагайкой по голенищу. Третий, худой и долговязый, в выцветшей военной форме, с тёмными пятнами на месте споротых нашивок и шевронов, на голове плохо различимая с земли фуражка с поломанным козырьком. У всех троих за плечами винтовки и солдатские вещмешки.
– Подымайся, – сказал рыжий.
Ловенецкий сел, упираясь руками в землю. От резкого движения его замутило, но он удержал рвоту. Голова болела, он ощупал её левой рукой. На затылке набухла огромная шишка, но крови не было, вязаная шапка смягчила удар.
– Давай, давай, – нетерпеливо сказал азиат, направив на Ловенецкого его собственный карабин. Третий бандит всё так же молча стоял сбоку, теперь Ловенецкий увидел, что на его голове засаленная конфедератка. Рыжий несильно огрел Ловенецкого нагайкой по плечу, и сказал:
– Вставай, добрый человек.
Ловенецкий не различил в его голосе злобы или ненависти, так крестьянин говорит с некстати улёгшейся посреди дороги домашней скотиной.
Ловенецкий постарался встать одним движением, но не удержался, зашатался и упал на одно колено. Рыжий и азиат захохотали. Ловенецкий осмотрелся по сторонам. Рядом с телом Ютая лежал ещё один труп, задравший в небо поросший редкой щетиной острый подбородок. «Это его я подстрелил в кустах», – тяжело соображал Ловенецкий, поворачивая голову. Яхина нигде не было видно.
Рыжий перестал смеяться, шагнул к Ловенецкому, и, жарко дыша прямо в лицо, спросил:
– Где золото?
– Там, – сказал Ловенецкий, махнув рукой в ту сторону, откуда пришёл.
Врать и запираться смысла не было, его могли пристрелить прямо тут, возле трупа Ютая. Возвращение к палатке под конвоем бандитов оставляло призрачные шансы на выживание, но это было лучше, чем пуля или нож.
– Веди, – сказал рыжий, ткнув нагайкой в грудь Ловенецкого.
– Без фокусов, – сказал третий, в конфедератке, едва разлепив губы. Ловенецкий различил какой-то прибалтийский акцент, эстонский, или, может быть, латышский.
Оставив трупы на поляне, они направились за Ловенецким, который заковылял в сторону палатки.
Шли долго, в полном молчании. Ловенецкий периодически останавливался и припадал к стволу дерева, чтобы передохнуть. Страха он не испытывал, холодная тупая ярость поднималась из глубин души, но Ловенецкий старался подавить её, чтобы не мешала думать. Он уже оправился от удара, только лёгкая головная боль напоминала о произошедшем, но всё же он до последнего обнимал пропахший смолой шершавый ствол, пока шлепок нагайкой или тычок стволом под рёбра не понуждал его двигаться дальше.
Они шли уже слишком долго, и Ловенецкий начал думать, что они сбились с пути, как вдруг среди расступившихся деревьев он заметил знакомый вывороченный ствол с брошенной в беспорядке палаткой и рюкзаком.
Оттолкнув Ловенецкого, азиат и рыжий бросились к рюкзаку, словно в нём было заключено их спасение. Третий, держа винтовку наизготовку, безучастно наблюдал, как из распотрошённого рюкзака на землю летят одна за другой вещи Ловенецкого. Сам Ловенецкий, сжав зубы, смотрел на лежавшую в двух метрах от него сапёрную лопатку, и понимал, что с каждой секундой перспектива получить пулю в затылок всё ближе, причём обманутые в своих ожиданиях бандиты вряд ли удостоят его быстрой и лёгкой смерти, но никаких идей в голову не приходило, в мозгу крутилась лишь слышанная много лет назад строчка из комических куплетов Савоярова: «Луна, Луна! Наверно ты пьяна!» Ловенецкий обернулся к третьему бандиту, в надежде на что-нибудь, на счастливый случай, и не поверил своим глазам. В полном молчании в горло долговязому вцепился неизвестно откуда появившийся Яхин, по собачьей морде и гимнастёрке текла кровь, но человек не делал попыток освободиться или выстрелить, а просто стоял, постепенно заваливаясь на спину под весом разъярённого пса. Ловенецкий одним движением аккуратно уложил его на землю, стараясь не смотреть долговязому в глаза, и вырвал из его побелевших пальцев винтовку. Яхин продолжал энергично двигать челюстями, в пасти хрустело и хлюпало. Ловенецкий развернулся и, не целясь, выстрелил в рыжее пятно, склонившееся над рюкзаком. Бандит упал вперёд, вырывая рюкзак из рук опешившего азиата. Ловенецкий двинул ствол и передёрнул затвор. Тот не прошёл и половины хода, отказываясь выплюнуть стреляную гильзу. Азиат одним элегантным движением за ремень вытянул карабин из-за спины и выстрелил от живота. Боёк щёлкнул по пустой гильзе. Азиат озадаченно смотрел на карабин, пока Ловенецкий остервенело дёргал затвор своей винтовки. Азиат потянулся к своему затвору, и Ловенецкий, отбросив бесполезную винтовку, прыгнул к сапёрной лопатке, понимая, что уже опоздал.
Бандит, видимо, никогда не имел дела с прямоходными затворами, что и спасло Ловенецкого. Пока азиат дёргал вверх рукоять затвора, не понимая, почему он не срабатывает, Ловенецкий с размаху метнул лопатку. С трёх метров он не мог промахнуться. Подхватившись с земли, он схватил выпавший из рук азиата карабин, дёрнул затвор и выстрелил хрипящему на земле бандиту в ухо.
Он обернулся, чтобы разделить с Яхином радость общей победы, и обомлел. Яхин, закрыв глаза, лежал на мёртвом бандите, бока его, густо окрашенные кровью, тяжело вздымались. Рукоять охотничьего ножа торчала под лопаткой. Видимо, долговязый, уже умирая, сумел дотянуться до оружия и нанести псу несколько смертельных ударов.
Ловенецкий присел рядом, погладил собаку по голове. Яхин открыл глаза и виновато посмотрел на хозяина. Ловенецкий почувствовал, что глаза наполняются слезами. Он не плакал уже много лет, с самой смерти Жени и родителей, но не чувствовал никакого кощунства в том, чтобы плакать о собаке, как о человеке.
Яхин тяжело вздохнул и умер. Ловенецкий ещё некоторое время посидел с ним рядом, перебирая жёсткую собачью шерсть, потом встал и пошёл за сапёрной лопаткой.
Он похоронил пса тут же, у корней дерева, выкопав глубокую могилу. Бандитов он решил не хоронить, просто оттащил подальше в лес и бросил там. Лучшей участи они не заслужили. Приклады их винтовок он разломал о ближайшее дерево, затворы извлёк и выбросил в лес. Потом долго собирал свои вещи, скручивал и увязывал палатку. Теперь ему придётся продолжать путь в полном одиночестве, в компании ветра и собственных мыслей.
Уже собираясь уходить, он окинул последним взглядом место стоянки. Его взгляд привлекли три вещмешка, которые он забыл у вывороченных корней сосны, да так и оставил, не унеся в лес вслед за телами бывших хозяев. Не по-хозяйски было оставлять их просто так, не проверив содержимое. Ловенецкий снял лоток и рюкзак, отложил в сторону карабин и развязал первый мешок. Ничего примечательного там не было. Сухари, немного вяленого мяса и деньги – керенки, совзнаки и три николаевских червонца – Ловенецкий забрал себе. Остальное тряпьё и личные вещи – игральные карты, часы, компас – Ловенецкий выкинул. В следующем рюкзаке, принадлежащем азиату, он не обнаружил вообще ничего, заслуживающего внимания, кроме фарфоровой чашки Ютая. Её Ловенецкий решил оставить.
Третий мешок принадлежал долговязому. К удивлению Ловенецкого, большую часть содержимого составляли книги, в основном на польском и французском языках: Бодлер, Верлен, Верхарн, Выспяньский, Серошевский. Ловенецкий рассматривал их, как некие диковины, артефакты внеземной цивилизации. За долгие зимние вечера вдоль и поперёк изучил небольшую библиотеку Кунгурцева, а новых книг он не встречал уже несколько лет. Он отложил книги в сторону и снова полез в рюкзак. Среди смены белья, носовых платков, пачки табаку и прочих мелочей обнаружилась стопка старых газет, которые долговязый использовал то ли для сворачивания папирос, то ли для иных житейских надобностей. Газеты в эту таёжную глухомань не доходили, и Ловенецкий с интересом развернул верхнюю, чтобы узнать новости, которые уже давно стали достоянием истории в месте, находящемся, возможно, за сотни вёрст отсюда.
Это оказался невесть как попавший в тайгу «Виленский курьер» двухлетней давности. На первой же странице Ловенецкий увидел набранное крупным шрифтом объявление: «Только один вечер! После сеансов в Лондоне, Париже и Варшаве! В кинотеатре „Гигант“ представление всемирно известного медиума и экстрасенса Северина Гаевского и таинственной Геммы!»
Буквы, как маленькие насекомые, расползались по серому газетному листу. Ловенецкий тряхнул головой, раз за разом перечитывая текст. Имя и фамилия были те же, пришельцы из его далёкого прошлого, призраки, оживлённые его памятью. Тогда, много лет назад, всё началось с такого же выступления, и вся жизнь Ловенецкого развалилась и была уничтожена одним необдуманным решением. Он в ярости разорвал газету, разбросал книги, и, вскочив на ноги, пнул рюкзак, а потом долго топтал разлетевшееся по поляне бельё.
2
Всемирно известный медиум и экстрасенс Северин Гаевский стоял на балконе своего номера на третьем этаже виленской гостиницы «Италия» и курил. Дым его трубки растворялся в тёплом весеннем воздухе, взгляд скользил по улице, проходящим внизу людям и зданию городского театра, справа от которого устремлялась ввысь изящная громадина костёла Святого Казимира. Северин курил нечасто, почти всегда перед важными выступлениями. В Америке он приучился курить исключительно сигары, но, вернувшись в Европу, его опять потянуло к старой доброй бриаровой трубке. Он думал о предстоящем этим вечером выступлении, но неправильно было назвать его состояние волнением артиста перед выходом на сцену, просто после долгого перерыва он пытался восстановить в памяти своё последнее выступление, в прошлом году в Варшаве.
Докурив, Северин вернулся в номер, выбил трубку и вычистил её. Запасы табака, который он привёз из Лондона, подходили к концу, в Вильно найти табак подобного качества было нелегко. Северин задёрнул портьеры и прилёг на кровать. С потолка на него таращились лепные ангелочки. Не в силах выносить их вид, он прикрыл глаза. В мозгу привязчиво вертелись слова шансонетки: «Луна, Луна, наверно ты пьяна!» Непонятно, откуда они взялись, ведь последний раз он мог слышать её ещё в Петрограде много лет назад. Северин поморщился и попытался сосредоточиться на мыслях о выступлении. Он неплохо владел самовнушением, и очень скоро он впал в подобие лёгкого транса, из которого его вывел шум за дверью.
Северин открыл глаза и прислушался. Персонал «Италии» был хорошо вышколен и предупреждён, что подходить к дверям трёх номеров, которые Северин снимал для себя, Антона и Геммы, можно только по звонку или другому требованию постояльцев. Шуршание за дверью усилилось, дверная ручка слегка дёрнулась. Неужели портье допустил какого-то навязчивого поклонника? Северин встал и подошёл к двери. Даже через три дюйма дубовой двери до него донёсся цветочный аромат «Убигана». Ручку с той стороны дёрнули сильнее и нетерпеливее. Северин вздохнул и распахнул дверь.
– Заставлять ждать даму – это дурной тон, – сказала ему Цезария, тесня в глубину номера и захлопывая дверь.
С Цезарией Бутор, и её мужем, известным варшавским юристом, Северин познакомился три года назад в Варшаве. Во время наступления Красной Армии, когда над городом нависла угроза катастрофы, а на каждом углу были расклеены плакаты с изображением звериных большевистских лиц, на одном из выступлений в полутёмной цукерне на Свентоянской Северин сказал, что через десять все увидят белого орла над Белостоком. Присутствовавшие в цукерне Цезария с мужем после взятия Белостока посетили Северина с частным визитом. Для укрепления доверия, Северин рассказал им несколько эпизодов из их общего прошлого, тактично умолчав о некоторых деталях поведения Цезарии после замужества, а потом дал несколько ценных советов её мужу. Всё это поспособствовало укреплению репутации Северина в высшем обществе столицы, а супруги Бутор сделались его самыми горячими поклонниками. Лишь отъезд Северина на продолжительные гастроли в Европу смог остановить домогательства пани Бутор, письма от которой содержали столь откровенные эротические пассажи, что при желании их можно было предложить к изданию вместе с «Книгой маркизы» или «Цветами сливы в золотой вазе».
Двухлетнее отсутствие предмета страсти не погасило пыл женщины. Вернувшись в Польшу, Северин посчитал себя в полной безопасности, однако виленские газеты не могли не отметить его приезд. У Буторов, как оказалось, в окрестностях Вильно было небольшое имение, и, пока муж заседал в Сейме, Цезария осаждала Северина в отеле.
Цезария была великолепна. Несмотря на уже далеко не гимназический возраст, Северин не мог не отметить её почти животной привлекательности и женской красоты. Длинное, грамотно декольтированное лиловое платье, яркий макияж заставил Северина внутренне напрячься.
– Ваше посещение застало меня врасплох, – сказал он, делая невнятный приглашающий жест.
– Неужели, вы не получали моего письма? – маленькими шагами Цезария теснила его по направлению к кровати. Свет, сочившийся сквозь задёрнутые портьеры, заставлял кожу Цезарии светиться необычным внутренним светом.
– Обслуга в этом отеле просто ужасна, – сказал Северин. – Совершенно не соответствует цене.
Он уже пересёк порог спальни, едва не зацепившись за ковёр.
– У меня не так много времени перед выступлением, – сказал Северин, пытаясь придать голосу твёрдость. – Не хотите ли кофе?
Цезария величественно вплыла в комнату, сначала бюст, а потом всё остальное.
– Я же не кофе пришла пить, – сказала она, подходя ближе и положив руку ему на грудь. Аромат её духов стал просто невыносим. Рука Цезарии опустилась ниже, Северин остолбенело смотрел за движением её наманикюренных пальцев, унизанных кольцами. На самом большом красиво переплелись буквы Ц и Я – инициалы Цезарии и её мужа. Ладонь её пересекла опасную границу, и тело Северина предательски отреагировало самым естественным образом. Цезария облизнула губы, во всём её облике проявилось что-то змеиное, хищное.
– Так я вам всё-таки нравлюсь, – сказала она, продолжая массировать. – Поцелуй же меня.
Впервые она назвала его на «ты». Её рука казалась одновременно холодной и горячей, она могла творить с Северином, что хотела.
Цезария приблизила своё лицо к нему, с близкого расстояния стали заметны все возрастные изъяны, которые делали её только привлекательнее. Глаза её были невинны, а требовательно полуоткрытый рот с маленькими и острыми, как у болонки зубами, был физиологичен и развратен. Северин всё ожидал, что за её отбеленными зубами мелькнёт раздвоенное змеиное жало. Он уже ощущал икрами край кровати как обрыв, с которого ему предстоит спрыгнуть в клокочущую бездну, как позади Цезарии послышалось громкое и искусственное покашливание. Цезария, злобно оглядываясь, отпрянула от Северина.
У входа в спальню стояла Гемма и ласково улыбалась Северину. Цезария, с видом пантеры, у которой прямо из пасти отобрали ягнёнка, поправляла платье.
– Простите, что помешала, – сказала Гемма двумя тонами выше по сравнению со своим обычным голосом. – Звонил директор театра, предлагал прислать машину.
Северин присел на кровать, чтобы скрыть последствия действий Цезарии.
– Я предпочитаю прогуляться, – сказал он. – Благодарю за беспокойство.
Цезария вернула своему лицу надменное выражение.
– Как невежливо врываться, – сказала она Гемме. – Вы были правы, здесь ужасный персонал.
Она гордо удалилась, шурша платьем и слегка оттолкнув не успевшую убраться с её пути девушку.
Выждав, пока за ней захлопнется дверь, Северин сказал:
– Теперь придётся проветривать, весь номер пропах её духами.
– Это лучше, чем твоя вонючая трубка, – ответила Гемма. – Тебе пора собираться. И можешь встать, я уже достаточно взрослая.
Северин продолжал сидеть на постели. Он был благодарен Гемме за спасение из цепких когтей и ласковых ладоней Цезарии, но привыкшего к аскетичной (в сексуальном плане) жизни Северина её посещение на некоторое время выбило из колеи.
– Спасибо, что спасла меня, – скупо улыбаясь, сказал он. – Ты права, мне уже пора собираться.
Гемма вышла, а он встал и отдёрнул портьеры. За окном мягкими кошачьими шагами приближался вечер. От деревьев на Театральной площади наползали длинные тени, сквер был полон праздно гуляющих горожан. Северин распахнул балконную дверь пошире, чтобы запах духов Цезарии выветрился быстрее.
Он переоделся в свой обычный сценический костюм – брюки, жилет и серый однобортный пиджак, который, как и табак для трубки, привёз из Лондона. Котелок и трость захватил в передней и осмотрел себя в зеркале. В этом наряде он больше походил на успешного молодого коммерсанта, чем на человека, который видит призраков и умеет с ними общаться.
На лестнице он не встретил ни одного человека, лишь портье за высокой модерновой стойкой на первом этаже сдержанно ему кивнул, желая удачи.
Для предстоящего выступления Северин снял не городской театр и не театр драмы на Погулянке, а небольшой театр «Лютня» на улице Мицкевича, аренда которого обходилась значительно дешевле. Поначалу он хотел устроить шоу в Летнем театре, но переменчивая весенняя погода могла устроить нежелательный сюрприз.
Ему предстояло пройти несколько кварталов и хотелось сделать это в тишине, поэтому он по памяти свернул с Большой улицы на узенькую Стеклянную и пошёл вверх, к зданию Университета. Сегодня сущности были спокойны и не беспокоили Северина, поэтому шёл он не спеша, стуча тростью по брусчатке и глядя по сторонам, как праздный гуляка. Срединная Литва лишь недавно стала частью Польши, и кое-где домовладельцы успели заменить вывески, но иногда на указателях, запрятанные в тени, как нелюбимые дети у мачехи, выглядывали «яти» и «еры». Ему нравился этот тихий старинный город, церкви, костёлы, дворцы и монастыри; польская, еврейская, белорусская речь на улицах напоминала местечко, в котором он вырос. Пешеходов было немного, и ничто не нарушало его сосредоточенности на будущем выступлении.
У Дворца Начальника Государства сменялся почётный караул. Площадь перед дворцом была пуста, Северин последний раз был тут перед самой войной, когда в сквере посередине стоял памятник Муравьёву, защищаемый кованой оградой. Теперь здесь было пусто, памятник исчез вместе с Империей, а новая власть ещё не успела установить свои монументы.
У костёла бонифратров Северин на некоторое время задержался, чтобы полюбоваться фреской над входом. Мадонна с младенцем грустно смотрела на него сверху, словно в чём-то осуждая. Он смело смотрел ей в глаза, ведь в том, что он родился с таким даром, не было его вины. Он много раз пытался не замечать очевидного, или сделать вид, что он такой же, как все, но его способности были сильнее самых заветных желаний.
Задумавшись, он вспомнил о времени, и взглянул на часы. До начала выступления оставалось всего полчаса, и он прибавил шагу. У здания Госбанка на тротуаре стояло несколько автомобилей, и Северин понадеялся, что это состоятельные горожане, число которых ежедневно уменьшала инфляция, решили посетить его выступление.
Он вошёл в театр через служебный вход, где директор, толстенький лысый человечек с сияющими, как маяк в ночи, золотыми зубами, нетерпеливо махал ему рукой. В коридоре пахло краской, тканью, деревом, тот своеобразный театральный запах, который сразу поднимал Северину настроение. В целях экономии длинный коридор был освещён двумя тусклыми лампочками, и директор, ухватив Северина за руку, почти наощупь повлёк его в гримёрку.
Там его уже ждали Гемма и Антон, как всегда, между ними чувствовалась напряжённость. Грубо захлопнув дверь перед носом директора, Северин присел на ветхий табурет, глядя на своё лицо в зеркале.
– Шляпу сними, – сказала Гемма.
– Не могу, в зале будут дамы.
– Ты похож в ней на спивающегося комика.
Он вздохнул и снял котелок, повесив на крючок возле зеркала. Видимо, уборная принадлежала приме, потому что на вешалке висело роскошное страусиное боа. Антон, как всегда, молча, прятался в тени. Северин посмотрел на своё отражение и не узнал глядящего на него из мутной глубины усталого молодого человека с грустными глазами. До начала оставались считанные минуты, но он продолжал сидеть, свесив опущенные кисти рук между коленей. В дверь громко постучали. «Пора!» – произнёс чей-то пропитый голос, и Северин послушно шагнул в полутёмный коридор. Под потолком он заметил первых сущностей, ещё зыбких и неявных, как марево над разогретым асфальтом. Привлечённые скоплением людей и его энергетикой, они собирались у выхода на сцену. По опыту Северин знал, что в зале их будет больше, чем людей, и ему может понадобиться помощь Геммы.
Так и есть. Взойдя на сцену, Северин зажмурился, ослеплённый ярким светом и ощущением большого количества человеческих аур. Ещё не заглядывая в зал, он несколько секунд постоял у кулис, стараясь привыкнуть к атмосфере и контрасту ярко освещённой сцены и полутёмного зала, а потом сделал несколько быстрых шагов в середину. Лёгкий шёпоток в зале стих, раздались аплодисменты. Северин отвесил лёгкий поклон невидимым зрителям, ожидая, пока они успокоятся. Этих секунд ему хватило, чтобы полностью овладеть собой. Пелена из неразличимых сущностей колыхалась под потолком, и Северин почувствовал, как его голова заполняется шумом голосов, мужских, женских, детских, словно он стоит не посреди затаившего дыхание небольшого зала, а посреди оживлённой площади в ярмарочный день. Требовались неимоверные усилия, чтобы вычленить из этого хора отдельные голоса. Он резко выбросил вперёд левую руку с растопыренными пальцами и сказал:
– Мальчик, лет восемь-девять, имя на «Я», говорит, чтобы продали его пони, Анеля не любит на нём кататься, боится высоты…
Где-то справа в первых рядах послышались всхлипы, тихий голос, становящийся всё громче: «Янчик! Янчик!», люди рядом зашумели. Северин продолжал:
– Мужчина, худой, высокий, в форме, жалеет, что дочка родилась без него, говорит, хорошо, что назвали в честь бабушки, лавку не продавайте, а Залману простите долг…
Он так и стоял с протянутой рукой, слова сыпались из него, как у страдающего глоссолалией, шум в зале нарастал, всё больше людей узнавали своих покойных родственников, несколько женщин в голос плакали. Поэтому он и выбрал относительно небольшой зал, чтобы каждый присутствовавший услышал хоть что-то от своих умерших. Северин взмок от пота и быстро охрип. Блестя зубами, мимо задника прокрался директор театра со стаканом воды в руке, и сразу скрылся за кулисами. Над ним огромной летучей мышью колыхалась одному Северину видимая раздражённая сущность, но Северин предусмотрительно ни слова не сказал о припрятанном золоте и подушке, которая однажды ночью накрыла лицо старика. Зал плыл перед ним, человеческие лица сливались в одно, а из его рта продолжали исторгаться бессвязные слова, советы и пожелания давно умерших людей, обрывочные отголоски былого, в которых родственники находили опору для своего сегодняшнего безрадостного существования.
В зале зажёгся свет, первое отделение закончилось. Прежде, чем возбуждённые зрители успели броситься к сцене, как это не раз бывало, Северин ускользнул за кулисы. Как ни странно, вместо усталости он ощущал душевный подъём и почти эйфорию. В гримёрке он выпил ещё один стакан воды, и стоял, утирая лицо полотенцем, когда в комнату ворвался донельзя взбудораженный директор.
– Успех, полный успех! – кричал он, воздев руки к потолку, под которым отвратительным грязным пятном нависла сопровождающая его сущность. Северин молча продолжил вытираться, морщась от прикосновения грубой ткани. Могли бы предоставить полотенце и помягче, думал он. Но зато это хоть чистое, в других местах не было и этого.
– В следующий раз нужно будет подумать об охране, – продолжал говорить директор, почти подпрыгивая, чтобы Северин его лучше слышал.
– Обязательно, – Гемма, как всегда пришла ему на помощь, возникнув из-за спины директора. – Как насчёт ветеранов Легиона? У нас неплохие связи среди их руководства.
Здание «Лютни» не было оборудовано электрическим звонком, поэтому, когда в коридоре зазвонили в колокольчик, Северин вернулся на сцену. Там уже стояли венский стул и невысокий столик, на котором горой были насыпаны записки с вопросами из зала. Сначала служитель театра обносил зрителей маленькой корзинкой, которая заполнилась бумажками уже на третьем ряду, поэтому всякий раз, как записки начинали валиться через край, он просто подходил к столику и высыпал на него содержимое корзинки. Северин поудобнее сел на стул и вытащил из груды первую записку.
Таких записок он в своей жизни видел тысячи. Во всех странах, где ему приходилось выступать, людей интересовали одинаковые проблемы – будущее, здоровье, дети, деньги. За час, который длилось второе отделение, Северин не ответил и на десятую часть записок. Он знал, что большую часть денег принесут индивидуальные клиенты, которые завтра же побегут записываться к нему на приём, впечатлённые его работой в зале. Он действительно считал, что помогает людям, но помощь эта скорее психологическая, как плацебо. Несмотря на то, что он говорил только то, что сообщали сущности, ни слова не добавляя от себя, информация не казалась ему особо ценной. Что толку, что давно умерший дядюшка просит простить его за какой-то проступок, совершённый сорок лет назад? Или матрос, утонувший во время шторма, говорит, что ему сейчас хорошо и спокойно, и вряд ли эта информация принесёт реальную пользу его родственникам. Конечно, иногда с помощью сущностей Северин мог отыскать пропавшую вещь, или сказать, жив разыскиваемый человек, или нет, а иногда почти точно разыскать место захоронения, но такие интересные случаи попадались нечасто, в большинстве случаев Северин выполнял обязанности простого телеграфиста, принимающего и передающего сообщения для людей, которые не знают азбуки Морзе.
После сеанса он сидел в гримёрке, потягивая приготовленный директором жидкий чай. Гемма с Антоном куда-то исчезли, зная, что после выступлений он любит побыть в одиночестве. Директор за дверью сдерживал толпу, желающую попасть внутрь, но Северин знал, что спустя полчаса, после многократных напоминаний, что он не желает никого видеть и ни с кем общаться не будет, все разойдутся. Постепенно шум за дверью стихал, пока не пропал совсем. Северин продолжал сидеть, согревая в ладонях пустой стакан. В такие минуты бездействия его одолевали воспоминания, картинки из прошлого мелькали перед ним, как в немом кино. Он помотал головой, чтобы отогнать навязчивые мысли. У человека его профессии прошлого быть не может. У него не может быть ни родителей, ни детства, ни юности, ни знакомых, которые могли бы рассказать о начале его карьеры. Он должен, как Афина Паллада из черепа Зевса, появиться на свет уже взрослым, в полном расцвете своего проклятого таланта.
Он встал и надел котелок, захватил стоящую в углу трость и вышел из комнаты. Коридор был тёмен, лишь в дальнем конце светилась одинокая лампочка, и он пошёл к ней, как большой, разучившийся летать мотылёк. Театр был пуст, как копилка банкрота, шаги гулко отражались от тёмных стен. Северин вышел на улицу, захотелось курить. Он похлопал себя по карманам, но трубка осталась в номере. Заметно похолодало, и он пожалел, что не взял пальто. Полная луна освещала узкие улочки. Северин решил идти в гостиницу другой дорогой, через Кафедральную площадь, мимо Замковой горы и вниз по Большой. Колокольня, освещённая тусклым светом фонарей, перекрывала вид на башню Гедимина, мимо, опустив голову, цокала лошадь, запряжённая в какой-то древний тарантас. Северин перешёл на другую сторону, где светились вывески нескольких кафе. Он подумал, а не пропустить ли пару рюмок коньяку перед сном, но перед самыми дверями в лицо ему пахнуло табачным дымом, он представил саму атмосферу этого места, скопище людей, пьяный гам, который так любили сущности, и заходить не стал. Едва не споткнувшись на брусчатке, он прибавил шагу. Любоваться архитектурой при свете уличного освещения было не самой лучшей идеей, то же самое, что осматривать залы Лувра с зажжённой спичкой в руках. Дорога к гостинице показалась ему длиннее, за каждым углом поджидала темнота. Проехал автомобиль с выключенными фарами, потом ещё один. Северин осматривал фасады, ему показалось, что он проскочил нужный ему дом. Пешеходов не было, только в закоулках трепыхались серые тени. Северин едва сдерживался, чтобы не побежать, как вдруг заметил знакомую вывеску «Италии». Распахнув дверь, он постоял, опираясь на неё спиной и переводя дух под удивлённым взглядом портье. Тот кивнул Северину и протянул ключ от номера.