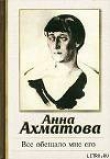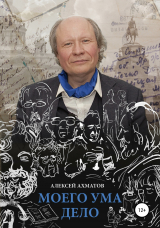
Текст книги "Моего ума дело"
Автор книги: Алексей Ахматов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
* * *
Лучший (после Чуковского) детский поэт XX века в одном из своих интервью сказал, что терпеть не может маленьких. Это нормально. Это даже закономерно… «Танцует тот, кто не танцует», – написал об этом когда-то Александр Кушнер.
Правда, перевалив за девятый десяток, Сергей Михалков заявил, что и стариков не любит. Говорят, когда кто-то упрекнул его в том, что он написал плохие слова для гимна, то ответ получил такой: «Зато ты будешь слушать их каждый раз стоя». Хороший ответ.
Целая эпоха за спиной. Неслабый путь от чернорабочего до главы Союза писателей. Можно по-разному относиться и к нему, и к его отпрыскам. Все мы неотвратимо «едем, едем, едем в далекие края…». Теперь вот уехал и сам Михалков, большой художник и крупный человек.
А давным-давно, в 1942 году он написал такие стихи про «десятилетнего человека»:
Крест-накрест белые полоски
На окнах съежившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.
И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе.
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе.
Накинув драный зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу, прямо на восток.
Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел,
В нетопленой, разбитой бане,
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!
Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза,
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.
Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.
Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.
И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.
Когда его спросили, что в жизни главное, он, не задумываясь, сказал: «творчество».
* * *
Трудясь в котельной возле Богословского кладбища, я нередко проходил через него, сокращая себе путь на работу. Помимо известных Цоя и Маринеско, тут лежат Виталий Бианки, Анатолий Мариенгоф, Лев Успенский… Однажды, на пересечении Двинской и Петрокрепостной дорожек я встретил высокий гранитный постамент, на котором выбито: «Илья Садофьев 1889 – 1965».
Забытый поэт, один из главных пролеткультовцев, руководивший когда-то Петроградским отделением Союза поэтов – в аккурат между Гумилевым (нелегитимно, как сейчас бы сказали, снявшим с этого поста Блока) и Тихоновым. И не просто забытый, а основательно – даже в «Строфы века» не попал, где полно более незначительных фигур. А был он человеком многогранной судьбы. За стихотворение «В заводе» загремел в якутскую ссылку с характеристикой «возбуждение вражды между рабочими и работодателями». Ссорился с Маяковским и футуристами. Это его ярлык вешали на левых: «примазавшиеся к революции». Входил в окружение Есенина, цеплял Шкловского. Последний писал тогда: «Илья Садофьев, вы меня считаете белым, я считаю вас красным. Но мы оба русские писатели. У нас у обоих не было бумаги для печатания книг… Вам кажется, что мы враги, на самом деле мы погибаем вместе». Его ценил символист Брюсов, а учителем его был реалист Горький.
Весь Мир – арена боя двух начал враждующих,
Весь Мир – огня стихия… весь Мир – Они и Мы!
Мы – красные строители счастья, дней чарующих,
Они – тираны белые, творцы гнетущей тьмы…
– писал Садофьев в книге «Динамо-стихи». Может, как поэт и небольшой, но романтик и в стихах, и в жизни! И как всякий романтик – несколько наивен. И детей своих от жены Параскевы он назвал Аполлоном и Лирой.
* * *
Однажды поэтесса Ирина Знаменская позвонила поэту Олегу Левитану и объявила, что у нее есть две новости. Одна, как водится, хорошая, другая – плохая. Олег Николаевич попросил начать с хорошей.
– Леонид Хаустов выступал на бетонном заводе и провалился в яму для цемента.
– Какая же плохая? – спросил Левитан.
– Достали, – печально объявила Знаменская.
* * *
Едем с поэтом Глебом Горбовским по Московскому проспекту в сберкассу снимать денежку, в очередной раз ему «капнувшую», – как он любил характеризовать поступление гонораров. Впереди нас телепается рафик с номером «К 705 ТС 47», где последние две цифры написаны чуть мельче и выше остального. Глеб Яковлевич внимательно читает вслух: «Приближаемся к семьсот пяти тысячам в сорок седьмой степени».
* * *
Всегда удивлялся, как писатель уровня Василя Быкова, мог заделаться в оголтелые националисты, бросить Родину, в конце концов, и уехать в Германию к немцам, о которых написал столько своих военных повестей. И там умереть. Я поделился на одной из вечеринок в журнале «Звезда» этим недоумением с редакторами.
– Так это не он все писал, – сказал, выслушав меня, редактор отдела прозы одного толстого журнала. – Как-то к нам пришла из Белоруссии рукопись, подписанная Василем Быковым. Я когда просмотрел ее, изумился, до чего безграмотный и корявый язык. Даже пошел к главному редактору с подозрением, что это подстава. Думал – посмеяться кто-то решил, под известной фамилией проталкивая свою графоманию. Но главный редактор меня заверил, что Василь таков и есть, и что все его произведения – результат художественной обработки редакторами и переводчиками, а самостоятельно наш великий писатель двух слов связать не в состоянии. И действительно, мне заново пришлось переписать присланные рассказы. В таком виде они и пошли в печать.
Я подумал, что и многие наши столпы литератур малых народов – результат работы переводчиков. Когда-то, работая секретарем у основоположника мансийской литературы Ювана Шесталова, я сделал несколько переводов с его подстрочника, как он это называл. На деле это были никакие не подстрочники. Он так и писал, нимало не озаботившись ни размером, ни рифмами, которые я, в свою очередь, уже исправно лепил и украшал.
Наших Кулиевых, Шесталовых, Кугультиновых, Гамзатовых и других, безусловно, делали переводчики, потому как последние – прекрасные русские поэты. Переводами они зарабатывали себе на кусок хлеба с маслом. А все-таки, с Василем Быковым как-то до обидного странно. Я так зачитывался им в юности. Наверное, он для меня остается лучшим военным писателем. Лучше и Васильева, и Бондарева.
* * *
Перед самым Новым Годом заглянул на один корпоративчик: начальство оптовой базы проставлялось своим работникам. Я задумался, а отличаются ли чем-нибудь писательские пьянки от всех остальных. И понял – отличаются. И существенно. Все напиваются легко, под шутки и прибаутки. Иногда, не очень легко и под мат-перемат. Но только писатели, поднимая рюмки, продолжают говорить о своем ремесле.
Никакому плотнику в голову не придет, назюзюкавшись с другим плотником, все застолье обсуждать остроту резца или толщину болванки. Только писатели всегда погружены в профессию по уши. Никаким алкоголем не вытащишь.
* * *
Выступал на секции поэзии родного Союза с поэтической подборкой, в котором было стихотворение:
Когда читатель и советчик,
Не говоря уж про врача,
По лестнице колючей в вечность
Уходят, дружно хохоча;
Когда все вызывает рвоту,
Когда, как сонная змея,
Твоя строка вполоборота
Глядит недобро на тебя,
Знай – ремесло земное выжить
Важней искусства падать вниз.
Не паникуй, как Боря Рыжий,
Как Башлачев, не суетись.
В период обсуждения со своего места поднялся поэт Николай Астафьев и гневно осудил эти стихи. Конечно, не саму идею, а последние строчки.
– Какое неуважение к достойным людям, трагически ушедшим из жизни, – заявил Астафьев.
Отвечать на это показалось мне глупым, и я не стал с ним спорить. Каково же было мое удивление, и радость одновременно, когда недели через две я разговорился с главным редактором «Царскосельского альманаха» Гумером Каримовым.
– А ведь, ты знаешь, что стихотворением «Когда читатель и советчик…» (тем самым) ты жизнь спас нашему прозаику Герману Алексееву, – сказал он, лукаво прищурясь.
– Нет, откуда ж? – ответил я.
– На полном серьезе! Он готовился к самоубийству. Денег нет, работы нет. Друзья бросили. И он уже подумывал о том, чтобы решить проблемы разом, шагнув с десятого этажа. И тут (Господь Бог изобретателен на такие моменты) ему в руки попался мой альманах, да еще и раскрытый на этой странице. Он прочел… и передумал кидаться с балкона. После этого повесть написал, опубликовал. В общем, стал жить, в себя поверил.
Судьба редко преподносит подобные сюрпризы, и я подумал, а спасло бы жизнь хоть кому-нибудь стихотворение на ту же тему, написанное политкорректно, никого не задевая?
* * *
Геннадий Григорьев был мастером анаграмм (искусство составления из букв имени и фамилии новых слов).
– Это гораздо сложнее палиндромов, – как-то хвалился он. – Я составляю анаграммы честно, т. е. со всеми буквами, какие есть в слове. Вот беру, например, имя председателя Союза писателей, драматурга – Владимир Константинович Арро, перетасовываю буквы, как карты в колоде, и получаю: «Он чиновник или автор драм». А наш премьер, Виктор Степанович Черномырдин, аккуратно укладывается в анаграмму: «Просмердит ветчина рыночников». Можешь проверить. Все буквы на месте.
– А на самого себя сочинял? – спросил я.
– Ну, Геннадий Анатольевич Григорьев – очень сложное сочетание букв, – раздулся от важности Гена. – Многие за это брались и говорили, что ничего путного не выйдет. Но я всю ночь просидел – и в голову само как бы сверху мне спустилось: «Трагичен ли гений? Верь в огонь ада!» Анаграммирование человека, по сути, – пронизывание его всего насквозь, как рентгеном. Вплоть до предсказания судьбы. Например, я анаграммировал Михаила Давыдовича Гурвича – выходило, что он поэт с блестящим будущим. А он взял псевдоним Михаил Яснов – и все, судьба изменилась!
* * *
Поэтесса Ирэна Сергеева, прочитав мои миниатюры, прислала мне «в копилку» и свою забавную историю. Передаю ее почти дословно:
«В 1959 году в Ленинграде в Доме писателя проходила дискуссия о лирике. Спускаюсь с главной лестницы и вижу перед входом в кафе Евтушенко в какой-то цветной, конечно, импортной, конечно, – синтетической коротенькой шубе. Тут же возникает четверостишие, которое я кому-то читаю:
Он не смешной, он – жуткий
Юноша в дамской шубке,
Юноша с птичьим носом
И с человечьим мозгом.
Спустя пять лет, при встрече с Юрием Нагибиным, зашла речь о Евтушенко, который снова приехал в Ленинград, и я мимоходом прочла эту эпиграмму, а также рассказала, что в шведском журнале вышла статья о Евтушенко. Нагибин попросил статью и перевод, и я на следующий день зашла к нему. К моему удивлению, там оказался и Евтушенко, желавший тоже получить статью. Нагибин тут же попросил, чтобы я прочла эпиграмму. Показалось неудобным, но писатели настаивали. Прочла. Но Евтушенко, равнодушно или притворяясь равнодушным, вздохнул: «Да я это давно знаю!»
А еще через пять лет, в «Авроре», Лидия Гладкая торжественно принимала Вознесенского, и я оказалась в числе гостей. Пришла, принесла шампанское. Лида, представляет меня, даму, Вознесенскому, а не наоборот. Ну, я «скромно», в том же ключе: «Вы моих стихов не знаете…» А он: «Почему же? Он не смешной, он – жуткий…» Словом, с большой любовью к Евтушенко запомнил. Говорят: дурная слава вперед бежит. В данном случае, нелестные слова передавались, как видно, с удовольствием и доходили до адресата».
* * *
Когда я, потрясенный в очередной раз глубиной и яркостью метафоры своего друга Николая Позняка, спросил, отчего же он не возьмет в руки перо, он, ни секунды не задумываясь, ответил:
– Пространство русской литературы и так не слишком вместительно. Зачем же я буду загромождать ее еще и собственными стихами?
* * *
Старик Горбовский получил литературную премию Союзного государства. Ни много, ни мало – пять миллионов рублей. Благодаря учредителей и всех собравшихся, Глеб Яковлевич заверил, что его эти деньги уже не испортят. В газеты эта по-настоящему живая реплика навряд ли попала.
* * *
Недавно прочитал в письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года такие слова:
«Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе».
Без сомнения, все так, но я почему-то вспомнил запись в дневнике Иоанна Кронштадтского:
«30. VII. 1869. Воззвал я ко Господу с полным упованием о прекращении дождевого ливеня, и чрез 5 минут небо просияло».
* * *
На открытие первого номера журнала «Северная Аврора» приехали нас поздравить московские литераторы из журнала «Литературная учеба» и «Юность». Поэт Андрей Романов попросил подготовить москвичам подборки стихов, и я засел за компьютер в вечном поиске, что бы дать. Дело в том, что практически все мной написанное было либо опубликовано (через неделю выходило мое избранное, с последними стихами), либо рассматривалось для публикации. Только-только у меня попросили десяток стихов в альманах «Петрополь», а два дня назад я отнес подборку в журнал «Нева». Однако же, какие-то стихи выбрать было нужно. Совсем старые, из прошлых книг, брать не хотелось, но я подумал: «А что, собственно, москвичам? Не все ли равно. Моих стихов никто из них не публиковал, да и не читал, наверное. Какая им разница!» Подобрал, скомпоновал и распечатал.
Пришло время знакомиться. Приятные ребята. Прозаик и критик Игорь Михайлов и поэт Валерий Дударев. Разговорились. Я представился.
– А ведь я вас знаю, – воскликнул Михайлов.
– Откуда? – удивился я.
– А я читал вас когда-то… по-моему в «Книжном обозрении». Сейчас я даже вспомню, там еще метафора такая была: что-то о том, как рощица сбегает с холма, как молоко…
– А! – еще больше удивился я. Действительно, было такое:
С холма березовая рощица вскипая
Сбегает вниз, как с плитки молоко.
Но ведь это было лет восемнадцать – двадцать назад.
Ребята засмеялись, а мне невольно, сквозь приятную волну, стало стыдно за мысли о том, что москвичам все равно, что им дают. «Двадцать лет помнить чужую строку», – с трепетом подумал я, и смог сказать только:
– Ну и память…
– Ну и образ, – парировал Игорь Михайлов.
Тем же вечером, после презентации «Северной Авроры» мы собрались на лито с моими учениками. Я, не удержавшись, похвастался этой историей, а затем вышел поговорить по телефону. Выйдя, за дверью услышал комментарий молодого поэта Кирилла Пасечника: «Во, заливает!»
И от его неверия история приобрела еще большую значимость, а мое самодовольство раздулось еще сильнее.
* * *
Отсняли сюжет, посвященный 199-летию со дня рождения Тютчева. Задумка такова: в кабачке собирается поэтическое общество «тютчеведов». Роли распределены заранее. Прозаик Володя Шпаков – эксперт-биограф. Поэт Николай Наливайко – восторженный почитатель. Поэт Евгений Антипов – «злой следователь» с тезисами: устарел, архаичен, дидактичен. Я – «противовес» Антипову: метафоричен, афористичен, патриотичен.
Половину из беседы ведущая забраковала, как слишком для телевизора умную. При этом выразила удивление:
– А Тютчев что, был патриотом?
– А как же, – говорю, убежденный государственник.
– Надо же… я разочарована, – протягивает она.
– Почему? – удивляюсь в свою очередь, – а кем же вы думаете, он был?
– Ну, – затрудняется ведущая, – а я думала, он нормальный человек.
Такой диалог. Красивая, ухоженная девочка. Даже стихи, посвященные Денисьевой, знает.
Затем съемочная бригада уехала, а мы продолжили, рассуждая, в какую партию вступил бы Федор Иванович сегодня. Мне почему-то подумалось, что в КПРФ, даже несмотря на то, что, будучи старшим цензором страны, он запретил публиковать манифест коммунистической партии со словами: «Кому надо, прочтут и на немецком».
* * *
С удовольствием перечитал один из ранних сборничков Александра Кушнера «Приметы». Это белоснежная, в суперобложке, книга тиражом в 10 000 (!) экземпляров, которую выпустил обыкновенный учитель обыкновенной школы рабочей молодежи на Выборгской стороне, в возрасте тридцати трех лет. Там нет ни одного «датского» стихотворения. Есть о душе, есть о вечной жизни (о душе, вообще, замечательно):
…То, что мы должны вернуть
Умирая в лучшем виде…
Очень много об аде (на дворе воинствующее безбожие конца 60-х):
И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду…
И о рае: «…то тихо скрипнет дверь в раю…»
Поэтому мне всегда смешно, когда рассказывают о том, как цензура снимала стихи и целые подборки, если редактор замечал религиозный подтекст. А может, просто писать нужно было хорошо, тогда б и рай, и ад проходили?
Но, возвращаюсь к «Приметам». Не могу не привести блестящее, возможно, лучшее в книге стихотворение:
Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.
Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.
Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, –
Меня в нем только нет».
Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.
Это, кстати, третья книга, а первая у Кушнера вышла в двадцать шесть лет. Причем не пятьсот экземпляров за свой счет, как, например, у Марины Цветаевой в 1910-м, в несоветские времена, а те же десять тысяч, продаваемых по всей стране. И получил за нее гонорар, на который можно было жить год. При этом он пишет, говоря о Бродском: «…наша бедная, полунищая, убогая, до 1987 года подневольная жизнь представляется ему оазисом». Чудны дела твои, Господи. Где, в каком уголке мира молодой поэт мог иметь столько воли, столько внимания и, вообще, всего того, что имели поэты в нашей стране?..
Дважды ахматовская будка
* * *
Удивительная связь прослеживается между моей семьей и Ахматовой. Моя мать одно время жила в Тучковом переулке, в том самом доме, где и Ахматова с Гумилевым в начале ХХ века. «Тучка» – любовно называли они свою квартирку. А в 90-х, когда поэты выживали, как могли, подаваясь в «дворники и сторожа», я охранял пустырь на набережной Робеспьера – позже на этом месте появился памятник великой поэтессе.
Недавно случился еще один казус: мне выделили дачу Ахматовой в Комарово. Это практически дом-музей, где Анна Андреевна отдыхала последние десять своей жизни, остался в ведении Литфонда и до сих пор сдается в аренду членам писательских союзов. Странная планировка – коридоры-закоулки и полутемная комната – дала название дачи «будка» (произносилось Ахматовой с иронией, но добродушно). Сюда приезжали Фаина Раневская, Юнна Мориц, Иосиф Бродский, что сделало место еще более культовым и привлекательным для туристов.
Свое новоселье на даче я бурно отметил с друзьями, а наутро ко мне постучался поэт Евгений Антипов, и, указав на мою опухшую физиономию, радостно провозгласил:
– А вот и ахматовская будка!
* * *
Поросший соснами участок между Кудринским переулком и улицей Осипенко был передан Литфонду под писательские дачи в 1955 году. Тогда же здесь построили четыре деревянных дома, а потом, в 70-х, еще два.
Ахматова стояла первой в очередь на заселение. Пока шло строительство, она гостила у своих друзей, Александра и Сильвы Гитовичей, на 2-й Дачной улице. «Не дождавшись полного окончания работ, Ира увезла Ахматову от нас осваивать свою дачу. Не успела она уехать, как я получила душераздирающую записку. "Милая Сильва, – писала она, – против окна моей комнаты стоит дровяной сарай. Взываю к Вам! SOS! Помогите! Целую. Ваша Ахматова". Я тут же побежала к ним на Кудринскую, дала плотникам на пол-литра, и они перенесли сарай к забору. В житейских делах она была беспомощна. Все знали, что она боится техники, не умеет включить проигрыватель, не умеет поставить пластинку, не умеет зажечь газ». (Сильва Гитович. «О Анне Андреевне»).
Не умела зажечь газ – зато с удовольствием топила печку, собирала и чистила грибы. Посадила у крыльца клены, привезенные из сада Фонтанного дома (теперь их нет – не прижились? вырублены?). Приносила из леса коряги: они были повсюду: и в доме, и на участке. Самая большая, рогатая, именовалась «деревянным богом» и важно возлежала под окнами веранды.
Обживалась так: в будке появились матрас на кирпичах, так и не замененный полноценной кроватью («У меня кровать на кирпичах, – говорила Ахматова, – а у Пушкина была не березовых поленьях») и длинный письменный стол, уставленный книгами, вазами и подсвечниками. За ним Ахматова переводила Леопарди и Тагора, писала – вернее, записывала уже сложенные в уме стихи.
«Вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала-проборматывала – "жужжала" – неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым и потому всеми слышимым выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос». (Анатолий Найман. «Рассказы о Анне Ахматовой»). Сама поэтесса писала о процессе стихосложения не без лукавства:
Подумаешь, тоже работа, –
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.
И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И все – у ночной тишины.
(Из цикла «Тайны ремесла». Июль 1959. Комарово)
В Комаровскую глушь, к Ахматовой, приезжали друзья, поклонники, молодые и знаменитые авторы, литературоведы из-за границы… Собственно, это был ее звездный час, когда, восстановленная в Союзе писателей, получавшая премии, книги и как бы второе признание, она осталась одной из последних свидетелей Серебряного века.
«Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей "станция Ахматовка". Когда я заставала ее на даче в одиночестве, она говорила: "Человека забыли" (реплика Фирса, оставленного в заколоченном доме)». (Фаина Раневская. «Судьба-шлюха»).
И сейчас, постоянно приезжают поклонники, – обходят благоговейно будку и, выйдя на Озерную улицу, «дорогой, не скажу куда», направляются к нынешнему, последнему пристанищу поэтессы…
* * *
В 1966 году, после смерти Ахматовой, из будки хотели сделать музей, но конструкция дома – маленького, с темными коридорами, – для этого не годилась. Поэтому мебель пристроили в различные фонды (знаменитое ахматовское кресло с высокой спинкой хранится в Фонтанном доме), а дачу продолжили сдавать писателям. После Ахматовой здесь поселился Глеб Семенов и жил где-то до начала 70-х. Хотя Глеб Сергеевич не мог бы назваться крупным поэтом, но у него был удивительный поэтический слух. В его лито занимались Александр Кушнер, Нонна Слепакова, Глеб Горбовский, Галина Гампер… Об ахматовской будке у Семенова есть удивительно лирические, «дождливые» строки:
Шум дождя на веранде,
лето, дачный сезон.
Сколько там не горланьте,
я дождем обнесен.
Я дождем забормочен,
мне совсем не до вас.
Да и весел не очень
я, наверно, сейчас
Шум дождя на веранде,
каждодневный недуг
Никаких нет гарантий,
что разведрится вдруг
Ни малейшей отсрочки.
Так что, брат, не ершись!
Недописаны строчки,
недодумана жизнь.
Шум дождя на веранде
до конца моих дней
Напоследок сварганьте
кофе мне почерней
Или нет, погодите,
лучше сам я сварю.
Вы со мной посидите,
я на вас посмотрю.
В числе последующих обитателей будки: писатель-историк Даниил Аль, прозаики Андрей Кутерницкий, Сергей Носов и поэт Игорь Кравченко. И главный старожил – прозаик Валерий Попов, въехавший сюда в 2003 году, сразу после того, как стал председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. Он рассказывал: «Будка разваливалась. Гнилые доски, плохие предохранители: только включишь чайник – выщелкиваются пробки, показывая красную фигу. Я называл ее «фига Ахматовой»: мол, Анна Андреевна грозит: «Не место тебе здесь!». Как-то пытался делать ремонт. Нашел плотника – он здесь жил и как бы строил крыльцо. Получалась какая-то странная штука, похожая на египетскую пирамиду… Плотник крепко выпивал, но в четыре утра в нем просыпалась совесть, и на весь поселок начинал бойко стучать молоток. В восемь утра совесть замолкала, и плотник куда-то исчезал. Порой я видел, как он сидел в пивной и важно говорил собутыльником: «Работаю с домом Ахматовой. Выматываюсь страшно!». Он был народным героем.