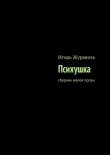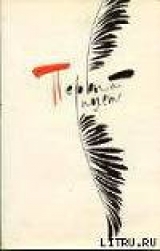
Текст книги "Психушка"
Автор книги: Алексей Бабий
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Алексей Бабий
ПСИХУШКА
(сугубо фантастический рассказ)
редакция 1.0, декабрь 1984 – май 1985
редакция 2.0, март – май 1987
редакция 2.1, сентябрь 1988
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ АВТОРА
Все события, описанные в рассказе, не имеют никакого отношения к нашей действительности. Совпадение ситуаций, фактов и фамилий может быть только случайным. На всякий случай автор стремился избегать каких бы то ни было фамилий.
Автор также снимает с себя ответственность за то, как будут истолкованы его аллегории, поскольку известно, что каждый судит в меру СВОЕЙ испорченности.
Не знаю, с чего и начать.
Нет, знаю. Начать надо бы не с начала, а с главного: с того, как я жил до этой кошмарной истории. Но дело как раз в том, что до этой истории я еще не жил. Я БЫЛ. И больше сказать нечего. Абсолютно среднеарифметическая личность: рост средний, рот средний, семейное положение среднее: полторы жены и посредственный ребенок. Не брюнет, не блондин, не… В общем, шатен. Лысоватый. Нет, нет, не был, не привлекался, не состоял, не имею, не награждался, не участвовал. И так далее. Вот это и есть главное.
А теперь – о сюжете. Сюжет начался с того, что приехал я в командировку в некий город Энск. И, не успел приехать, вот вам рояль в кустах: на вокзале, сквозь сон, услышал разговор и узнал такое!
Такое я узнал, что сон с меня тут же слетел, и я едва дождался утра, и вместо того, чтобы отметить прибытие, махнул в этот самый микрорайон.
Это была не какая-нибудь там тайнишка, вроде среднеарифметического адюльтера, это была самая настоящая, с большой буквы, Тайна! Хотя, конечно, это была Тайна с большой буквы, но не ТАЙНА большими буквами – в ту я (да и ты, дорогой мой читатель) не сунулся бы ни за какие коврижки: ведь там не ограничатся тем, что хлопнут тебя пыльным мешком по голове; там бьют сразу твердым и тяжелым, чтобы наверняка. А эта Тайна показалась мне где-то даже комичной, хотя она и была с большой буквы. Во всяком случае, она была достаточно безопасной, чтобы я вообразил себя частным детективом и пожелал сыграть в четыре руки.
(Ты, читатель, нежно любимый мною среднеарифметический читатель, ты ведь прекрасно меня поймешь: ведь и тебе не раз приходилось вообразить себя Жан-Полем Бельмондо, а?! И тебе не надо разъяснять, что полез я в эту тайну исключительно ради того, чтобы в теплой компании, и непременно при какой-нибудь Людочке, закинуть ногу за ногу и начать этак непринужденно: «Можете себе представить, в городе Энске отмочили вот что…»)
Стоп-стоп-стоп! Я чуть не проговорился, а ведь читателя полагается томить неизвестностью! Вернемся-ка к сюжету.
Итак, сел я в автобус номер тридцать семь да и махнул в этот самый микрорайон, чтобы посмотреть все живьем и в натуре. Ну, махнул – это громко сказано. Я только ждал его полдня, да еще ехал не меньше полутора часов.
Ехал я, можно сказать, с комфортом. Во всяком случае, меня не толкали. Чтобы толкаться, нужно все же какое-то пространство, я же был просто вдавлен в единую массу, я заполнил оставшиеся в ней впадины и растекся, занимая минимальный объем, и вот так, в монолитном единстве со всеми прочими, был оттранспортирован в микрорайон «П».
На конечной остановке вместо Жан-Поля выпало на асфальт что-то зеленое, бесформенное и бесчувственное, и сил у меня хватило только на то, чтобы добраться до ближайшей скамейки. Я присел на краешек, поскольку скамейка была занята лицом неопределенных занятий.
Впрочем, сейчас у него было вполне определенное занятие: оно дрыхло, вольготно развалившись на месте общественного сидения и подставив осеннему солнышку свое щетинистое рыло.
(Кстати, как тебе, читатель, понравилась последняя фраза, а? Не без изящества, а проще сказать – блеск, да и только! Каюсь, я придумал эту фразу не для тебя, а для Людочки, но где теперь Людочки… и делать нечего, вручаю эту фразу тебе. Береги ее – у меня столь удачных не так много!)
Алкаш, подумал я. А может, и нет. Может, это – алканавт, человек редкой и благородной профессии. Как там говорил Ихний Шеф: на эту работу подбирают самых опытных, да еще и молоко дают: за вредность!
Алкаш тем временем очнулся, сел и уставился на меня. Одну лишь мысль можно было прочитать в этом взгляде, зато с ходу: «Пивка бы!» Пивка! И я почуял, как пересохло мое небо. Ну почему бы не начать с пивка? Ведь и Жан-Поль завязывает свой сюжет, как правило, у стойки!
– А пивбар у вас тут есть? – спросил я.
Алканавт с подозрением посмотрел на мой галстук, швыркнул носом и пошел прочь. Я пристыженно сидел. Пройдя метров десять, алкаш обернулся и сказал:
– Ну ты, дирижобель! Ты идешь или нет?
Я взлетел со скамейки с поспешностью, совсем не свойственной дирижаблям. Мы долго плутали среди пяти– и девятиэтажек, резали углы, огибали гаражи, а, наконец, попали в подвальчик, как раз такой, какие мне и нравятся: грязный, заплеванный, а дым и матюги висят так густо, что хоть на хлеб намазывай. Нам крупно повезло: не успели мы войти, как освободилась бочка, изображавшая стол на двоих. Так что, уже через пять минут, освежившись первой кружечкой, мы приступили к делу.
К какому делу? К тому самому. Ведь в пивбар ходят не затем, чтобы поваляться потом под забором (хотя и в этом есть наслаждение). В пивбаре ОБЩАЮТСЯ! Ты, положим, доказываешь соседу, что с уходом Третьяка ЦСКА загнется, а он тебе – что его начальник сволочь, каких мало. И вы киваете головами, жмете друг другу руки, хлопаете по плечу и при этом абсолютно не слушаете друг друга. Важно не сказать, важно высказаться!
Нет, конечно, и в обыденной жизни мы общаемся не качественнее: слушаете ли вы жену, когда она в красках живописует покупку новых колготок? Или, с другой стороны: трепетесь ли вы в курилке, берете ли повышенные обязательства, охмуряете ли какую-нибудь Людочку – вы несете чушь и прекрасно это понимаете. Но пивбарная чушь особая, она идет из глубины души, она – чушь сокровенная и ценимая. То, что обычно копошится где-то внутри и чему я обычно не даю ходу, все это выплескивается с пеной и пузырями и заменяется пивом; и когда я вспоминаю то, что выплеснулось, оказывается, что человек я свободомыслящий и где-то даже незаурядный, но только в пределах от третьей кружки до восьмой. До третьей я – Иван Иваныч, и больше ничего, а после восьмой я просто физическое тело, которое, по всем законам физики, стремится переместить свой центр тяжести как можно ниже.
Притягательность пивбара в том и заключается, что все мы хотим быть не такими, какие мы есть. Все мы хотели бы освободиться, но не знаем, от чего именно, а в пределах от третьей до восьмой мы летим свободно, неважно куда – вверх или вниз, главное – летим!
Так вот, мы с Павлом Иванычем (так представился мне алкаш) воспарили мыслью об искоренении алкоголизма. Вы можете сказать, что обстановка для этого, скажем так, неадекватная: грязная пивнушка, рыбьи кишки в тарелках, и прочее. Да и ораторы, того… тьфу: два алкаша, даром, что один – начинающий. Ну и что, отвечу я. Если воры рассуждают о честности, убийцы о мире, а профессиональные лоботрясы об интенсификации труда, ну почему бы двум пьяным не поговорить за кружкой пива о том, как вводить повсеместную трезвость? К тому же я оприходовал третью кружку, а значит, приобщился к миру возвышенных мыслей. К тому же трезвенники вообще неспособны бороться за трезвость: они не понимают, почему люди пьют!
– Паша! – сказал я, – все очень просто! Надо сделать потребление алкоголя обязательным. Чтобы все отчитывались на собраниях о количестве выпитого. И чтоб брали встречный план. А трезвенников – прорабатывать. Коллективом. Создать общество пьяности. Провести кампанию о пользе алкоголя. В столовую без бутылки не пускать. Паша, я тебя уверяю: все поголовно бросят пить!
– Да ты псих! – сказал потрясенный Павел Иванович. Оказывается, он меня внимательно слушал.
– Паша! – ухмыльнулся я. – Ты философию любишь?
Ответ Павла Ивановича содержал междометие, два местоимения, три матерных слова и одно нематерное, но все равно непечатное. Я полагаюсь на твое знание русского разговорного, читатель: вставь сам, что сочтешь нужным, а я поставлю просто при точки:
– …-образно выразился Павел Иванович. – Материя да сознание, да эта, как ее, эпилептика, что ли? Что в школе, что в институте!
– Ну вот. Просекаешь?
– Просекаю! – сказал Павел Иванович. И добавил, заплакав: – Да во мне, значит, Иммануил Кант погиб!
И я не поразился растущему на глазах интеллекту Павла Ивановича, а просто крикнул: «Чилавек! еще по пять!»
А поразиться следовало бы, и притормозить следовало бы, ведь я чувствовал, что превращаюсь в физическое тело, но после третьей в Иван Иванычи ужасно не хотелось; к тому же физическое тело выгодно отличается от человеческого тем, что совершенно себя не ощущает, а уж как порою надоест себя ощущать! И потом, кто знает, может быть, стремление к низкому размещению центра тяжести и есть самое высокое стремление?!
А вот Павел Иванович, напротив, с каждой кружкой трезвел и смысла в его глазах становилось все больше, а после седьмой я разглядел на нем не то галстук, не то костюм-тройку; во всяком случае, лицо у него было чисто выбрито, на голове пробор, и толковал он об экзистенциализме.
Впрочем, это мог быть и не Павел Иванович: я отлучался в туалет и вполне мог сесть не за ту бочку. Помню, как я приставал к Павлу Иванычу с одним и тем же вопросом:
– Ты из тех или из этих?
– Я Павел Иванович, и хватит об этом. – отвечал мне Павел Иванович. Значит, это все-таки был Павел Иванович, а выбритое лицо принадлежало кому-то другому. Или того, с пробором, тоже звали Павлом Ивановичем?
– А может, ты по другой части? Может, ты – Ловец Человеков? – допытывался я.
Павел Иванович жевал кильку прямо с головой и кишками и трезво молчал. И я как-то сразу похолодел. А ну как он и впрямь – Ловец? И принял меня за Новосела и повел, повел…
Мне сразу расхотелось играть в четыре руки.
– Ты куда? – спросил Ловец Человеков.
– Я? Я… того…
– Не сомневаюсь! – заметил Павел Иванович. – Ну, пошли!
Я стремительно трезвел. Не надо, ребята. Я свой. Я Иван Иваныч. Ну, сказанул слегка. Так ведь теперь за это к стенке не ставят. Я свой!
– Ну чо ты нервничаешь? – говорил Павел Иванович. – Всю стену вон уделал. Пошли-ка, еще по пять захвалим!
– Нет. – сказал я. Вы ошиблись. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Я не Новосел. Я случайно. Я не тот. Я не я. Я не он, понимаете? Вы ошиблись.
– Я не я! – передразнил Павел Иванович. – Да ты псих! Точно, псих! Я сразу понял!
– Не-е-е-е-т! – заорал я, сшиб с ног алканавта и бросился в проем двери. «Держи психа!» – кричал Павел Иванович.
Ох, погоня! Ну, читатель, вот тебе и погоня! И ты вправе ждать проходных дворов, топанья сапогов по крыше и сигания через пропасти: все это смотрится хоть куда, да и читается неплохо!
А передо мной простирался ухоженный проспект, ведущий вдаль и ввысь, и по этому-то проспекту я сдуру и рванул. Скоро я понял свою ошибку, но деваться было некуда: гипотенуза короче суммы двух катетов, и свернув, я неминуемо попал бы в лапы Павла Ивановича, а мне уж так этого не хотелось!
Поначалу я драпал неряшливо и потратил много сил зря, но проспект был длинный и я успел наработать тактику и стратегию бега, и выправил дыхание. Нечего и говорить, скоро я бежал по чемпионски. Правда, от преследователей я так и не оторвался, но между делом побил несколько рекордов. Я весь был увешан финишными ленточками. Я придерживал левой рукой невыносимо болтающееся пузо (а локтем – кипу почетных грамот), а правую оттягивал магнитофон «Ростов», который мне выдали где-то на промежуточном финише. Магнитофон больно колотил меня по икрам и вообще, в силу своей стационарности, очень мешал бежать, но расстаться с ним я был не в силах.
Толпа сзади изрядно поредела, но не отставала, и я наддал из последних сил. Однако проспект, ведущий вдаль и ввысь, неожиданно кончился обрывом. Деваться было некуда; не помня себя, я заскочил в ближайший подъезд. Конечно же, лифт не работал. Припадая на обе ноги, как предзимняя муха, вполз я на седьмой этаж (дальше не хватило сил) и нажал первую попавшуюся кнопку.
Дверь открылась, и из проема вырвался гул чудовищного застолья.
– А вот и он! – сказали мне.
– Нет. – сказал я. – Это не он. Это не я. Это… В общем, извините…
– Не извиним! – услышал я. – Штрафную ему! чтоб не опаздывал! Во! Бежал! Торопился! Да оставили тебе, оставили! А ну, штрафную ему! Братва! Да он с музыкой!
И тут все грянули «Миллион алых роз» и про меня забыли. А я упал на диван и попытался привести мысли в порядок. Ладно, думал я. Это шанс. Затеряемся. Мне бы только дух перевести. Мне бы только до ночи продержаться, а там и пешком убегу. И я сел за стол.
Гости дружно закричали «Сор в вине», и я поднял было бокал с игристой «Пшеничной», но, к своему удивлению, не увидел нигде жениха. Более того, все доброжелательно смотрели на меня, а моя соседка при этом целовала меня взасос. «Двадцать три! Двадцать четыре» – с воодушевлением орали гости, а когда я с усилием оторвался, послышалось громовое «Ур-р-р-а-а-а!».
И я сказал соседке, которая была без фаты, но в довольно белом платье:
– Послушайте, но ведь мы с Вами незнакомы!
– Это поправимо. – сказала она. – Меня зовут Любовью.
– Как!? – с надеждой спросил я. – И с большой буквы?
– Ну, уж это как получится! И кстати – ты заработал право называть меня просто Любой.
Не много ли на себя берешь, хотел было возмутиться я (я ничего зарабатывать не собирался), но взглянул на Любовь и осекся. Она была… В общем, она была такая… да еще и с ямочками на щечках, так что я хотел сказать, но не сказал, а вместо того вдруг завопил: «Горько!»
– Вот это молодец! Вот это по-нашему! – загалдели гости. – Сто сорок! Сто сорок один! Ур-р-р-а-а-а!
Что там и говорить, скоро забыл я и про пивнушку, и про обрыв, и про Павла Ивановича, заслуженного алканавта республики, и автобус номер тридцать семь забыл, и цель командировки из головы выбросил, и снял с себя финишные ленточки, а грамоты отнес в место общего пользования: пропади все пропадом!
Магнитофон мой орал: «Все-е-е-е пройдет, и печаль, и радости», а я топтался в обнимку с Любовью и извергал в ее вкусное розовое ушко абсолютно розовую чушь, а она смеялась и щекотала мои щеки распрекрасными своими волосами.
И был винегрет под водочку, и я зачем-то танцевал лезгинку, потом была кухня и близкое лицо, потом (или до того) была прихожая, в которой на нас с Любовью с грохотом обрушилась вешалка, и был лифт, который ездил то вверх, то вниз и в котором мы трудолюбиво целовались, и снова прихожая, но уже другая, и какой-то чай с карамельками…
Да-да-да, не зря ты навострил ушки, дорогой мой среднеарифметический читатель: дождался, наконец! Ну как же без нее, без клубнички-ползунички! У меня есть для тебя тайна, да еще и с большой буквы: будь спокоен, я тебе ее не скоро открою. Есть герой-супермен, тайну раскрывающий – это я собственной персоной. Была уже и замечательная погоня, но не хватало десерта, и вот – клубничка подана-с!
Увы, пока порадовать тебя нечем: в том вечер я так нагрузился, что наутро не только не помнил подробностей той, возможно, восхитительной ночи, но и не был даже уверен, а были ли они, эти самые подробности.
Но что было утром… Что было утром! Во рту у меня не то что эскадрон ночевал, целая конармия оставила там свои лепешки. В брюхе что-то свирепо ворочалось, а голова грозила взорваться и разбрызгать мозги по обоям. Ноги после вчерашней пробежки отчаянно ныли, мочевой пузырь был переполнен, и вдобавок я не мог шевельнуться, так как наполовину был придавлен Любовью, а она была женщиной не из мелких!
И я подумал, что все опять было не так, что она вовсе не с большой буквы, а может быть, даже и в кавычках. Еще одна грустная мысль посетила меня в тот момент – что с большой буквы у меня только имя, отчество и фамилия, да и то в этом нет никакой моей заслуги. И с этой грустной мыслью я забылся.
Очнувшись в очередной раз, я собрал все свои силы и, держась одной рукой за стенку, а другой за голову, чтобы она ненароком не отпала, разгребая плечом сохнущие простыни, добрался до туалета.
Любаша возилась у плиты.
– Ну ты и спать! – сказала она. – Дело к вечеру уже. Обедать будешь?
– М-м-м-м-м! – сказал я.
– Ясно. Чаечку, значит?
– Ы-м-м-м! – сказал я.
– Давай пей. А то уже одеваться пора.
– ? – сказал я.
– Мы же к Бубякиным идем. Забыл, что ли? У них почти что новоселье.
– А я-то тут при чем?
– Так они же нас приглашали!
Так. Уже – нас. Очень мило.
– Постой. Как это… Так свадьба… Как же это…
– Господи! – сказала Любаша. – Свадьба! Мы вчера слегка заскучали, а тут ты, да еще и с магнитофоном. Ты был просто прелесть вчера!
И она щедро улыбнулась мне всеми своими ямочками.
– А при чем тут магнитофон? – тупо спросил я.
– Боже мой! До чего же утренние мужики отличаются от вечерних! – слегка раздражаясь, заметила Любаша. Я хотел было вставить, что, мол, не больше, чем вечерние бабы от утренних, но не успел: Любаша подбоченилась, уперев руку с полотенцем в скульптурное свое бедро, и заговорила:
– И этот про магнитофон. Я-то думала, хоть этот не будет про магнитофон. Магнитофон! Ну чего тебе дался этот магнитофон! Что делал слон, когда пришел на поле он? А при чем тут слон, а при чем Наполеон? – язвительно сказала она, и закончила убийственно, – Травку жевал! – и стала чем-то там особо гремящим брякать в мойке.
Мои бедные мозги совсем перепутались. Я хлебал чай и со скрежетом переставлял мысли с места на место. Наконец, мне удалось выстроить нечто завершенное. Правда, слон, Наполеон и травка так и не вписались, но я решил не обращать на это внимания.
Итак, свадьба была шуткой, и это меня порадовало. Не хватало еще связать себя с районом «П» узами брака. Но шутка эта была настолько правдоподобной, что я стал подумывать, а не была ли шуткой и моя предыдущая свадьба – ведь точно так же сунулся я в первую попавшуюся дверь, и мне еще повезло, что за ней оказалась не мымра какая-нибудь, не тыдра, не фифа, не лярва и не шалава. Там была нормальная среднеарифметическая бабочка, а ведь рядом проживала помесь скырлы со стервой… у меня мороз рванул по коже, когда я об этом подумал!
А вот погоня… Странно, что аборигены района «П», которые все, кроме сотрудников Ихнего Шефа, были психами (прости, читатель, вырвалось… ну да бог с ней, с тайной, не до нее…), так вот, аборигены с воодушевлением гоняли психа, то есть меня. Но, с другой стороны, ничего удивительного, и Ихний Шеф на вокзале так и разъяснял: они психи, но не знают об этом и живут вроде бы нормальной жизнью, надежно изолированные от города автобусом номер тридцать семь, и лечат их неназойливо, без смирительных рубашек и прочего, внедряясь в их же ряды.
И вот что еще удивительно: никто из них не показался мне психом. Хотя, как отличить психа от непсиха? И зачем я сюда ехал, если не умел отличать?
И я подумал: а зачем мне все это? Идут они все подальше – алкаши и алканавты, Ихние Шефы и Ловцы Человеков, психи все эти… Чего я тяну, чего живу среди них и пью с ними, а у меня командировка скоро кончится, что я скажу своему начальству?
Но тут я вспомнил, что задание на командировку было написано до того невнятно, таким ужасным почерком, что я ведь до сих пор не знаю, зачем я вообще приехал в Энск. Точнее, я-то знаю – полазить по магазинам и вообще вкусить от древа удовольствий; и разве что вечером, если останутся силы, порасшифровывать командировочное задание.
На худой конец и отчет о командировке можно написать неразборчиво, а вкушать от древа можно и среди психов. Вон Любаша: от одних ямочек прорва удовольствий, я уже не говорю о выпуклостях.
Ну ладно, решил я, Бубякины так Бубякины, и стал натягивать штаны.
Бубякин мне был смутно знаком. Наверное, по свадьбе.
– Кто там? – спросили из кухни.
– Да Любка пришла со своим пассием!
– С которым пассием?
– Ну, со вчерашним, с магнитофоном который! – пояснил Бубякин.
Меня это несколько покоробило. Во-первых, пассия, насколько я понимаю, женского рода. А во-вторых, большая буква тут принадлежала уже не мне: я был просто Любкиным пассием и, чтобы не путать меня с другими пассиями, мне привесили ярлычок «с магнитофоном». Дался же им этот магнитофон, в самом деле!
В общем, я затаил на Бубякина некоторую обиду и решил, что первым подраскрою скобки именно ему. Но Бубякин меня разочаровал: уж больно простой случай. Его серванты сияли хрусталем, а ковры лежали и висели даже в прихожей. Его книжные шкафы были забиты новенькими книгами, а на соседних полках сверкали наклейками бутылки: зарубежная классика (ром, бренди), полное собрание русской водки (а это еще та, по два восемьдесят семь, гордо сказал Бубякин), и ликеры, и коньяки, и сухие…
Кое-чем меня Бубякин все же удивил: например, коллекцией вырезок из «Крокодила». Все до единой карикатуры были про мещан. «Вот же зажрались, сволочи!» – говорил он осуждающе.
Но в основном это был классический обыватель, и нечего о нем распространяться, и ты, дорогой читатель, наверняка уже сказал свое слово: «Вот же зажрался, Бубякин!».
Да, но при чем тут психиатрия? А при том. Я понял, что очевидное бубякинское накопительство было именно манией. Просто раньше я считал это метафорой, а теперь понял, что это так на самом деле.
Со следующим диагнозом я провозился дольше. Тут было целое семейство со сложным наследственным маниакально-депрессивным психозом. (Откуда я знаю этакие слова, спросишь ты, читатель, и я искренне отвечу: из справочника фельдшера, изданного в Москве в 1975 году. Я позаимствовал его со скудной книжной полки моей Любаши и, запираясь время от времени в бубякинском туалете, черпал из него (из справочника) столь необходимые мне психиатрические познания).
Ох, уж эти Минуткины! Еще в самом начале, когда Бубякин показывал ослепительную спальню, они построились свиньей и прорвали заслон зрителей.
– Зина! – сказал Минуткин. – А ведь у нас кровать-то шире!
Бубякин, благостно улыбавшийся, занервничал и сказал:
– Не может быть!
– Может! – уверенно сказал зинин муж, доставая из кармана рулетку. И точно, двух сантиметров Бубякину не хватило.
При осмотре стеллажа Минуткина-младшая вдруг сказала не слишком тихо:
– Мама, а «Женщины в белом» у них нет!
– У вас нет «Женщины в белом»? – сладко посочувствовала Минуткина-старшая. – Потрясающая книга, я ее читала целых два раза!
Вот то-то и оно: в справочнике, на странице 429, об этом было сказано так: «Возникающие при маниакальном состоянии идеи величия носят обычно конкретный характер и заключаются в преувеличении собственных достоинств или занимаемого положения». Чем Минуткины и занимались неутомимо. Единственное впечатление, которое они вынесли из спальни – ширина кровати, а о бесконечных намеках на содержание «Женщины в белом» я уже не говорю. Кого-нибудь другого Бубякин, может быть, и сразил бы цветным телевизором, но Минуткин мигом достал рулетку и сказал, что у них хоть и черно-белый, но зато с экраном 61 сантиметр по диагонали против 51 бубякинского, на что Минуткина-старшая заметила, что напротив, 61 сантиметр плохо смотрелся бы в маленькой гостиной, так что у Бубякиных все нормально и им не стоит слишком расстраиваться.
Вот так-то, читатель! И если бы это были только Минуткины! Маниакально-депрессивный психоз был у каждого второго, ведь на странице 429 было сказано еще и вот что: «Наблюдается расторможение инстинктов, больные прожорливы, сексуальны».
Уж как жрали бубякинские гости, уж как жрали! Это уму было непостижимо, сколько они могли сожрать! Да и насчет сексуальности справочник как в воду глядел – взять хоть кабинет бубякинский, где, судя по всему, увлекались именно сексом групповым.
«Суждения носят поверхностный характер» – было написано в справочнике, и этот симптом я обнаружил едва ли не у каждого (кое-кто жрал молча). Значит, все, что говорил Ихний Шеф, было чистой правдой, но ничего веселого в этой правде не было, и с чего это я взял, что в микрорайоне, заселенном психами, будет очень весело?
Я слишком увлекся диагностикой и скоро оказался единственным трезвым во всей компании. На меня стали коситься, и для конспирации я выпил с соседом слева.
– Послушайте! – спросил я его. – Вы что же, каждый день – так?
– Чего – так? – спросил сосед.
– Ну, собираетесь?
– А как же! – сказал он. – Мы вообще дружно живем. У нас весь подъезд – как одна семья!
Ну-ну, подумал я, вспомнив бубякинский кабинет.
– Так вы что, и на работу не ходите?
– Ходим! – убежденно сказал сосед. – А как же – ходим! Человек есть общественное животное – вклад надо вносить, понял?
Ишь ты, подумал я. Хорошо излагает! И точно – сосед оказался молодым ученым. Не по возрасту, а по положению. Все ученые, которые не кандидаты – молодые.
Кандидат в кандидаты рассказал мне что-то невероятно научное – я слышал и про баланс сил, и про вероятность падения, и про точечное взаимодействие, и про расчет по принципу максимина. Но оказалось, что речь шла не о существе диссертации, а о политической обстановке вокруг ее защиты. Его Шеф боролся с Не-его Шефом… ну да ты, читатель, и сам знаешь, что к чему. И я слушал его, и утверждался в мысли, что передо мной дебил. Или даже имбецил. Ведь жизнь его регулировалась исключительно инстинктами, а все эти континуальные аксцессии были просто дебильскими ухищрениями, чтобы удовлетворять инстинкты было легче. Ведь я спросил его напрямую:
– Так зачем же защищаться, коли так?
– А сотенка?! – сказал он. – Нет, ты слушай, а в это время эта скотина Козенаки говорит на ученом совете…
Да, думал я, да ведь еще и расщепление сознания, то бишь шизофрения: он обзаведется приставкой, которая и будет действовать вместо него. А потом еще одной, и еще: доктор каких-то там наук, заслуженный дебил республики, лауреат научного общества олигофренов и прочая, и прочая; где же тут среднеарифметический И. И. Иванов? Пусть дебил – зато заслуженный, пусть олигофренов – зато лауреат…
(Тише, тише, дорогой мой среднеарифметический читатель! Все это не про тебя, успокойся! Ты забыл, что ли, что повесть эта – сугубо фантастическая и к действительности, а значит, и к тебе, никакого отношения не имеющая. Ведь я-то знаю, что ты занимаешься наукой из чистых побуждений – ты раздвигаешь границы познания; ты удовлетворяешь не инстинкты, а потребность в истине; ты строишь воздушные замки, чтобы поселить в них прогрессивное человечество; ты предпринимаешь усилия к тому, чтобы наша планета засиралась не столь быстрыми темпами; ну, в общем, ты беспокоишься исключительно о будущем цивилизации и никакими меркантильными соображениями не отягощен. Остынь, читатель!)
Да! – сказал я себе, но как же так? Не может дебил заниматься наукой! Ведь у него нет способностей к абстракции и обобщению! Так ведь и не надо, возразил я себе – ведь эти способности нужны для того, чтобы делать науку, а для того, чтобы делать дисер, нужны совсем другие способности. И, кстати, дебилы способны механически заучивать слова и повторять их, не понимая смысла – для соискания, скажем, степени кандидата философских наук этого вполне достаточно, да и не только философских!
Я даже присвистнул: ого-го, да если так, то они годны хоть куда, и точно – ведь во всех кабинетах района П сидят такие же психи, как этот новый мой знакомец! Я еще раз поразился смелости решения Ихнего Шефа – как же они умудряются управлять коммунальным, да и прочим, хозяйством? Но и это стало понятным – ведь у нас, у нормальных людей, все организовано так, что трудно догадаться о нашей нормальности, и психи вряд ли могут существенно что-то испортить. Да и к тому же – неважно, псих или непсих сидит в конкретном кресле – кресло работает само, а хозяин – удовлетворяет инстинкты. Так, думал я, так значит, у них встречные планы, всякие там комитеты, совещания, комплексные программы, заявления для прессы, и прочее, и прочее – а в основе требования живота и того, что ниже.
Ну конечно! – осенило меня, ясно теперь, при чем тут магнитофон. Я ведь вбежал вчера, как есть, без звания и рекомендации, я был просто я, а, стало быть, с точки зрения психов, никто; и единственное, что меня хоть как-то характеризовало – был магнитофон. Я был для психов не я, а нечто, имеющее магнитофон. Или даже – нечто, состоящее при магнитофоне.
…Вот так и парил я над этим сборищем уродов, единственный нормальный человек. Я был бог, я был демон, а не Иван Иваныч, и я щедрой рукой раздавал диагнозы: и тем, что жрали и совокуплялись напропалую, и тем, кто жил бездумной автоматической жизнью идиотов, и тем, кто выхвалялся друг перед другом олигофренскими своими достоинствами. Все они имели манию самоубийства, все они убивали себя медленной смертью, и все они врали, врали безбожно, и ем бредовее врали, тем выше вранье ценилось. Параноики, шизофреники, дебилы, идиоты, алкоголики… я с трудом отыскал среди них более менее нормального человека, который кушал скромно и вроде даже как-то отчужденно.
– Как Вам все это нравится? – спросил я его.
– Это черт знает что такое! – сказал мне он. – Вы в кабинет заглядывали?
– Заглядывал! – и мы оба горестно закивали головами.
– Ну и нравы пошли! – сказал мне более менее нормальный человек. – Вытворяют-то чего! Нет, понятно, когда жена в декрете или там еще что – прихватишь на стороне, но ведь тихо, а это-то – среди бела дня! Безобразие просто!
– Да! – сказал я, воодушевляясь. – И жрут к тому же! Ой как жрут!
– Жрут! – подтвердил более менее нормальный человек, заглотив канапушечку. – Мое дело, конечно, сторона, но куда мы катимся? У меня-то язва, – сообщил он, кивнув при этом почему-то на жену, – так что я не слишком налегаю!
– Желудка или двенадцатиперстной? – спросил я заинтересованно. – У меня тоже, знаете, с печенью что-то не слишком…
И мы завели невыносимо приятный разговор о самом для нас драгоценном. И, чем больше мы с ним говорили, тем с большей симпатией к нему я проникался. Это был свой, настолько свой, что я слился с ним телом и душой. Мне казалось, что это я сам сижу напротив и киваю сам себе головой. Мой собеседник тоже был среднего роста, шатен в сереньком пиджачке, как и я же – и я временами не мог вспомнить, кому принадлежала последняя фраза – не то я собирался ее произнести, не то он ее уже произнес. И такой он был скромный и честный, такой он был морально выдержанный и благонамеренный, так славно он трудился на работе и так исправно смотрел телевизор дома, что я чуть не обнял его со слезами благодарности, но выспавшийся мой разум сказал мне, что это такой же псих, как и все прочие, только подавленный комплексом неполноценности. Он так же управляется инстинктами, но только инстинкты у него недоразвиты; и он не развлекается в кабинете только потому, что его фантазии на это мероприятие не хватит; что он не жрет, а кушает, но оттого лишь, что имеет язву – не будь ее, он бы развернулся! Что же касается работы, то он, как любой нормальный тихий идиот, выполняет ее, не понимая ни цели ее, ни смысла – он просто знает, что за это ему не дадут пропасть с голоду, вот и все.