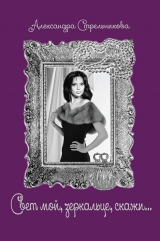
Текст книги "Свет мой, зеркальце, скажи…"
Автор книги: Александра Стрельникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Интересно, а как вы, Саша, отнеслись бы к морскому круизу на теплоходе? – ошарашил меня вдруг, без всяких обиняков, своим вопросом мужчина.
И его луповатые глаза, как ни в чем не бывало, уставились на меня, словно тот, кто их произнес, не понимал их некоторую, мягко скажем, неожиданность и странность.
(Особенно, если учесть, что проблемы своего отпуска я никогда бы не стала обсуждать с этим человеком).
Пожалуй, я лишь сильно моргнула, на быстроте своей реакции тут же меняя маску «абсолютного внимания» на некий «наив».
– А что, у нас в профкоме бесплатные путевки раздают на морские круизы? – поинтересовалась журналистка.
Заместитель редактора засопел, перебирая какие-то бумаги на своем столе.
– Ой, а меня так укачивает на теплоходе, что я с трудом даже часовую морскую прогулку могу выдержать, – солгала я, тут же заменив маску «наива» на «откровенную дуру» и добавила, – да я об отпуске еще и не помышляла, проработав здесь всего полгода…
В это время, и весьма кстати, на его рабочем столе зазвонил телефон. И я, таким образом, ушла не только от «щекотливой темы», но и из кабинета руководителя.
Прикрывая дверь кабинета начальника, я невольно вспомнила классика: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»…
И тут же усмехнулась: «Да какой же он барин? Откуда… Рядом с барином не стоял».
Мне бы впору рассердиться, но меня разбирал смех. Заместителя редактора многие не воспринимали всерьез, пересказывая байки из его жизни, которые смахивали на анекдоты…
Это был мужчина лет сорока, абсолютно от «сохи», с сильно выраженным хохляцким акцентом и с завышенной самооценкой (вполне возможно, что сам себя он ощущал «орлом»).
Как я понимаю, когда-то он работал в сельскохозяйственном отделе районной газеты. Потом его направили на учебу в партийный обкомовский «колледж», после окончания которого он и оказался на нынешнем месте.
Его нескладность, неуклюжесть не мог скрыть ни даже дорогой импортный костюм, добытый в магазине для партийной и прочей руководящей номенклатуры, ни отутюженный и накрахмаленный его супругой белый воротничок рубахи, ни хороший мужской парфюм.
У него была большая рука пахаря, доставшаяся ему, очевидно, по наследству от многоколенной крестьянской династии его рода. Тяжелая рука, тяжелая походка на широко поставленных ногах. Он весь, словно, соответствовал своей тяжелой фамилии, в произношении которой отчетливо слышалось сорок пудов…
Мужчина в этой, нынешней жизни, явно исполнял не свою социальную роль. Казалось даже, что рабочий кабинет для него был тесноват. Если честно, мне он напоминал, если не слона, то уж точно медведя в посудной лавке, если чуть перефразировать известную пословицу…
И вот – на тебе. Туда же… Изящных, хрупких городских девушек ему подавай. Со «слишком белой кожей». Еще и журналисток, к тому же, в придачу. Еще – и в морские круизы. В то время, как при всей его фактуре ему так под стать была бы здоровая и розовощекая «девушка с веслом», которая в случае чего, могла и навернуть тем же веслом… Чтобы не приставал.
Я зашла в свой кабинет, где никого не было и села, облокотив руки на стол… Меня сотрясало от беззвучного смеха. Но приступ веселья длился не долго. Я перевела взгляд на окно и задумалась. И тут меня вдруг посетила некая мысль: «А что, если»…
Да, а что, если предположить, что на такой прямолинейный и, явно, не деликатный намек его кто-то подтолкнул? Чтобы прощупать почву, так сказать…
Всё же, мужчина занимал ответственный пост, которым дорожил. Был женат, осторожен, трусоват, наверняка, имел детей, а потому должен был блюсти «моральный облик» советского семьянина. Зачем ему уделять знаки внимания своей сотруднице, зная, что подобное в небольшом коллективе быстро становится достоянием гласности? Да и, вообще, зачем ему я? С какого боку?
И я призадумалась. А, призадумавшись, вдруг вспомнила… Как пару месяцев назад решила написать о «Кинокафе», только что появившемся в одной из спальных новостроек города, в просторечье именуемых Салтовкой.
Я приехала на интересующий меня объект минут за тридцать до его открытия. Пообщалась немного с обслуживающим персоналом, а потом, убрав журналистский блокнот, села за столик, удобно расположенный по отношению к экрану.
Затем корреспондент заказала себе мороженое и бокал шампанского, намереваясь с такими маленькими гастрономическими радостями культурно провести вечер. (Ничто человеческое нам не было чуждо).
Мне здесь понравилось. Свет в зале чуть поубавили, и на экране замелькали титры какого-то итальянского кинофильма.
Публика постепенно прибывала. Я сидела за своим столиком всё еще в счастливом одиночестве, естественно, желая, чтобы мою комфортность никто не нарушил. Но понимала, что такое вряд ли возможно.
Вскоре в зале замаячили фигуры трех мужчин, которые весьма решительно направились к моему столику.
Один из них был мне знаком, как коллега. Наши пути уже пересекались на ниве журналистики. На сегодняшний день собрат по перу явно «пошел на повышение», став сотрудником горкома партии. Несмотря на свой нынешний идеологический статус, брюнетистый коллега с голубыми глазами позволил себе отрастить большую бороду, что по тем временам да еще в таком серьезном казенном заведении, не только не приветствовалось, но приравнивалось к недопустимому вольнодумству. (Я имею здесь в виду идеологизированную Украину того времени, а не Москву). С таким мужеским украшением на лице он стал очень похож на известного классика марксизма-ленинизма и одновременно на «команданте революции» – Фиделя Кастро. Может быть, именно поэтому такой, совсем не идеологический, а «вольнодумный имидж» ему прощался?
(Я знала только двух бородатых мужчин-журналистов в то время – его и ответственного секретаря Аркадия).
– Начальство пожаловало, – услышала я негромкий голос официанта у себя за спиной, пока мужчины шумно подсаживались за мой столик.
Я действительно, совершенно случайно, в тот вечер оказалась в окружении «начальства».
Помимо горкомовского работника, так похожего на Карла Маркса и «команданте» одновременно, двое других, как потом выяснилось, тоже имели отношение к идеологии.
Один из них был работником райкома партии, другой – представителем обкома. Да, того самого казенного дома, который я так не любила и который размещался на самой красивой площади моего родного города. Весьма специфический дом, который при моей профессии и нынешней работе в областной партийной газете постоянно маячил перед моим внутренним взором и который я так хотела обойти окольной дорогой…
(По-моему, я хотела невозможного).
Знакомый коллега представил меня своим спутникам.
– А почему это я до сегодняшнего дня даже не подозревал, что такие красивые девушки работают в подчиненной нашему ведомству газете? – игриво сказал обкомовский представитель. – Это непорядок. И этот непорядок надо срочно исправлять…
На вид рослому и спортивно сложенному мужчине было лет тридцать пять. И в нем так легко угадывался еще недавний комсомольский функционер, с явно не выветрившимися до конца воспоминаниями о бурной и веселой служебной молодости.
К нашему столику подошел настороженный официант. Мужское «трио» в своем заказе делало акцент на мясные закуски и прочие «шашлыки», водку и коньяк.
Бородач тактично озаботился о вкусовых пристрастиях единственной дамы за столом. Я, естественно, от всего отказалась. Но мне тоже принесли какое-то мясное блюдо. Поскольку крепкие напитки я не употребляла (не употребляю и сейчас), то, на столе появилась бутылка шампанского… Как бы в продолжение того бокала, который я заказала себе под вкусное мороженое, надеясь в том редакционном задании соединить приятное с полезным.
Но вникнуть в содержание фильма плохо удавалось, так как отвлекал разговор за столом. То я с бородачом вскользь затрагивала наши производственные журналистские темы, то в наш разговор встревал обкомовский деятель, до этого беседовавший на «пониженных тонах» (так, наверное, ему казалось) со своим младшим, райкомовским собратом по идеологии.
«Старший брат» явно был чем-то недоволен и выговаривал за что-то младшему по рангу. Тот, скисая, в чем-то оправдывался.
От моей, как бы рассеянной «ненаблюдательности» за сим процессом, это не укрылось. (Как, впрочем, и то, что, именно самый младший по идеологии потом расплачивался за всю эту «поляну» с накрытой на ней «скатертью-самобранкой»)…
Зал был заполнен посетителями уже до отказа, было довольно шумно. И восприятие происходящего на экране было довольно затруднено. Получалось так, что изначально в этом симбиозе общепита и очага культуры, пальма первенства оставалась всё же за кафе. А кино здесь «звучало» неким второстепенным фоном.
(В отличие от обычных сегодняшних, допустим, кинотеатров, где фоном проходят «кола» с попкорном, а главным остается происходящее на экране).
Но всё равно тогда это было новшеством в моем городе, о котором следовало читателям рассказать…
– Ну, и как там поживает наш главный редактор? – вдруг спросил обкомовский деятель, адресуя вопрос мне и возвращаясь к газетной теме.
(Подустав, очевидно, воспитывать «младшего брата» и, наконец, оставляя его в покое).
Мой ответ иронично упредил коллега, так похожий на классика марксизма-ленинизма.
– Полагаю, он, как всегда, сердит, – сказал журналист, намекая на «сердитую» фамилию моего начальника.
Я лишь молча кивнула, усмехнувшись.
– А что, есть какие-то проблемы? – казалось, мужчину, хорошо выпившего и закусившего, и наделенного реальной властью так и распирало оказать какое-либо содействие приглянувшейся молодой мадам, оказавшейся случайно с ним за одним столом.
(Разумеется, совершенно бескорыстно).
– Нет никаких проблем, – спокойно ответила я.
(В самом деле, не жаловаться же первому встречному, хоть и высокопоставленному обкомовскому лицу, что редактор держит меня на «сухом пайке», упорно не желая почему-то платить мне зарплату).
– Мы же делаем одно общее дело, – мужчина попытался улыбнуться, – организуем и пропагандируем, так сказать… И за это тоже надо выпить…
Он заглотнул то, что было в рюмке, приглашая и всех присутствующих за столом последовать его примеру.
– Да, организуем и пропагандируем, – повторил он, намекая на общеизвестные и приевшиеся уже слова классика марксизма-ленинизма о том, что «газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор».
И циничная улыбка человека с двойной прогнившей моралью исказила его лицо.
(До начала перестройки оставалось три года)…
– Так вот, – жизнерадостно вдруг сообщил высокопоставленный партийный деятель, сидящий напротив меня, – раз мы делаем одно общее дело, то я приглашаю вас к себе на прием… Или собеседование. Должны же мы знать своих журналистов… Придете?
– Конечно, – подыграла я, дежурно улыбнувшись и напяливая на себя маску не только «откровенной дуры», но, по-моему, и «стопроцентной идиотки».
В тот же миг, под общий шум бородач, сидевший рядом, незаметно наклонился ко мне и тихонько прошептал: «Только не вздумай прийти к нему, Саша»…
Я усмехнулась про себя: «Да что ж я – совсем простая»…
– А зачем откладывать в долгий ящик, – вдруг сказал партийный деятель, – я, хоть и человек занятой, назначаю вам конкретную встречу…
И он назвал вполне определенный день недели, и определенное время.
– Придете? Так я буду ждать, – сказал мужчина, очевидно, по своим социальным ролям, которые ему приходилось исполнять в этой жизни, не привыкший слышать слово «нет».
Я опять согласно кивнула, «доигрывая роль» дурочки или идиотки.
И опять коллега незаметно метнулся в мою сторону: «Смотри, не вздумай прийти к нему, Саша».
И я опять усмехнулась на эту трогательную «заботу» обо мне.
«Впрочем, бородач, наверное, знает этого «деятеля» гораздо лучше, чем я, – подумалось тогда. – Но с меня вполне довольно и того, что я вижу»…
В это время закончился кинофильм. И тут же начался его повтор, как в кинотеатре «Повторного фильма» (в таком я бывала не однажды в Москве). Для меня это был удачный момент, чтобы намекнуть на завершение нашего сегодняшнего, явно затянувшегося для меня, вечернего «киносеанса»…
Идеологических работников у кафе дожидался водитель служебной «Волги», и меня любезно подвезли к моему дому, что оказалось весьма кстати, учитывая отдаленность спального района, где находилось «Кинокафе».
… Я заторможенно смотрела в редакционное окно с высоты одиннадцатого этажа. И вдруг нервно хохотнула: «Однако, какое оригинальное место для свидания – обком партии. Даже слишком. И, пожалуй, больше никто и никогда не назначит мне там рандеву. Ох, и неблагодарная я девушка».
Если честно, о той случайной встрече напрочь забыла, полагая, что на следующий день и ответственный руководитель также запамятует о моем существовании. А, если не забыл? Тогда что? А тогда: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»…
Я спустилась на первый этаж в полупустую столовую. Напротив моего столика оказалась одна редакционная дама из «вечерки». И мне вдруг вспомнилось, как однажды я здесь обедала за одним столиком с коллегой и харьковским поэтом, которого звали Иван. Кивнув на означенную дамочку лет пятидесяти пяти, он брезгливо поморщился, вкратце рассказав мне историю ее продвижения по карьерной лестнице. «Пока она была молодой, ее пользовали и трепали сначала комсомольские секретари, потом – партийные деятели всех мастей. А теперь она никому не нужна».
Особенно запало мне в память это слово – «трепали»…
Я посмотрела на немолодую, с нескладной фигурой толстую женщину, работавшую заведующей одного из отделов городской газеты. На ее обрюзгшее с маленькими заплывшими глазками лицо, выжженные краской волосы цвета соломы, пошловато-яркую помаду…
«Никогда, ни за что на свете, даже под дулом пистолета никто не заставит меня сделать это», – содрогнулась я от отвращения. – Не дождетесь».
И опять физически ощутила, что мне не хватает воздуха и что однажды я просто задохнусь, если не найду выход из этого тупика. А выход был только один…
Он ассоциировался у меня с образом собственного корреспондента одной центральной газеты: в облегающем по фигуре черном платье «в духе» Коко Шанель, с обязательной меховой горжеткой на плечах…(Далась мне эта горжетка!) Но вместе с этим образом мгновенно расправляла «крылышки» та внутренняя свобода и раскрепощенность, которые всегда жили в моей душе, и на которые посягали разные обстоятельства жизни того времени.
А что до мехового обрамления, черного платья, колготок и шпилек… Но, ведь, всё это было так органично для женского естества. Моего, во всяком случае. Потому что я никогда не мечтала о красной книжечке, которая выдается члену партии. Никогда. Потому что именно это было бы супротив всего моего истинного и женского «я»…
«Надо ехать в Москву. В Москву, – думала я, уподобляясь чеховским сестрам, неспешно направляясь опять пешком домой по Московскому проспекту моего города. – Пора уже как-то пытаться наводить мосты».
«Но у меня нет в той газете никого знакомых, – тут же кольнуло сомнение. – Впрочем, разве наше заочное знакомство – по моим публикациям – уже не состоялось?» – успокаивала я себя, понимая, что надо на несколько дней смотаться в столицу нашей Родины и «прощупать» почву.
Что-то надо начинать делать. Нельзя просто продолжать плыть по течению. Я должна видеть свет в конце темного тоннеля…
* * *
И поехала я в Москву «разгонять тоску»…
Здесь было два места, где я могла «пришвартоваться».
У моего дяди – папиного родного брата, который жил в трехкомнатной квартире со всем своим немаленьким семейством в спальном районе столицы. А также еще – у «милых московских старичков», как мы их обычно называли у нас дома, знакомству с которыми я была обязана давней подруге моей мамы – Фаине Алексеевне. Так вот у той ее знакомой был родной брат в Москве – Анатолий (для меня Анатолий Алексеевич и – «милый старичок»). Его жену Екатерину Павловну я звала просто тетей Катей.
Познакомилась с ними еще, будучи студенткой. Когда я отправлялась сдавать экзаменационные сессии два раза в году – зимой и летом, Фаина Алексеевна всегда старалась передать им какие-нибудь гостинцы. И я всегда это поручение выполняла. А потом еще перед своим отъездом из Москвы обязательно заезжала к ним, чтобы забрать гостинцы, которые они передавали своей родне в Харьков. Так и познакомились. И подружились. Они ко мне тепло и очень искренне относились, и, казалось, привыкли. Настолько, что я иногда уже после окончания университета, прибыв на несколько дней в Москву, стала останавливаться у них, предварительно созвонившись о своем приезде.
А у дяди, помимо харьковской племянницы, полно было народу, хоть и в трехкомнатной квартире. Он с женой, двумя дочерьми с их мужьями (то гражданскими, то официальными периодически), и внуком-школьником… Мне не хотелось их стеснять.
Так что всё было за то, чтобы и в этот свой приезд в столицу я остановилась у знакомых старичков.
Мои знакомые жили тоже в трехкомнатной квартире, но только коммунальной. В районе Лефортово. И у них было еще двое соседей.
Тетя Катя не без гордости всегда подчеркивала, что им досталась в свое время самая большая комната – 25 квадратных метров, да еще – с балконом.
В их жилище находились широкая железная кровать и диван. Анатолий Алексеевич, будучи грузным мужчиной, спал на редкостном экземпляре: кровати, если не «времен очаковских и покоренья Крыма», то, во всяком случае, начала годов 20-х прошлого столетия.
Когда я приезжала, тетя Катя упорно пыталась уложить меня на свой диван. Но я отказывалась. Тогда она стелила мне два толстенных матраса на полу под батареей. Я была счастлива. Набегавшись, намаявшись за день по безумной Москве, я, растянувшись в свое удовольствие на мягких и широких матрасах вечером под теплой батареей, всегда с благодарностью говорила старичкам: «Это самая моя любимая гостиница в Москве».
И это было правдой. Как и то, что 24-ой маршрут троллейбуса стал почему-то, необъяснимо, моим любимым маршрутом.
Он начинался от станции метро «Лермонтовская», неподалеку от памятника русскому поэту (сейчас этой станции вернули прежнее название – «Красные ворота»). И пока я доезжала до остановки, которая называлась «улица Лефортовский вал», где жили мои гостеприимные хозяева, успевала вдоволь налюбоваться видом сохранившихся старинных строений. Мне нравилось не только дышать этим воздухом старины, меня привлекали названия остановок, многие из которых я помню и сегодня наизусть: «Сад имени Баумана», «Площадь Разгуляй», «Доброслободская улица», «Улица Радио», «Лефортовский мост»…
И следуя этим маршрутом, любуясь видом из окна и тогда, и спустя какое время, когда я уже переехала в Москву и иногда навещала знакомых старичков, я даже не подозревала, что многократно проезжаю мимо здания, в котором много лет спустя будет учиться моя дочка. Здания, расположенного на улице Радио…
Московские старички были очень забавные. Тетя Катя была второй женой Анатолия Алексеевича. Так вышло, что у его любимых женщин были одинаковые имена. И свою жену он называл не иначе, как «Екатерина вторая». «Екатериной первой» была предыдущая супруга, к статусу которой он всегда добавлял еще, что она была «слишком гулякой», не преминув добавить при этом, что в молодости и он был «орел», который пользовался успехом у женского сословия.
Во втором браке детей не было. В детстве тетя Катя со своей семьей жила в Люблино, которое тогда считалось пригородом Москвы. У семьи был дом, подсобное хозяйство. Однажды, когда десятилетняя девочка хотела напоить лошадь в стойле, животное неожиданно взбрыкнулось, ударив ребенка копытом в живот. Настолько сильно, что, очевидно, ее детородный орган даже пострадал при этом. Так позже будут констатировать медики…
От первого брака у Анатолия Алексеевича была дочь, с которой у него сложились своеобразные, непростые отношения.
«Я служил по почтовому ведомству», – как-то загадочно говорил он, раскрывая передо мной фотоальбом, где хранилось немало черно-белых снимков, на которых он был «обмундирован» в казенную одежду и обувь почтового работника наперевес с большой служебной сумкой.
Как-то однажды, случайно оказавшись возле научно-исследовательского института, где работала его дочь, к тому времени уже окончившая высшее учебное заведение, он решил ее навестить. Войдя в помещение, он остановил первого попавшегося сотрудника и спросил конкретный отдел.
– А кто вам нужен? Я всех там знаю, – вежливо поинтересовался первый встречный, который случайно оказался из того же самого подразделения.
– Да дочка моя, – обрадовался Анатолий Алексеевич и назвал фамилию.
– Дочка? – искренне удивился незнакомец. – Так она всем нам говорила, что нет у нее никакого отца, – добавил он, тут же немного запнувшись от неловкости ситуации и произнесенных им слов.
Пожилой мужчина был ошарашен. Он вдруг почувствовал себя жутко неуместным в этом святилище науки в своем, полагавшемся ему по службе, казенном обмундировании: «в синей форменной фуражке», «толстой сумке на ремне» и пыльных ботинках…
Почему его дочь так говорила? Да кто ж знает… Может, молодая научная сотрудница стеснялась стихов детского поэта: «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне»? А, может, просто повторяла «на автомате» слова «Екатерины первой», приученная матерью еще с детства к тому, что «отца у нее нет», потому что он не живет вместе с ними после развода родителей? Кто знает, кто знает…
Но как бы там ни было, эти слова очень ранили мужчину и запали ему в душу. И не однажды, Анатолий Алексеевич, как пожилой человек, запамятовавший, что он мне про это уже рассказывал, всё повторял и повторял эту историю. И я видела в эти мгновения, как грустнели его глаза, и пульсировала венка на гладко выбритой голове рядом с большим шрамом, оставшимся после удара шашки в гражданскую войну. Да, «милый старичок» воевал в Красной армии… А, значит, был еще и человеком отважным. До того момента, как в мирной жизни стал служить «по почтовому ведомству».
Время, конечно, примирило дочь и отца. Они созванивались, общались. И в холодильнике всегда имелись продукты, заботливо переданные дочерью, которая жила в другом районе Москвы со своей семьей. Помогала она доставать и необходимые старичкам дефицитные лекарства.
Мне же от «почтового ведомства» иногда перепадали потрясающие раритеты. Анатолий Алексеевич по поводу различных годовых праздников присылал мне письма в Харьков с открытками тридцатилетней давности. В начале восьмидесятых получить послание с художественным дизайном из пятидесятых, звучавшее таким ярким контрастом с современным днем – было так необычно! И я сохраняла эти открытки. В них всегда была обязательная строчка обратного адресата: город-герой Москва.
Если Анатолий Алексеевич первым снимал трубку старого телефона черного цвета, который висел в коридоре их коммуналки, то всегда произносил просто «обалденную» фразу, за которую его постоянно ругала тетя Катя, но которая лично мне ужасно нравилась. Откликаясь на телефонный звонок, он говорил, причем, весьма торжественным голосом: «Это квартира рабоче-крестьянской интеллигенции. Слушаю вас…»
И сейчас улыбаюсь, когда пишу эти строки, и пытаюсь представить выражение лиц и удивление разных людей, звонивших в эту квартиру и слышавших эту тираду вместо привычного «алло».
– Ах, ты старый дурак! Ах, ты старый черт! – в сердцах сокрушалась тетя Катя, призывая меня в свидетели, – ну, хоть ты ему объясни, что такую белиберду нельзя говорить»…
– Ну, Анатолий Алексеевич – служащий по своей профессии, человек грамотный и интеллигентный, – с улыбкой говорила я.
– А остальные? – возмущенно разводила руками пожилая женщина. – Я всю жизнь была простой работницей на фабрике. Эта, без году москвичка… (имелась в виду одна молодая соседка) работает формовщицей на заводе…
Соседка, о которой речь, была не только молода, но весьма решительна. Приехав из братской республики, выйдя замуж за москвича и родив сына, она вытолкала коренного жителя столицы к его старикам, якобы, за то, что тот слишком был не равнодушен к спиртному.
Также тетя Катя кивала еще в сторону других соседей – «интеллигентов». Татарской семьи из трех человек: стариков – родителей и уже немолодого их сына-холостяка. Оба мужчины были заводскими работягами, пожилая татарка – всю жизнь «сиднем просидела» домохозяйкой дома.
Отец с сыном на пару пили втихаря, что, естественно, не нравилось сварливой восточной женщине. А те, в свою очередь, не любили, когда их «воспитывали» и тоже выражали мужское недовольство. Оба, также втихую, как они пили, поколачивали жену и мать.
Татарка постоянно жаловалась тете Кате на свою нелегкую жизнь, в самые критические моменты предусмотрительно покидая квартиру на некоторое время, пока ее мужички не успокаивались. Старая женщина, выходя на улицу, садилась в любой из трамваев, проезжавших рядом с их домом, и каталась по столице, пока ей не надоест. Возвратясь домой, рассказывала своей соседке, как она за три копейки (стоимость тогдашнего трамвайного билета) «всю Москву посмотрела». Вот такие экскурсии, вот такие разные москвичи…
Наверное, лефортовский «милый старичок» был всё же большим идеалистом, если в пролетариате (не всеобщем, мировом), а вполне конкретном, в отдельно взятой своей квартире, пытался найти интеллигентность…
Что до меня, то мне эта фраза ужасно нравилась. Иногда, когда я звонила из Харькова в Москву, и до меня доносилось из телефонной трубки такое знакомое – «это квартира рабоче-крестьянской интеллигенции, слушаю вас» – всегда радовалось. Раз звучат эти слова, значит, старички живы и здоровы.
У Анатолия Алексеевича была очень своеобразная речь, в которой он использовал какие-то забавные словечки, обороты и присказки.
Например, он говорил так: «А сейчас я сам себе сделаю галярню».
(Галярня – то же самое, что парикмахерская или цирюльня, но это слово впервые я услышала именно от него).
Пожилой мужчина доставал из шкафчика видавшую виды небезопасную бритву, точил ее, затем покрывал лицо мыльной пеной, торжественно и неспешно приступая к самому «процессу». И таким образом, брея не только себе лицо, но и «под ноль» обрабатывая голову…
Иногда он консерваторию называл консисторией, но тут же спохватывался и поправлял себя сам… Он никогда не говорил: «Сейчас мы будем пить чай». А всегда как-то торжественно объявлял, что сейчас мы будем пить «горбата», объясняя мне, что так чай звучит по-польски (хорвата, горбатка). Почему-то ему упорно хотелось пить этот напиток на некий «польский манер»…
Анатолий Алексеевич выписывал газету «Правда», которую не только просматривал, а добросовестно читал, что называется, «от корки до корки». Только иной раз он мне жаловался: «Вот пишут порой как-то заумно, не всегда понятно. Туман какой-то напускают».
На что я его успокаивала: «Значит, плохо пишут плохие журналисты, раз непонятно. Ведь, вы человек любознательный и грамотный. Поверьте, дело вовсе не в вас. И про «туман» вы всё правильно понимаете»…
– А разве в газете «Правда» могут быть плохие журналисты? – искренне удивлялся старый и наивный человек «другой формации».
– Плохие журналисты могут быть в любой газете, как впрочем, и хорошие, – усмехалась я. – Вы ведь не специальный научный журнал выписываете с непонятными терминами, а популярную газету, которая своим тиражом претендует на народность и массовость. А, значит – и на доступность понимания.
И мягко наставляла (если такое слово, вообще, применимо к человеку, который был более, чем на полвека старше меня), относиться сдержаннее к тому, что пишут в газетах, не воспринимая всё, как истину в последней инстанции.
Анатолий Алексеевич вздыхал, сопел, сокрушался, оставаясь (подозреваю) при своем мнении. Вообще, он явно испытывал тягу к филосовско-мировоззренченской тематике. И когда я приезжала к ним в гости, он никогда не упускал возможности побеседовать со мной на интересующие его темы.
Тетя Катя, которая плохо слышала и надевала по случаю нашей очередной «заумной» беседы с Анатолием Алексеевичем слуховой аппарат, вообще, ничего не могла понять из этих разговоров. Плохого качества устройство, как правило, вместо помощи создавало дополнительные шумовые помехи.
Посидев на диване при нашем разговоре какое-то время молчаливой собеседницей и заскучав, она начинала выговаривать супругу:
– Что ж ты опять привязался к девчонке со своими расспросами, старый лысый черт! Давайте лучше обедать, я щи сварила…
И звучали эти сварливые слова в ее устах совсем не сварливо, а где-то даже ласково.
Иногда она искренне говорила мне: «Зажились мы с Анатолием на этом свете, помирать пора. А с чего ж нам помирать, когда каждый день колбасу едим. Хорошо живем»…
Не могу без грустной улыбки и сегодня вспоминать эту «житейскую логику». Им, бывшим безработными и стоявшим в очередях на трудовой бирже в не самые лучшие времена Советов… И не понаслышке знавшим, что такое голод, пережившим войну и разруху, «колбаса», без сомнения, была неким гарантом сытой и благополучной жизни. А, значит, даже где-то – долголетия и здоровья.
И я понимала, что эти старые люди пережили за свою жизнь такое «НЕЧТО», что засело в них глубоко, пожалуй, даже на клеточном уровне.
Они ни в чем не нуждались, получали хорошую пенсию на двоих, их холодильник был полон продуктов. Но они всегда покупали сыр подешевле, колбасу – только чайную (ее стоимость была тогда 1 рубль 70 копеек за килограмм).
Все мои «великосветские замашки» как-то разнообразить это меню и покупать колбаску «докторскую» (2 рубля 20 копеек за кг) или «любительскую» (2 рубля 80 копеек за кг) воспринимали где-то даже в штыки, считая, что ни к чему им это «баловство». Как, впрочем, и разные вкусные московские тортики и кексики, которые я всегда приносила к чаю…
«Мы привыкли жить по порядку», – часто любил повторять такую фразу старый москвич.
И означала она то, что всё необходимое у них есть, а гастрономические излишества в виде всяких тортиков, фруктиков и прочих мандаринов им ни к чему.
Жизнь «по порядку» также означала, что к завтраку у них всегда будет подано несколько больших бутербродов к чаю («бутенбродов», как произносила это немецкое слово тетя Катя)», с маслом, сыром и колбасой. После завтрака – чтение хозяином газеты «Правда». На обед – обязательно дымящиеся русские щи с курицей, картошечка с селедочкой или квашеной капустой. На ужин – какая-нибудь каша плюс те же «бутенброды» с чаем.
«Порядок» был всегда и в домашней «бакалейной лавке». Чаю, сахару: песку и рафинаду – в их хозяйстве было припасено как минимум на год вперед. Как, впрочем, и всяких круп: пшена, гречки, риса и прочих перловок. Особо дело обстояло с картошкой.








