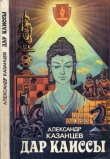Текст книги "У солдата есть невеста (сборник)"
Автор книги: Александр Зорич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Но куда она могла подеваться в такое время?» Лёня набрал номер мобильного Нелли Матвеевны, но абонент был недосягаем, как гностические небесные сферы.
Гнетущее чувство нарастало.
Дверь за Лёниной недоуменной спиной громко хлопнула – сквозняк. Но откуда взяться сквозняку, когда окна у них всегда закрыты? В своей комнате он никогда окно не открывал – боялся простудить мавок, пользовался кондиционером. В комнате матери давным-давно заклинило механизм. А балконное окно в гостиной было как всегда плотно запечатано – это Лёня приметил еще с порога.
Сердце запрыгало, в душе что-то текучее нагрелось, заклокотало – так бывало с Лёней в его густых, воронкой вертящихся ночных кошмарах.
Не снимая ботинок, он бросился в свою святая святых – там, там, чувствовал он.
Его взору открылось страшное.
Окно оскалилось в промозглый февральский вечер.
Все восемь постаментов были пусты.
Самодельные ширмы (каркас из реек, марля), которыми он затенял мавок от жгучих ласк Ярилы, страдательно растопыривали свои переломанные конечности.
Длинные белые люминесцентные лампы – они шли по периметру комнаты – теперь устилали пол хрустким крошевом мутных изогнутых осколков.
В центре стоял табурет, принесенный из кухни. К нему была приставлена швабра.
«На стул становилась. А шваброй шуровала…» – восстановил состав преступления Лёня, сомнамбулически продвигаясь к окну.
Он не мог, не хотел поверить в худшее. И мозг выдавал спасительные версии одну за другой.
«Она забрала их, чтобы продать. Понесла продавать. А чего, любой магазин возьмет такие…»
«Наверняка решила отнести в свою долбаную поликлинику. „Девочки, поглядите, у меня для вас сюрприз! Мой сыночек их сам вырастил!“»
«Она перенесла мавок в свою комнату. Просто взяла – и перенесла…»
Он по пояс высунулся в трубящую автомобильными клаксонами ночь и посмотрел вниз.
Его окна выходили на детскую площадку. Две качели, горка, невнятная скульптурная композиция, окрашенная масляной краской: устремленная ввысь Лиса и виноград, сыпью выступающий, вылущивающийся из каменного монолита. Трепеща, Лёня перевел взгляд ниже.
Два фонаря. Как раз в том месте, где два овала света сходятся… перекрещиваются… лежали… Даже с высоты одиннадцатого этажа Лёня узнал юное тело своей возлюбленной мильтонии, чьи цветы как райский фейерверк. «Милая моя… редкая моя…»
Мильтония Кловеса. Он вспомнил яйцевидные, тесно посаженные псевдобульбы самой искушенной гурии своего гарема и его душа горестно вздрогнула.
Пар валил изо рта, шея и лицо покраснели, а Лёня всё смотрел и смотрел на неправдоподобно пестрые ван-гоговские мазки тропических цветов в призрачно-белом искусственном свете.
Вон там лежит она, голубая ванда. Голубой – редчайший цвет у орхидей. Его ванда сорта «Лемел Йеп» принесла бы, возжелай он ее продать, не менее пяти сотен евроединиц. А теперь ее нет. Она умерла. Убита.
Рядом с ней, разметав по чуть занесенному снежком асфальту перегной и торф, обнажив подземные стебли, истекает своей эфирной кровью кудесница диза, своевольная мадагаскарская плясунья.
Леня без усилия воскресил в памяти тот особый наивно-порочный взгляд, которым приветствовала его диза, когда он входил в комнату. «Может быть, другие выглядят поизысканней меня. Но лишь со мной ты узнаешь, что такое счастье…» – вот о чем шелестели ее мясистые листья.
Резкий порыв ледяного ветра вернул Лёню в реальность.
«Надо что-то делать…».
Но что?
Позабыв затворить окно, он бросился, как был в джинсах, свитере и ботинках, вон из квартиры, чьи пропорции теперь казались вытянутыми, искривленными виноватой гримасой невольной соучастницы.
Мучительно медленно ехал лифт.
Сосед с шестого этажа, благополучно выгулявший по-коровьи пятнистого французского бульдога Басю, проводил Лёню длинным сочувственным взглядом. Даже Басе было ясно – где-то там бушуют обстоятельства чрезвычайной силы.
Пока Лёня обходил свой немалый панельный дом, чтобы добраться до детской площадки, перед его мысленным взором слепящими гоночными болидами проносились воспоминания.
…У каттлеи «Звезда Фукса» (чья инопланетность, несомненно присущая большинству орхидей, была усилена селекционером до уже почти галлюциногенного максимума – выгнутая белая в сизых прожилках, похожих на кровеносные сосуды губа, пять свернутых в трубочку лепестков, образующих звезду) от чрезмерного полива развилась черная гниль. Лёня, с мензуркой в руках, разводит новомодное лекарство, купленное в английском интернет-магазине. Его каттлеюшка глядит на него с боязливой настороженностью. Она уже давно не цвела, всему виной был лунный свет. Тогда неопытный Лёня еще не знал – каттлея не должна его видеть, и от него тоже следует каттлею заслонять. Днем прячем сокровище от солнца, ночью – от луны…
…Ванилла, она же, по-простонародному, ваниль, красавица со всегда приоткрытыми губами, живет на пальме, которую специально для нее Леонид лелеет в красивом глазурованном горшке. Цепляется воздушными корнями, карабкается по ее нитчатому, словно бы бурой пенькой обмотанному стволу, всё выше, озорница… Налетает ветер, сменяется кадр: Лёня произвел искусственное оплодотворение желтого, вытянутого цветка. Черешок цветка стал толще, удлинился, стал похож на стручок. «Скажи пожалуйста, будет когда-нибудь польза от этой твоей ванили? Я читала, ваниль дает ванильные бобы… Вот бы приготовить десерт на настоящих ванильных бобах!» – говорит мать за ужином. Лёня лепечет в ответ что-то путаное, маловнятное. Он никогда не позволил бы матери употребить в пищу детей прелестницы-ваниллы. Он не допустит, чтобы часть ее знойного мексиканского волшебства – вот, благоухая чистой эссенцией желания, колышется желтая кисея ее оборчатой юбки – ушла в их белый, стильный шведский унитаз оригинальной квадратной формы…
…Венерин башмачок тоскует без насекомых. Это природа рассудила – башмачок создан для них. В запертой квартире цветущий башмачок чувствует себя красавицей без глаза. Дорогой куртизанкой без клиентов. На дворе май. Разыскав на антресолях свою детскую рампетку, Леонид отправился в лиловеющий сиренью сквер, пленил там дюжину юрких мух и принес добычу домой. Они должны развлечь царевну-башмачок, как пажи, как фавориты…
"Мать их выбросила… Выбросила… Ревность… Ч-черт… "
Он сидел на корточках и прижимал к губам розовый, с массивной желтой губой цветок своей любимицы, лелиокаттлеи «Страдивари». Та отвечала ему сладким предсмертным ароматом. А вот два последних – как они радовали его всю неделю! – цветка фаленопсиса, его пальцы осторожно ласкали их поникшие шелковые полукружия.
Вначале он хотел забрать несколько вроде бы уцелевших, хотя и наверняка смертельно озябших цветков с собой. Но потом передумал. «Это будет какая-то некрофилия… Как если бы жених, зайдя в морг к погибшей невесте, отрезал от трупа ухо и… забрал домой, чтобы в холодильнике потом хранить…»
Однако оставить мавок лежать вот так, зримым напоминанием свинцовой мерзости бытия, чтобы случайные зеваки глядели на их жалостный срам, на стремительный ужас их кончины, он тоже не мог.
Леонид нашел в себе силы подняться на свой одиннадцатый этаж, взять метлу, совок, и мусорные пакеты.
Он похоронил мавок в Битцевском парке.
После трагедии Леонид пил три дня и три ночи.
Пить – по-настоящему, с богатырской безоглядностью простых русских парней – он, считай, не умел. Но по смутным рассказам друзей, относившихся, кажется, еще к старшим классам школы, помнил, что именно так, с бутылкой водки у красной губы, мужчина должен встречать всякий великий перелом своей судьбы.
Водку Лёня размешивал с пивом по обычаю ерша. Его страшно тошнило.
Как и велел сложившийся у него в голове канон, пил он в одиночестве – заперся на даче двоюродной сестры, старой девы со второй группой инвалидности по имени Виктория – та по первому требованию выдала ему ключ.
Перед тем как начать, он все же позвонил матери на мобильный. Сказал, что уехал в командировку, в тайгу, подбирать локации для «Русского „Лоста“».
Та держалась с квазитеплой вежливостью, свойственной всей своей зубодерной гильдии, а в паузах многозначительно сопела в трубку. И по звенящему призвуку в этом сопении Лёня догадался, что она, во-первых, нисколько не раскаивается, а, во-вторых, в эту его тайгу не поверила. В иные дни обман тяжелым грузом лег бы на его мелкую, но щепетильную душу. Но теперь, после этой немыслимой подлости, после этого первобытного зверства, в общем, после того, что она сделала…
Эта фраза («после того, что она сделала…») прокручивалась в его мозгу со зловещей неотвязностью пентаграммы из фильма постхристианских ужасов. Это с нее начинались все его пиво-водочные мысли. «После того, что она сделала, я просто обязан поджарить себе гренок и поужинать…». «После того, что она сделала, с работы восьмой раз за час звонит Викентий…» «После того, что она сделала, разболелась язва».
Наконец стихийный рационалист Лёня додумался, что неплохо бы сократить это вступление до аббревиатуры: ПТЧОС. Получилось так: «ПТЧОС, я стал совсем одиноким…», «ПТЧОС, близится старость…», «ПТЧОС, не понятно вообще, зачем жить…»
Третий день возлияний выдался трудным.
Пиво закончилось. Водка осталась самая паршивая.
Поначалу он не мог влить в себя ни рюмки. Но потом все же изловчился и кое-как, с черешневым компотом – трехлитровую банку с поржавелой крышкой он нашел в кладовой – смог выполнить свой поминальный долг.
К вечеру он допился до того, что стал вести воображаемые разговоры со своим ангелом-хранителем. Ангел косил под шестидесятника. По крайней мере, он называл Лёню «старик», цитировал Окуджаву и утешал этак свысока, иронически. Лёня как бы не утешался.
– Но ведь можно купить новые орхидеи. Взамен старых! Ты ведь неплохо зарабатываешь, старик… Всего лишь деньги, презренные бумажки…
– А матери, которая только что потеряла ребенка, ты скажешь, что можно родить нового ребенка, так?! – сквозь слезящийся прищур кричал Лёня.
– Но ведь это правда, старик… Когда я путешествовал по Фанским горам в арбе, запряженной серым осликом, я видел мать, оползень навсегда унес у нее двоих ребятишек… Да, ее глаза полнились скорбью, но ее душа была открыта будущему!
– Да ты хоть понимаешь, что они были для меня… всем?
– Понимаю.
– Ты хоть понимаешь, что я потерял?
– Да, старик… Понимаю… Работа у меня такая – понимательная…
Эти разговоры Лёня вел до темноты, пока случайно не увидел свое отражение в старом, с черными размывами зеркале, что было привинчено к исподу распахнутой двери допотопного платяного шкафа: высокий, грузный мужчина средних лет с массивным ренуаровским гузном и пробивающейся сквозь темно-русые кудри плешью, стоит в позе кающейся Магдалины перед креслом, на сиденье которого кое-как прислонился к подлокотнику бокал с черешневым компотом (на дне плавают две крупных розовых жемчужины), и разговаривает с трехрожковой люстрой времен хрущевской оттепели. А за окном – мертвый океан деревенской ночи.
Увиденное испугало его и отрезвило. Он перебрался на кровать – продавленная сетка, четыре медных шишки на суставчатых опорах – и вскоре забылся муторным сном гастролера.
«ПТЧОС, будильник стоит на восемь…»
Утро выдалось вёдрым. В саду галдели какие-то птицы – не то грачи, не то эдгарпошные вороны. В допотопном холодильнике «Днепр» с хромированным бивнем ручки было пусто.
Леня вышел на крыльцо своей заемной кельи.
«ПТЧОС, на завтрак ничего нет…»
Календарь в мобильнике сообщил: воскресенье. Лёня надел свою аляску, натянул лыжную, детского какого-то фасона шапочку с помпоном (подарок матери на Новый год) и поплелся в поселковый магазин, который, как он припоминал, располагался на железнодорожной станции. Очень хотелось есть.
На следующее утро ему нужно было во что бы то ни стало оказаться на работе. А на работе следует хотя бы казаться собранным и сытым, если уж быть таковым отчего-то не выходит.
«Русский „Лост“», если верить секретарше Полиньке, которой Лёня все-таки заставил себя позвонить, мол, выздоравливаю, скоро явлюсь, за время его отсутствия успел разбухнуть и отяжелеть на манер памперса. И начал припахивать – на тот же самый манер.
– А на роль Кейт, помнишь, этой девчонки, грабительницы банков, собираются брать Лару Говорову.
– Какую еще Лару?
– Ну дочку Алексея Афанасьевича.
– Дочку же, не любовницу, – примиряюще-занудно сказал Лёня.
– Так ей тринадцать лет! – давясь возмущением, прошипела Полинька. – Хороша рецидивистка!
– Тринадцать? Впечатляет… И что делать?
– Викентий сказал, твои ребята смогут ее состарить…
– Чтобы качественно состарить тринадцатилетнюю пигалицу моим ребятам придется поить ее абсентом и заниматься с ней сексом лет этак семь без отгулов и отпусков…
Полинька сдавленно хохотнула в трубку. За годы совместной работы она успела привыкнуть к тому, что Лёня никогда не шутит. А он, оказывается, шутит.
– Он имел в виду, спецэффектами состарить… Ну, на компьютере… Подумаешь?
– Я подумаю, – лживо пообещал Лёня.
Сельский продмаг произвел на Лёню неожиданно хорошее впечатление – ремонт, новые витрины, ассортимент… И ни одной живой души. Магазин был рассчитан на залетных горожан – сами сельчане отоваривалась в местах подешевле.
Леня скользнул по ликероводочной витрине взглядом, исполненным искренней брезгливости. Одна мысль о спиртном вызывала у него глубинный рвотный позыв.
Подошел к мясной витрине. Вдумчиво осмотрел пухлые сардельные спирали, непристойно-розовые, как гениталии, полукружия ветчины, пупырчатые фаллосы сухих колбас… Нет, галантной мертвечины ему не хотелось.
Кондитерский угол: здесь сладкий ракушечник печенья, там – конфеты с ощутимым преобладанием ностальгических марок: «Рачьи шейки», «Ренклод», шоколад «Аленушка»… От взгляда крохи-Аленушки, исполненного озорной проникновенности, а может от композиции вокально-инструментального ансамбля «Песняры», что звучала в те мгновения из приемника, настроенного на радио «Мелодия», Лёнины глаза чувствительно увлажнились.
Наконец продавщица – вот уже десять минут она с угодливой улыбкой таилась в углу – не выдержала, прихорошила укладку и выступила на авансцену.
– Вы, наверное, сладенького желаете? – ласково спросила она. – Вот, имеются тортики… Вафельный… Бисквитик…
Леня посмотрел на нее испуганно – за три дня одиночного плавания он успел позабыть, что в магазинах водятся не только продукты, но и продавщицы.
– Да…
– А здесь у нас вот халва… Рахат-лукум…
Рахат-лукум… Рахат-лукум петардой взорвался в дымящемся Сталинграде Лёниной души. Он всегда покупал его для матери, выбирал самый лучший, иранский, с орехами, в сети магазинов «Гурман». Но после того, что она сделала, после того, что она натворила…
В этот момент Лёня окончательно утратил контроль над собой – он закрыл лицо своими большими руками и разрыдался, прямо на глазах у продавщицы, румяной, статной молодухи Наташеньки Бориско.
– Ну что же… Как же так… У вас, наверное, горе? – сердобольно глядя на заезжего москвича, поинтересовалась Наташа. – Вон там стульчик, присядьте, что ли? Да не стесняйтесь вы, не надо…
Лёня послушно сел, высморкался в салфетку, судорожно стиснул руками шапку с помпоном. Затем в бешенстве швырнул ее на пол. По его ноздреватым, тяжелым щекам букашками ползли слезы.
Наташа шустро выскользнула из-за прилавка. И, в нерешительности помедлив в метре от незнакомца, всё же решилась, заперла магазин. Привычным движением перевернула она химически-желтую табличку, на аверсе «Открыто», на реверсе – «Закрыто». Теперь – реверс.
Затем она подошла к Лёне вплотную и с целомудренной нежностью погладила его по курчавой шапке русых волос. Волосы пружинили как будто.
Плачущий мужчина напомнил Наташе ее непутевого сынка – восьмилетнего Сашку, который как раз гостил у отца в Минске. От обоих веяло чем-то незаурядным, чем-то обещающим и это нравилось Наташе, это было как смотреть перед новогодними праздниками телепрограмму – столько всего будет!
А вечером Лёня и Наташа пили шоколадный ликер, ели принесенные Наташей в эмалированном судке голубцы и скрипели кроватной сеткой. Всё было очень естественно и по-деревенски беззаботно.
Тикал будильник. Уткнувшись носом в большую, с широким расплывшимся соском Наташину грудь, Лёня думал о том, как похож сладковатый, тяжелый Наташин запах на запах ваниллы. Да что там похож – один и тот же запах! Словно бы сама ванилла вдруг оделась без всякой потери смысла в эту облую веснушчатую плоть… Или точнее так: словно бы ваниллу, погибшую красавицу, обменял он на сродственный ей гибрид.
Наташа же думала о том, что ведь он уедет, как уехали все до него. Что он хороший и добрый, хотя неприспособленный какой-то, рыхленький. Но в ее мыслях не было ни печали, ни надрыва.
Но на этом история не закончилась.
Под начало Лёни прибыла новая сотрудница – дизайнер Айша.
Она была дочерью чернокожего студента из прогрессивной африканской страны, кажется, Ганы, и некрасивой москвички, близко к сердцу принявшей идеалы интернационализма. Брак быстро распался, студент улепетнул искать счастья в объединенной Германии, где у него оказался родной, что ли, брат. Айша осталась с мамой и бабушкой, чтобы вырасти обычной русской бабой – в меру сентиментальной, в меру основательной, в меру мужелюбивой.
На последнем курсе художественного училища черный папа, годами не проявлявший алиментарной активности, вдруг усовестился и прислал дочери электронный планшет. Подарок пришелся ко двору – Айша забросила краски и холсты и вскоре оказалась среди артистов (этим словом, с ударением на первый слог, производным от английского art, называли в Лёниной конторе всех без разбору рыцарей «фотошопа» и «три-дэ макса»). Айша работала в комнатенке с прозрачными стенами, справа от мини-аквариума Лёни. Зарплату тратила на музыкальные диски, завлекательные бюстгальтеры с эффектом пуш-ап и броскую бижутерию, среди которой выделялись страховидные гаитянские амулеты и массивные позолоченные цепи. На работе не засиживалась. На корпоративе в честь восьмого марта перетанцевала даже самых энергичных шлюх из отдела продвижения… Собственно, вот и всё, что мог сказать о ней ее начальник Леонид Олегович Старцев-Рязин.
Лёня никогда не думал хоть сколько-нибудь всерьез о том, нравится ли ему Айша. Поэтому когда он получил с рабочего адреса Айши письмо, состоящее из одного заголовка «Я тебе нравлюсь?» (внутри содержалась картинка с полуголой, в чулках, креолкой, блудливо курящей папироску через мундштук), он два дня не знал что ответить, а потом на всякий случай написал: «Да».
Тем же вечером Айша отдалась Лёне на кожаном диване переговорной комнаты…
Лёня отметил свое вхождение в тайный орден ценителей орального секса трехдневной поездкой в Эмираты. А когда вернулся, Айша вновь осталась на работе допоздна… Иногда, просыпаясь по ночам в своей обшарпанной квартире в сильно удаленном районе столицы – ее он снял сразу по окончании траура – Лёня вспоминал скользящие, всегда чуть влажные прикосновения своей смуглокожей пассии, пытаясь понять, что же именно они ему напоминают. Разгадка была близко, но отчего-то не давалась. Однажды ночью ему было откровение: венерин башмачок. Сорт, который некогда разводил Лёня, назывался «Магия вуду»…
Лёня сидел на кухне с бутылкой пива и перебирал факты, словно монах намоленные костяшки четок. Царевна-башмачок была темной, с оттопыренной мясистой губой. Разве не таковы губы Айши, налитые отборной экваториальной чувственностью? Царевна-башмачок была самой некапризной в его выводке. Да и Айша – аллегория скромности… Замуж и в клубы не просится, подарков не клянчит… Напротив, два раза кормила его ужином у себя дома… На работе делает вид, что незнакомы… Кроткое сокровище! Черный алмаз, но только живой, теплый!
Он редко виделся с Айшей. Раз в неделю или даже две. Свободного времени у него оставалось предостаточно – он даже начал смотреть по вечерам телевизор, что попало, лишь бы не в тишине… Однажды поздно вечером – он как раз жевал глазами «Поле Чудес» – в дверь позвонили.
Первая мысль была: «мать». «Но откуда она узнала адрес? Неужто Виктория проболталась?»
Но нет. На пороге стояла женщина лет тридцати с упругими русыми локонами. На ногах – домашние тапочки с нежной опушкой. Облегающий атласный халат. Этот халат с обильными бело-желтыми рюшами придавал ей сразу угаданное Лёней сходство с другой мертвой возлюбленной – целогиной гребенчатой. Ее груди, что теснились в V-образном запахе халата, были округлы и мягки, словно псевдобульбы всё той же целогины. Лёня растянулся в улыбке.
– Здравствуйте… – растерянно сказала женщина. – А где Борис?
– Борис? – Лёня задумчиво потер переносицу. – Какой Борис?
– Ну… Он здесь живет…
– Вообще-то здесь живу я. Уже два месяца.
– А Борис? – с печальным недоумением спросила женщина.
– А Борис – не живет.
Но женщина отчего-то не уходила. Она стояла, потупив взор, опушенный длинными ресницами а ля Мальвина, и рассеянно покусывала щедро навощенную алой помадой губу. Она думала о чем-то своем. Причем делала это медленно.
– Может я чем-то могу помочь? – спросил Лёня, ну не закрывать же в самом деле дверь вот так, перед задумчивой красивой женщиной.
– Ой… А вдруг можете? У меня там свет вырубило во всей квартире кроме кухни… Уже не в первый раз… Может, если у вас есть время…
– Свет? Я не электрик, конечно. Но в этом деле немного разбираюсь, – заверил гостью Лёня. – Пойдемте поглядим.
Он уже знал, что произойдет дальше. И он радовался. Так и будет оно прирастать – их количество – пока однажды его невест, его мавок, не станет, как и некогда, ровно восемь.
Апрель – июль 2008