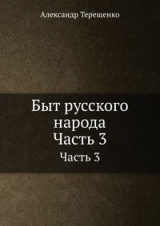
Текст книги "Быт русского народа. Времяисчисление. Крещение. Похороны. Поминки. Дмитриевская суббота. Часть 3"
Автор книги: Александр Терещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
III. ПОХОРОНЫ
СЖИГАНИЕ МЕРТВЫХ ТЕЛ
На востоке с незапамятных времен сжигали тела мертвых. Такое обыкновение существовало долгое время в древней Европе почти до Р. X. [26]26
Ахиллес перед сожжением друга своего Патрокла обрезал русые свои кудри и дал ему в руки. Гнедич «Илиада Гомера», пес. XVIII, ст. 141 и 152, изд. 1839 г. Таким образом сожгли Гектора; там же, пес. XXIV, ст. 790–800.
[Закрыть].
В Индии, во многих идолопоклоннических племенах юго-западной Азии, западной Индии (в Америке), на островах Океании и в <континентальной> Африке доныне покойников сжигают. Над их трупами сначала пируют, потом тела предают огню, а в заключение совершают пляски, радуясь кончине, потому что со смертью пресеклись для них все бедствия и горести в здешнем мире. Сжигание проистекло из поклонения огню, через который будто бы душа проходить в рай, как через чистилище. Геродот, греческий историк полов<ины> V в. до Р. X., пишет, что еще в его время народы Фракии сжигали умерших. Там при рождении младенца собирались приятели, садились вокруг него, печалились о его появлении на свет и разговаривали между собою только о том, что еще родился человек для сетования, горести и несчастия. Когда же он умирал, тогда веселились, обнаруживая этим, что он уже избавился от всех напастей. После смерти мужа его жены спорили между собою, кому из них быть сожженною с мужем? Каждая из них желала быть сожженною в доказательство, что она любила его более всех. Ежели спор между ними не оканчивался дружелюбно то знакомые покойника рассматривали их требования и предоставляли честь быть сожжену с мужем той, которую знали, что она точно более всех была им любима. Мужчины и женщины провожали ее до могилы, и один из родственников покойника закалывал ее ножом; потом клали ее вместе с мужем на костер. Прочие жены воз вращались домой с большою печалью, потому что не были удостоены этой чести. Тела богатых и знатных выставляли перед народом и пировали три дня. Игры, борьба и битвы заключали поминовение по умершему.
История просвещенных греков и римлян свидетельствует нам, что у них долгое время господствовало обыкновение сжигать тела не только простых граждан, но и великих людей. На месте сожжения ставили памятники, а пепел собирали в урну и хранили у себя дома как драгоценнейший остаток. Когда вошло в обыкновение ставить слезницы, т. е. урны над гробами со слезами, тогда уже стали предавать тела земле. Однако в то же самое время многие предпочитали сожжение погребению. Юлий Цезарь, именем коего украшаются императоры и самые величайшие завоеватели в мире; Цезарь, падший под 23 ударами кинжалов в сенате (в 44 г. до Р. X.), был сожжен торжественно. Народ бросал на горевший его костер копья, венки и украшения. В то время появилась на небе комета, и все думали, что душа Цезаря принята в сонм богов. Его наименовали божественным, и на месте сожжения воздвигли храм Цезарю. Германцы сжигали с телами умерших оружие, коня, посуду, платье, и над могилой делали насыпь. По распространении между ними христианства это обыкновение мало-помалу стало исчезать.
ПОГРЕБЕНИЕ
Евреи и египтяне погребали тела. У последних бальзамировали еще покойников и ставили их в капищах. Этим пользовались цари и все богатые, недостаточные лишались таковой почести. Само бальзамирование, проистекшее от верования в переселение душ после смерти, из одного животного в другое, служило чистилищем. С покорением Египта персидским царем Камбизом в начале VI в. и потом Александром Македонским в первой полов. IV в. перед Р. X. бальзамирование почти истребилось и вошло повсеместное погребение. Были примеры, что тогда же некоторые, следуя греческому и римскому обыкновению, сжигали умерших.
Из мертвого тела, пишет Геродот, вынимали внутренности, перемывали их и потом опять влагали в тело, переложив кореньями, тимьяном, анисом и другими семенами; потом облепляли тело воском и передавали на погребение. Тут обрезали ему уши и волосы и опускали в четырехугольную яму; могилу окружали копьями. С покойником клали одну из его жен, задавив наперед веревкою; потом повара, чашника, дворецкого, казначея, золотую чашу, первенцев из животных и любимую его лошадь. После набрасывали хворост и насыпали над ним большой холм. По прошествии года задавливали при его могиле 50 вернейших из его слуг и 50 наикрасивейших лошадей. Из них вынимали сначала внутренности, перемывали и опять влагали. После продевали в лошадь от головы до ее хвоста длинный шест и укрепляли ее на двух колесах в висячем положении. Задавленных людей сажали верхом на лошадей с укрепленным колом к земле. Этот обряд совершали над одними только царями. Прочее сословие довольствовалось тем обрядом, что по изъятии внутренности набивали тело травами и отдавали на хранение приятелям, которые передавали потом другим приятелям, продолжая передачу сорок дней, и наконец погребали.
В первые века христианства погребение сделалось все общим. Усопших погребали в церквах и около церквей; ставили кресты на могилах; гробы делали большею частью деревянные, каменные употребляли изредка. Пышных па мятников тогда не знали. Египетские пирамиды, мавзолеи, саркофаги и другие надгробные жилища распространились по Европе вместе с роскошью не ранее XVII в. по Р. X. Дотоле же это составляло принадлежность только владетельных родов и аристократов. Кладбища за городом учредились не ранее того же века, а в России в конце XVIII в.
Между некоторыми германскими племенами было в обыкновении, что умерших знаменитых людей хоронили в вы копанной в реке могиле. Предводитель готов Аларих, гроза восточной и западной империи, долго оплакиваемый после смерти его подданными, как детьми, был положен в драгоценный гроб (410 г. по Р. X.). На дне реки ископали могилу, опустили туда и затопили водою, чтобы никто из смертных не коснулся священных для них останков и чтобы самое отдаленное потомство, вспоминая о его делах, не шало могилы. Все рабы, производившие работу, были умерщвлены для сохранения тайны погребения.
Монгольские и татарские племена также опускали в воду мертвые тела своих полководцев и знаменитых мужей. Иные из простого сословия погребались просто, а другие опускались с гробами в воду. Атгила, прозванный бичом Божиим и молотом небесным, умерший (в 453 г. по Р. X.) после своей свадьбы от истечения кровью, был вложен в три гроба: золотой, серебряный и железный и опущен в воду. Чингисхан (умер в 1227 г.), погребен по его собственному указанию у Байкальского озера, на вершине горы Бурханкалдук, откуда истекают три реки: Тула, Керулак и Онон. Тут покоятся все наследники престола Чингисхана. Неко торые думают, что страшный Тамерлан тоже сокрыт в воде (в конце XIV в.).
Люди незнатного рода и вообще недостаточные предавались земле. У калмыков, кочующих доселе, предпочитается погребению опускание в воду. Детей ханских кладут в гробы и, наложив на них балласт, опускают в воду при торжественном чтении молитв и игрании музыки. Все мореходцы опускают мертвых в воду по причине отдаленности от твердой земли.
СЖИГАНИЕ У СЛАВЯН
Наши предки славяне сжигали тела. Св. Бонифаций, живший в половине VIII века, говорит с изумлением. Венеды не хотели переживать своих мужей: убивали себя собственноручно, бросались на пламенный костер и сжигали себя добровольно с умершим мужем. Такая жена была всеми похваляема; оставшаяся же вдовою была поношением для семейства [27]27
Маврик. «Strateg. etc.».
[Закрыть]. Нестор, описывая нравы русских славян, говорит между прочим, что радимичи, вятичи и северяне возлагали умерших на костер и сжигали; потом совершали тризну. Кости складывали в небольшой сосуд и ставили на столбе при распутье. Этот обычай совершался еще в его время (в пол. XI и нач. XII в.) вятичи, кривичи и другие финского племени обитатели в верховьях Днепра [28]28
«Нестор, по Кенигсб. сп.», с. 12.
[Закрыть]. По разбитии греками в. к Святослава под крепостью Доростолом (Силистриею) в 971 г., русские вышли ночью в поле при полном блеске луны для собирания убиенных соотчичей; за стенами разложили костры и жгли на них умерших в сражении; пленных мужей и жен душили, а в воды дунайские погружали младенцев и петухов и тем довершали жертвоприношение и возлияние в честь усопших [29]29
«Leo Diaconis Historia», libr. IX, с объяснением Газе, изд. 1829 г.
[Закрыть]. Аравитянин ибн-Фоцлан, отправленный послом в начале X в. от калифа Муктедира к болгарскому королю, которого он называет славянским, передал нам любопытное сведение о нраве, жизни и обычаях волжских славян. Умершего бедного клали в деревянный гроб и потом сжигали. После смерти богатого собирали его имущество и делили на три части. Одну часть отдавали его семейству, другую оставляли на покупку ему платья, а на третью заготовляли напитки, чтобы повеселиться в тот день, когда будут сжигать девушку с ее господином, и в то время предавались питью вина до бесчувственности: иные пили сряду день и ночь; часто умирали с бокалами в руках. Когда умирал князь или властитель, тогда семейство его спрашивало у девушек и мальчиков, кто хочет умереть с ним? Кто произносил «я», тотчас связывали его и не выпускали на волю, хотя бы он после хотел отказаться. По большей части девушки вызывались на смерть. Если девушка изъявляла желание умереть, то ее поручали двум другим девицам, которые имели за нею присмотр, и куда бы она ни пошла, следовали за нею и служили во всем, даже мыли ей ноги. Девушка же веселилась, пела и усыпляла свое горе напитками. В день сожжения приносили к берегу реки приготовленный гроб, окруженный четырьмя деревянными изображениями. Сюда стекался народ толпами и произносил невнятные слова. На деревянных подмостках ставили кровать, которую покрывали дорогими материями и подушками. Немедленно приходила старая женщина, называвшаяся ангелом, смерти, со свирепыми глазами и адским лицом. Она подходила к могиле, в которой лежал мертвый, вырывала его оттуда, а с ним горячительные напитки, плоды и лютню; надевала на него споднее и верхнее платье, сапоги, куртку, шитый золотом кафтан с золотыми пуговицами и золотую парчовую шапку, обложенную соболем. Потом несла его на подмостки под устроенную палатку; сажала на стеганом одеяле, обкладывала подушками и ставила перед ним напитки, плоды, васильковые травы, хлеб, мясо и лук. Затем приводили собаку, разрезали ее надвое и бросали на подмостки. В стороне клали оружие покойника. Потом приводили двух лошадей, загнанных до пота, и двух быков; приносили петуха и курицу; все разрубали на части и мясо бросали на подмостки. Обреченная на смерть сходила вниз и опять появлялась; и когда входила в палатку, тогда она говорила находившимся при ней: «Скажи твоему господину, что я умираю из любви к нему». После полудня приводили ее к дверям палатки, ставили на ладонях мужчин: она смотрела через щель двери, говорила, сходила с ладоней, и это действие повторяла три раза. В первый раз она говорила: «Здесь я вижу моего отца и мою мать»; во второй: «Здесь я вижу всех моих умерших родственников, сидящих вместе»; в третий: «Здесь я вижу моего господина: он сидит в раю. А рай так прекрасен! Так зелен! Господина окружают мужчины и мальчики. Он зовет меня. Скорей меня к нему!» Тогда подавали ей курицу; она отрезала ей голову и бросала. Стоявшие поднимали с земли и бросали на подмостки. Потом ее подводили к умершему: она снимала с рук ожерелья и отдавала ангелу смерти; затем снимала кольца и отдавала стоявшим подле нее двум девушкам, называвшимся дочерями ангела смерти. Тогда возводили ее на подмостки. За нею входили мужчины со щитами и палками и подносили ей бокал с вином. Она брала и осушала его с пением. Тут уже прощалась со своими друзьями. Ей подносили другой бокал, при этом она пела длинную песню. Ангел смерти вырывал тогда бокал из ее рук и вводил насильно в палатку ее господина. От этого она приходила в смущение, делалась нерешительною; но ангел смерти хватал ее за голову и тащил во внутренность палатки. Тотчас мужчины начинали бить в щиты палками, чтобы никто не слыхал ее крик и чтобы другие девушки не ужасались умереть со своим господином. Тогда входили сюда шесть мужчин с несколькими девушками. Обреченную жертву клали сбоку господина: двое хватали ее за ноги, а двое за руки. Ангел смерти входил с широким ножом и ударял ее между ребрами. Двое мужчин душили ее веревкою. Ближайший родственник умершего выступал вперед, брал полено и зажигал. Он шел к подмосткам с горящим поленом в руке, а другую руку закидывал за спину и зажигал костер. Потом каждый подходил к костру с зажженным деревом, поджигал и бросал на костер полено. Огонь пылал со всех сторон, а в нем горела жертва ослепления. По сожжении ставили в роще столб и надписывали на нем имя умершего и царствующего короля, и потом расходились [30]30
«Jbn Fosslan und anderer Araber Berichte uber die Russen alterer Zeit», v. Frahn, Petersb., 1823 г., с. 11–21; «Stritter-Mem. popul», т. II, с. 980; «The oriental Geography of Ibn-Haukal», c. 191. Все они подтверждают, что древние русские жгли тела мертвых.
[Закрыть].
У балтийских вендов старшина селения оповещал жителей о смерти гражданина пересылкою из дома в дом черной палки, и все должны были присутствовать при выносе тела. Женщины, одетые в белые платья, обязывались плакать и вопить, потом собирать слезы в маленькие сосуды. После предавали тело огню и, омочив пепел слезами, вином, молоком и душистою водой, собирали прах сожженного в урну, которую зарывали в землю. С умершим сжигали на костре любимую его жену, служанку, слугу, коня и любимых его домашних животных; подле него клали оружие, деньги и кумиров; над могилою знатных мужей складывали в кучу камни или делали насыпь. Печальный обряд заключали траною (поминовением): ели, пили, пели приличные в честь покойника песни и забавлялись разными играми, борьбою и верховою ездою.
Урны делались из глины, металла и стекла. Если набиралось вдруг много умерших, например, в сражении, то их сжигали на каменном помосте и прикрывали доскою [31]31
Gebhardi. «Fortsetzung der Allgem Welt – Geschichte der neuen Zeit», ч. 33, с. 254–255.
[Закрыть]. Чем особа знаменитее, тем бугор делался выше и шире, и верхушка оканчивалась конусом. На нем ставили какой-нибудь знак.
НАСЫПНЫЕ БУГРЫ И КУРГАНЫ
Варяго-руссы закапывали покойников в землю; над вла детельными князьями и старшинами делали насыпи из земли, называемые буграми и холмами, которые были раз личной высоты, смотря по особе. Если лицо было знаменитое, то делали высокий бугор; но над князем владетельным делали еще выше, и самый высший означал родоначальника владетельного дома. Такое обыкновение наших предков продолжалось во все их идолопоклонство. Правитель воз рождавшейся России Олег, приплыв к высоким берегам Днепра, объявил Аскольду и Диру, завладевшим тогда Киевом, что настоящий государь есть Игорь, и по его знаку они пали под мечами убийц. Тела их погребены на горе, где в Несторово время находился Ольгин двор, а над могилами их сделали холмистую насыпь (в 879 г.). Жители киевские доселе указывают на это место. Кости Аскольда покоились ниже Николаевского монастыря, где вросла теперь в землю небольшая старинная церковь, а кости Дира за древнею церковью св. Ирины. Над могилою Олега, который погребен на горе Щековице (в 913 г.), находилась также насыпь, которая еще в Несторово время называлась Ольговою могилою. По убиении древлянами в. к. Игоря (в 945 г.) близ Коростеня [32]32
Нынешнее местечко Искорость, в Волынской губ., на реке Уме.
[Закрыть]они насыпали над ним высокий курган в Несторово время он был еще виден [33]33
Успенск. «Опыт, повеств. о древн. русск.», ч. 1, с. 138–139 – пишет, что Татищев сам осматривал этот курган в 1710 г. и ссылается на его историю (с. 36 и 389). По проверке выходит, что Татищев ни слова не говорит об этом в своей «Истории», см. его «Ист. российскую», ч. I, кн. I, с. 36 и кн. II, с. 389.
[Закрыть]. В. к. Ольга, умирая, завещала между прочим своему сыну Святославу, чтобы в память ее не совершали тризны [34]34
Успенск. (там же, с. 138) говорит, что будто бы Ольга завещала своему сыну: «Погреби тело мое по христианскому закону; не сыпь надо мною высокой могилы и не делай в память мою тризны по обычаю неверных». В «Несторе» сказано просто: «Умре Ольга и плакася по ней сын ее, и внуци ее, и людие вси плачем великим. И изнесше погребоша на месте, и даже заповедала Ольга не творити тризны над собою: бе бо имуща презвитера в тайне; сей похорони блаженную Ольгу». См. его «Летоп. по Кенигсб. сп.», с. 19, 33, 34, 59. О могильной насыпи ни слова у Нестора.
[Закрыть].
Великое множество могильных холмов, известных под именем курганов, было видно в восточно-южной России до конца XVIII в. Там отрывали разные металлические вещи, деньги и вооружения, которые были положены вместе с покойниками в том предубеждении, что они пользуются ими на том свете [35]35
В Малороссии в мое время было еще в обыкновении, что над умершим казаком делали высокую насыпь. Еще встречается во всех местах России, что если кто умирает на дороге, то делают над ним значительную насыпь, ставят деревянный крест или столб и вырезают на нем имя умершего. Набожность воздвигает впоследствии часовню; проезжающие останавливаются здесь: молятся и поминают умерших вдали родных и своей отчизны.
В окрестностях Золотой столицы, коей остатки находятся в городе Царев Саратовской губерн., обращенные веками в бугры и земляные насыпи, отрыто кладбище на 7 верст пространства: оно все усеяно земляными насыпями и кирпичными буграми. Это отрытие проистекло по случаю разыскания древностей Золотой столицы, коей положение доказано исследованиями нескольких лет.
[Закрыть].
В Литве часто находили в могилах не только высшего сословия, но и низшего, кости разных животных, оружия, украшения и напитки. В Новогрудском лесу нашли на одной могиле надгробный камень с этой надписью:
ПОСМЕРТНЫЙ ОБРЯД У ГРЕКОВ, РИМЛЯН И ЕВРЕЕВ
Древние греки и римляне, не сжигавшие впоследствии тела покойников, отправляли посмертные обряды почти одинаково с евреями. Умерших обмывали теплой водою, выправляли телесные члены, сжимали глаза и рот. Это делали по большей части родственники из нежной любви к покойнику. Пенелопа, прощаясь со своим сыном Телемахом и супругом Улиссом, желала еще дожить того часа, в который бы сын ее закрыл глаза своим родителям:
Jlle meos oculos comprimat, ille tuos
<Тот мне закроет очи, тот – тебе>.
Римлянка говорила своему сыну:
Nee te, tua funera, mater
Produxisse, pressive oculos, nee vulnera lavi
<Да не приведут матерь твою на похороны твои,
Да не закроет она тебе очей, не омоет ран>.
Тело натирали еще благовонными мазями. Потом надевали споднее платье; поверх него верхнее, большею частью белое; лицо покрывали тонким полотном, голову убирали цветами и венками и клали в передней комнате, ногами к дверям; в рот клали обол [37]37
Монета ценностью в полушку.
[Закрыть]для оплаты Харону за перевоз через реку Лету. Приходившие родственники и знакомые целовали в последний раз в губы. Прощальные расставания и цело вания находим у римских стихотворцев. У Вергилия:
Salve aeternum mihi maxime Palla,
Aeternumque vale
<Будь здорова вовек, моя милая Палла,
И навек прощай>
У Тибулла:
Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto,
Tristibus et lacrymis oscula mixtis dabis
<Оплачешь меня, положенного на сухое ложе, Делия,
Дашь мне поцелуи, смешанные с печалью и слезами>
У Проперция:
Перед домом ставили, пока умерший находился в нем, сосуд с водою, которую омывались прикасавшиеся к покойнику, почитая себя оскверненными. Мертвый лежал несколько дней не погребенным. У римлян оставляли их семь дней, в продолжение коих обмывали теплой водою, чтобы возвратить его к жизни, и производили разные плачевные воззвания. Нанимали особых женщин – плакух, чтобы они рыдали над мертвым, и музыкантов, чтобы играли при несении тела.
В Афинах выносили тела на нарах до восхождения солнца, а в других местах Греции днем, с зажженными факелами, или везли на богатых колесницах, покрытых черной матернею. Родственники шли в печальных белых одеждах; знакомые и любопытные обоего пола сопровождали покойного до могилы. Его несли или везли лицом вверх; в могилу же клали лицом, обращенным на восток. Путь до могилы усыпали цветами, зелеными сучьями, травою; могилу посыпали цветами и обсаживали деревьями. Поминки сопровождались яйцами, хлебом, салатом и бобами [39]39
King. «The rites and ceremonies in Russia», c. 336–340, ed. Lond., 1772 г., in 4; Успен. «Oп. повеств. о древн. руск.», с. 139.
[Закрыть]. Богатые ставили памятники мраморные или из обыкновенного камня по своей идее или своим чувствам; резали надписи на камнях, мраморных гробницах и медных досках с изображением барельефов, выражавших мысль о потере или горестное чувство, постигшее оплакивающих. Хоронили в городе и вне, в храмах и садах. Глубокую грусть выражали еще тем, что могилу окружали печальными деревьями: кипарисом и миртом.
ПОГРЕБЕНИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ
Балтийские и мекленбургские венды складывали мертвые тела под каменными сводами или ставили гробы в землю и поверх могильной насыпи набрасывали круг камней, или вбивали в землю кол. Богемцы ставили на распутье дорог деревянные знаки и отправляли поминки, одевшись в шутовские платья и личины. Славяне киевские имели обыкновение зарывать в землю вместе с трупом плетенные из ремней лестницы; ближние умершего язвили свои лица, и закалывали на могиле любимого коня [40]40
Кар. «И. Г. Р.», т. I, прим. 236.
[Закрыть].
Предки наши, по принятии христианской веры, позаимствовали многие восточные обычаи в числе их обрядные действия погребения. Способ делания гробов, называвшихся у нас корсты, взят от греков [41]41
Кар. «И. Г. Р.», т. I, прим. 488.
[Закрыть].
По смерти кого-либо давали немедленно знать священнику, который приказывал звонить по душе покойника в колокол и потом сам являлся. До его прихода омывали тело теплой водою, надевали белое и чистое белье и клали посредине комнаты на стол, покрыв белым полотном и сложив руки на груди. Потом давали покойнику крестообразно в одну руку крест, а в другую свечу, и окружали его зажженными восковыми свечами; священник читал отходную молитву; присутствовавшие с зажженными в руках свечами молились и плакали.
Муромский князь Глеб, услыхав об убиении своего брата Бориса, излил горесть в набожном плаче: «Господи! Лучше бы мне умереть с братом, нежели жить одному на этом свете. Если бы я, брат мой, видел твое ангельское лицо; то пострадал бы с тобою. Но к чему я остался один? Где твои речи, которыми услаждал меня? О брать, мною любимой! Ныне, уже не услышу твоего кроткого наставления. Если можешь молиться за меня у Бога, то молись, чтобы и я принял подобную тебе участь. Мне было отрадно жить с тобой, а теперь остаюсь один – в этом обольстительном мире!» [42]42
«Пушкиновская летопись», с. 97. Чувствительные слова Глеба переданы летописцем весьма вкратце. Борис убит 1015 г. июл. 24, а Глеб в том же году, сент. 15, в понедельник.
[Закрыть]
Тело оставляли непогребенным несколько дней; погребали до захождения солнца, чтобы оно было еще высоко и лучезарно: «то бо последнее видит солнце до общего Воскресения». Другие считали долгом погребать мертвых в самый день их кончины, и только за неимением гроба отлагали до следующего дня. Когда князь черниговский Давид (скончавш. в 1123 г.) был внесен в храм Бориса и Глеба с тем, чтобы предать его тело погребению в тот же день, тогда не был готов гроб, посему епископ Феоктист сказал: «Солнце заходит, оставим погребение до утра». Через несколько времени пришли люди и объявили епископу, что солнце не скрывается и стоит на одном месте. Феоктист восхвалил Бога; работники спешили обтесать камень, и как скоро вложили камень во гроб, солнце село [43]43
«Степей, кн.»; Кар. «И. Г. Р.», т. 2; «Вопрошение Кирика»: «замедлю солнцю, не достоит мертвеца хоронити. Не рци тако: борзо делаем, нели како успеем до захода, но тако погрести, яко и еще высоко, как и венец еще не сымется с него, то бо последнее видит солнце до общего Воскресения».
[Закрыть]. Тело кн. Юрия, родного брата в. к. Иоанна III, пролежавшее в соборе архангельском четыре дня, противу обыкновения, не хотел предавать земле митроп. Филипп, потому только, что не в тот день погребен, когда помер, – однако, по приказанию великого князя, он похоронил его.
Над усопшим читали псалтырь, день и ночь. Родные и знакомые прощались с умершим, целую его в уста и руки. Нанимали еще женщин-плакух; курили ладаном, молились Богу о спасении души и о принятии ее в рай. При наступлении погребения, клали тело в деревянный окрашенный гроб или обрисованный изображениями святых, и отвозили на санях в церковь [44]44
В древности отвозили на санях покойников, зимою и летом. «Летоп. Нестора», с. 93 и 114, «русск. летоп. с воскр. сп.», ч. I, с. 161 и «Духов, зав. Владим. Моном». – В описании смерти князей Бориса и Глеба, убитых Святополком: «целоваша Бориса святого, вложиша в раку каменну, по сем взяша Глеба святого с каменною ракою и возложивше на сани, везоша». Перенесение мощей совершено после смерти в. к. Ярослава, летом довольным (в позднее лето). «Во второй же день мая, когда прежде уставися праздник пренесения честных мощей св. князей Бориса и Глеба, по отпении обычного утреннего правила, митрополит с епископы и всеми пресвитеры и диаконы, облекшеся в светлые священные облачения, и свещи возжегши, покадиша раки святых, и положиша коегождо на свои сани, на то устроенные и украшенные: быша же раки каменные и везоша князя с ведьможи собою. Предъидущу митрополиту со всем священным собором по своему чину, не могоша же не токмо мощей возити, но ниже самы поступити от множества налегающего и угнетающего народа, и повеле кн. Владимир Мономах метати сребрянники в народ, и тако едва возмогоша привезти раку». – «Чет. Мин.», мая 2. Возить умерших на санях продолжалось у нас до конца XVII в., как видно из чина погребения царицы Наталии, матери Петра В. Она померла в 1694 г. янв. 25. См.: «Сын отеч.», 1843 г., за апрель месяц, № 4.
[Закрыть], где, по совершении за упокой, хоронили тут же около церкви, обыкновенно поутру. Богатых и знаменитых мужей погребали в церкви. Над умершим ставили деревянный крест и потом поминали кутьею; в нее ставили восковые зажженные свечи: две за упокой умерших, а три за сохранение здоровья живых. После раздавали милостыню нищим, бедным и изувеченным.
Кутью приготовляли из трех частей вареной пшеницы, четвертой – гороху, чечевицы и бобов; она подслащивалась медом и плодами. За панихиду по усопшему платили гривну серебра [45]45
«Вопрошение Кирика у епископа новгородского Нифонта»; см. и в переводе бар. Герберштейна «Rer. Moscovit. com.», с. 37. Кирик или Кирилл возведен из киевских монахов в 1274 г. на епископский престол во Владимире на Клязьме.
[Закрыть].
С мертвым клали домашние вещи и съестные припасы. Сербы и славяне, живущие в Лузации, клали в гроб оружие и разные вещи. Лузацкие венды клали на гроб топор. Более или менее, но продолжалось такое обыкновение до наших времен.
В XII в. встречаем уже обыкновение, что за покойниками вели княжеских лошадей и несли знамена над гробом. По привезении тела дорогобужского князя Владимира (в 1170 г.) в Вышгород игумен лавры Поликарп требовал у князя Давида, чтобы он дал ему воинов вести коней княжеских за гробом и держать над ним знамена. «Мертвым нет нужды ни в чести, ни в знаменах, – отвечал князь, – даю тебе только игуменов и священников» [46]46
Кар. «И. Г. Р.», т. 3, с. 8–9.
[Закрыть].
Некоторые иностранные писатели XVI в. свидетельствуют единогласно, что голову покойника обвивали полотном и хоронили на третий день без всякой пышности; в комнате курили ладаном, читали псалтырь; лобызали умершего в уста при восклицании: «Для чего оставляешь нас, о любезнейший! Разве не было тебе чего пить и есть? Ты покидаешь несчастную супругу! Признайся, что заставило тебя бросить прекрасную жену и милых детей?»… и тому подобные делали воззвания. Надевали на него новое платье и сапоги. Гробы делали сосновые как для бедных, так и богатых, которые, смотря по состоянию, оббивали материею внутри и снаружи. Писатели XVII в. говорят, что мертвых предавали земле до истечения суток; на покойника надевали новую рубаху, чулки, башмаки, похожие на туфли, и шапку; потом клали его во гроб. Знакомые, родные и семейство оплакивали беспритворно. Богатых оплакивали и в доме и на могиле особо нанимаемые ими женщины, одетые в белые одежды, с закрытыми покрывалами на голове. Эти женщины назывались плакальщицами; они вопили нараспев: «Тебе ли было оставлять белый свет? Разве не жаловал тебя царь? Не имел ты богатства и чести, супруги милой и добрых детей?» Ежели умирала жена, то говорили: «Разве ты не имела доброго мужа?» и т. п. Покойного носили на кладбище в присутствии родных и друзей; впереди несли образа, за ними шло духовенство, которое курило ладаном и пело. После погребения плакали на могиле жалобным голосом. Во гроб ставили в голове покойника кружку меду или пива и хлеб [47]47
У мордвы, живущей в Пензенской и Саратовской губ., приносят до сих пор умершему разные гостинцы: «Вот на тебе, Семен, – говорит принесший покойнику, – пирог, яйца, говядину, масло и деньги. Это принесла тебе Марфа. Смотри, Семен, береги у нее скотину и хлеб. Когда я буду жать, тогда корми цыплят и гляди за домом». При выносе покойника бьют топором в то самое место, где стоял гроб, чтобы убить смерть и чтобы она не похищала более из дома.
[Закрыть]. В продолжение сорока дней совершались поминовения. В конце шестой недели приходила на могилу вдова и несколько друзей; она приносила напитки и кушанье, и после слез со стоном ели, а остатки раздавали нищим. Так поступал простой народ и все недостаточные, но богатые и знатные особы поминали дома. Сверх этого поминовения производились еще ежегодные поминки.
По прошествии шести недель или сорочин оканчивался траур, и вдова могла снова выйти замуж [48]48
Herberst. «Rer. Moscov. com.»; Paul. lovii «De legal. Basilii, Magn. princ. Moscoviae ad Clementum VII pontificem»; Meletii «De relig. et sacrificiis veter. Borussorum; de Russor. relig ritib., nuptiar et funerum», пом. в собр. «De Russorum, Moscovitarum et Tartarorum religione etc.», ed. 1582, 2 in 4°; Margeret «Estat de 1'emp. de Russie et grand duche de Moscovie», ed. Par., 1607 г., Gebhardi «Fortseis, der Algem. Weltg. der neuen Zeit», ч. 34, с. 299, ed. 1793 г.; «Certaine letters in verse, written by M. G. Turbevil aut of Moscovia to friends
of his in London», пом. в собр. Гакл., ed. London, 1809 г., in 4° с. 433; Petrejum «Histor. und Besehr. von dem Groвfurstenthum. Muschkow», c. 676–680, ed. Leipz. 1620 г.; Le Brun «Voyage par la Moscovie en Perse et aux Indes orientales», т. I, c. 57–59; Olearii «Osst. begehr. Besehr. der heuen orient. Reise», c. 195–199, ed. 1646 г.; Strays «Voyages en Moscovie, en Tartarie en Perse и проч.», с. 136–138, ed. 1683 г., Wickhart «Moskowitische Reise Besehr. in den «Jahr 1675», гл. 11, с. 241; Guagninus «Mortuorum ceremonia», пом. в соб. «De Russor., Moskov., Tartar. ritus.», ed. Spir. 1584 г.; «The history of the life of Peter the Great», c. 130, compos. by Motlley.
[Закрыть].
Некоторые пишут еще, что мертвых хоронили зимою, особенно в Москве, а вывозили отпетые тела за город в Божий дом (убогий) и там оставляли до весны, чтобы удобнее было копать могилу [49]49
Merger. «Estat de 1'emp. de Russie», ed. Par., 1607 г.; Флетчер «Of the Russe common wealth; Certaine letters in verse, writ. by. M. G. Turbevil aut of Moscovie to his friends in London», пом. в собр. Гакл., с. 433, ed. 1809 г.
[Закрыть].
Кто был отчаянно болен и соборован маслом и потом выздоравливал, тот носил уже до смерти черную одежду.
Употребление деревянных гробов доселе повсеместное. Внутри и вне оббивают их материями штофными, серебряными и золотыми, и из такой же материи кладут под головы подушки с шелковыми, золотыми и серебряными кистьями; внизу гроба также привешивают кисти, смотря по состоянию; поверх гроба вырезают или нашивают золотые и серебряные кресты, усыпанные блестками. Цвет наружных украшений показывает возраст, поле и звание умершего. Розовый и белый принадлежность младенцев, детей, девиц и молодых дам; голубой, синий, зеленый и малиновый для прочего звания. Вынос тела совершается перед полуднем.
Гроб, украшенный балдахином, ставят на колесницу, которую везут несколько пар лошадей в черных печальных покрывалах; по сторонам несут зажженные факелы, кои не гасятся до самой могилы. Покойника сопровождают родственники и знакомые в черных одеждах. Женский пол нашивает на свои одежды белые полосы, называемые плерези; мужчины покрывают платье, шляпы и шпаги черным крепом. У знатных и государственных людей балдахин и печальная колесница блестят золотом и серебром; впереди гроба несут на подушках их ордена длинным рядом; тут идут священнослужители и певчие, которые во все шествие поют «Снятый Боже», или играет музыка в сопровождении глухих барабанных ударов, если покойник военный. Войско, с опущенными вниз ружьями и заряженными пушками увеличивает пышность похорон. Лакеи идут в черных одеждах с разноцветными приколотыми к их плечам лентами; гражданские и военные чиновники окружают печальную колесницу, а в траурной одежде стоят на ступенях колесницы ассистенты и поддерживают балдахин. Когда кто-либо из членов императорской фамилии сопровождает государственных сановников, тогда присутствуют министры, дипломатический корпус и другие высокие чины. Карета покойника, следующая за гробом, обивается черным сукном, с гербовыми на ней изображениями по белому полю. Семейство, родственники и знакомые идут за гробом; за ними толпа любопытных, а за ними тянутся сотни карет, колясок и других экипажей.
Когда провозгласится на могиле окончательно: вечная память, тогда опускают гроб в могилу. Священник первый берет землю лопаткою или рукою и бросает на гроб; за ним предстоящие. Если погребают из военных, то войско производит погребальную пальбу из орудий. Затем приглашают к обеденному столу, который называется поминками; за столом подают, между прочими кушаньями, кутью, блины и кисель с молоком.
Бедный и обыкновенный человек погребается самым простым образом. Тело кладут в деревянный окрашенный <или> даже неокрашенный гроб; после отпевания относят знакомые на своих плечах на кладбище и опускают в могилу. Сердечный их вздох по умершему заменяет пышный погребальный обряд.
МАЛОРОССИЙСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ
В Малороссии, во время ее казачества и даже в недавнее время, не более тому лет 25, похороны сопровождались всеми жителями. Умирал ли кто, звонили по душе в колокол протяжно и заунывно; знакомые и незнакомые спешили спрашивать у звонаря: по ком он звонит? У каждого вырывалось сердечное излияние: «Упокой, Господи, душу усопшего! Дай, Боже, ему царствие небесное! Вечная память!» Каждый принимал участие в потере другого как в своей; всех трогало и на всех находило уныние, грусть и печаль. Заупокойный гул колокола нарушал спокойствие всего око лотка.
Омыв покойника или покойницу, одевали ее в чистое платье; потом клали на стол посреди комнаты и закрывали белым полотном; на ноги надевали башмаки. В руки, сложенные накрест, давали восковой крест и восковую свечу. Умершую женщину и девушку наряжали в праздничное платье; ноги обували в красные башмаки. Голову девушки украшали венком, сплетенным из цветов: васильков, незабудок, звездочек, гвоздик и других душистых цветов и трав. По изготовлении гроба клали в него усопшего. Священник читал молитву по умершему; дьячок день и ночь читал псалтырь; восковые свечи теплились около гроба; вокруг него курили ладаном, и толпа жителей приходила прощаться с покойным. Родные и знакомые рыдали безумолчно; сами посетители голосили. Дом превращался в плач. Перед вы носом тела отправляли панихиду; во время выноса звонили во все колокола. Гроб поднимали родные, знакомые и незнакомые и несли на своих плечах до могилы. Перед гробом несли образ; церковные хоругви развевались впереди; на дороге останавливались читать Евангелие по нескольку раз; народ провожал усопшего с рыданием: все плакало и рыдало. Отчаянный голос родных заглушал чтение Евангелия, особенно при опускании тела в могилу. На могиле ставили деревянный крест; иные делали могильную насыпь, укрывали ее цветами и травами. Ставили еще калиновое дерево, если казак умирал на чужой стороне [50]50
Насыпали чумаченьку высоку могилу, Посадили на могилы червонну калину.
Прилитила зозуленька, та и сказала: куку!
Подай, сыну, подай, орле, хоть правую руку.
ИЛИ:
Та вырыйте над чумаком Микитою, та высоку могилу,
Та посадите над чумаком Микитою, та червонну калину.
Максим. «Украин. народ, песн.», с. 180 и 176, изд. Москва, 1834 г. – Калина означает непорочность, а здесь она представляет сироту.
[Закрыть].
Над молодым казаком ставили, кроме креста, шест с белым знаменем. Кладбище белело от знамен, которые свидетельствовали безвременную кончину молодого казака. При могиле и в доме раздавали милостыню бедным и нищим; кормили их поминальным столом и рассылали по домам бедных хлеб, кушанье и деньги. Для духовенства и знакомых давался особый поминальный стол, при коем кутья и кисель, занимали главное место. Кроме сорочин делали поминовения через три дня и через неделю. Па мятников никаких не сооружали.
Погребение помолвленной невесты сопровождалось весьма трогательно. Ее одевали в нарядное платье, как под венец; голову убирали цветами и потом клали на стол, подле окна; вокруг нее зажигали свечи; в головах читали псалтырь; народ по первому звону сходился толпой проститься с нею; подруги ее стояли вокруг и плакали. Отец и мать бились над ее телом и страшно рыдали. Они целовали ее руки, целовали ее в щеки, губы; целовали шею и голову и кричали с исступлением. Мать расставалась с жалобным причитанием: «Прощай, моя радость! Моя утеха! Зашло мое солнечко красное! Дочь моя! Ты завяла, как цветочек; засохла, как травка! Ты покинула меня сиротой, Бог с тобою! За что ж покинула? Скажи, душечка моя, золото мое, сокровище мое, бесценная, ненаглядная! Скажи, мой ангельчик, мое серденько, моя жизнь, моя отрада! Промолви хоть словечко, улыбнись хоть ненароком; протяни свою беленькую ручку, раскрой свои черные очи, посмотри! Пышная и гордая, величавая и румяная, покидаешь меня! Оставляешь, горемычную, без радости, покидаешь навсегда! Я тебя лелеяла, смотрела за тобою – кто же меня, старую, присмотрит теперь? Ты уже на том свете, между ангелами, а я здесь! Кто пожалеет обо мне? Все родные – все, не ты! Я тебя убрала под венец; сложила твои ручки для молодого; сама закрыла ротик, целовавший меня; сомкнула твои черные глаза, радовавшие меня. Кто же закроет мои? Родные – не родная моя дононька (дочь)! Бог тебя взял, да будет Его святая воля! Молись у Него за меня, грешную. Дононько моя! Лежишь, будто живая: ты улыбаешься, протягиваешь ко мне рученьки – обними же меня! Доненько, милая, голубка сизокрылая, пташечка звонкая, распевная! Что ж не усмехнешься? Что ж не порадуешь? Сжалься! Взгляни хоть на минутку, пробудись! Почему же не говоришь? Ты же меня тешила ласковыми словечками, встречала приветственной улыбкою – а теперь? Молчишь, сложивши ручки накрест; но с ним идешь навстречь Спасителю – и твои уста уже славословят Его. Ты уже не здесь, а там, там ликуешь со святыми! Унесла с собою все наши радости, а нам оставила одно горе и слезы. Кто оботрет наши слезы? Кто приголубит нас на старости? Отец и мать покинуты тобою; отец и мать проливают горячие потоки слез. Они перестанут плакать, когда очи их высушатся и сомкнутся навек! Тебе бы следовало схоронить меня! О, лучше бы я не видела Божьего света! Кто утешит меня? Кто поболезнует со мною? Чье сердце забьется так обо мне, как билось твое? Но твое сердце – уже камень! Ты уже во гробе: мой стон, мой вопль и мои рыдания не трогают тебя. Я слышу пение вечной памяти! О, доненько, доненько моя! Недолго я любовалась тобою. Не думала, не гадала закрыть твои оченьки ясненькие, твои уста розовые, и закрыть ризою гробовой! О горе мне, бедной! Я сама сомкнула твои глазики до Страшного суда. Заступница, Божия Матерь! Прими меня скорей, успокой меня с моею дененькой. Укрепи, Господи, и помилуй меня». В продолжение трех дней отец и мать рыдали по своей дочери; народ беспрестанно навещал усопшую, горевал и хвалил ее доброе сердце и красоту. Отец часто говорил в отчаянии своей жене: «Что же, моя старая? Собирались играть свадьбу – вот веселье наше!» Он заливался слезами и стоял неподвижным от печали. Но вспомнив, что он ропщет на Провидение, говорил ей: «Полно плакать. Бог ее взял, она уже в царствии небесном. Ее Бог наградил. Живой думает о живом, так и мы с тобою. Молись лучше!» В погребальный день звонили в большой колокол протяжно, с заунывным ударом. Этот звон собирал людей и назывался сборным. Окружные обыватели сами сходились на похороны. С умолком сборного колокола выносили из церкви деревянный крест с изображением Распятия Иисуса Христа, хоругви и носилки; за ними шли священники и весь причет духовный в черных ризах. По прибытии духовенства начинали служить по умершей. Потом, собрав дружек, поддружек, старость, бояр, свах и свитилку – такое число, какое следовало для веселья, одаривали их свадебными подарками. Мать, подозвав молодых девушек, ее подруг, говорила им, обливаясь слезами: «Я не дожила до свадьбы своей доненьки! Господь Бог определил мне созывать вас, чтоб вы проводили ее к темной могилке. Не довелось мне слушать ваших веселых песен; пришлось мне видеть ваши слезы. Не прогневайтесь на меня, что я не угощаю вас караваем, не наделяю белыми платочками; но даю вам в руки восковые свечи. Зажгите их и проводите мою голубку, доненьку». Потом мать, взяв большой рушник (полотенце), который вышивала покойная, чтобы подостлать себе под ноги во время ее венчания, перевязывала им деревянный крест; после перевязывали дружку и поддружку длинными рушниками, вышитыми узором, и потом еще накрест белым полотном, по несколько аршин. За ними перевязывали свах и прикалывали к головному их убору по цветочку. Старосту обвязывали одним рушником, а свитилку (старшую сваху) двумя и давали ей в руки восковую свечу и меч, как водилось на свадьбе, обвив его душистыми цветами. К шапкам бояр прикалывали цветочки и перевязывали правые руки белыми платками, вышитыми узором. Платок, которым следовало вязать руки молодым под венцом, клали на серебряный крест. Священников и весь духовный причет дарили белыми платками. Гробовую крышу покрывали большим килимом (ковром); носилки застилали богатым коцем (покрывалом) с разводами и вышитым орлом. Килим и коц отдавались в церковь после похорон. Девушкам раздавали все приданое покойной; плахты (узорчатые платья), передники, рубашки, платки и полотенца; женщинам – белые серпянки, чепцы, головные платки, подушки, одеяла и разные хозяйственные вещи. По раздаче вещей кропили гроб святой водою с произнесением: вечная память. Свадебные бояре клали невесту во гроб, подруги поправляли на ней головной убор и украшали снова венками; погребальное шествие начиналось несением впереди креста, потом святых хоругвей; за ними несли четыре мальчика, с перевязанными белыми платками на руках, надгробную крышку, обитую черным сукном; потом шли четыре боярыни; за ними священники и дьяконы, держа зажженные свечи, и во время шествия кадили и пели протяжным голосом; потом шли попарно все ее подруги с зелеными зажженными свечами; головы подруг были обвиты черными лентами; за ними шли свитилка с мечом, сваха, дружки, поддружки и, наконец, несли гроб на носилках одни свадебные бояре. Если присутствовал жених покойной невесты, то он шел с правой стороны ее гроба. Жениха вели под руки два свата, потому что истинная горесть до того расстраивала его, что он едва передвигал ноги: был бледный как смерть и не рыдал, но только стенал. Тут уже шествие заключалось толпою народа всех сословий. Во время шествия звонили по церквам, а на дороге останавливались читать Евангелие по несколько раз, и всякий раз подстилали священнику бумажный платок под ноги, который отдавался ему. Покойную несли сначала в церковь, где служили обедню и панихиду; потом, тем же самым порядком, несли умершую на кладбище при беспрерывном колокольном звоне. Гроб опускали в могилу на хорошем белом полотне, приготовленном для приданого. При опускании гроба раздавался повсюду стон и вопль; все плакали, как по своей родной. От ребенка до старика все заливались слезами. Старший священник бросал на гроб горсть земли; за ним отец и мать, там свадебный причет и, наконец, все, кто как попал. На гроб насыпали немедленно землю и ставили в головах большой деревянный крест, покрытый зеленой краскою. Бедным и нищим раз давали на могиле хлеб, разное кушанье и деньги, чтобы молились о спасении души. Потом все отправлялись поминать умершую. Столы с кушаньями и напитками были расставлены по всему двору, а в комнате угощали одних старших. Поминовением заключались похороны.








