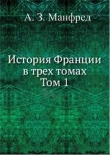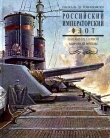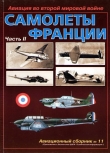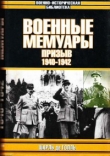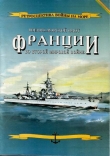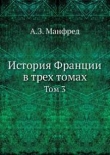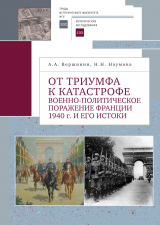
Текст книги "От триумфа к катастрофе. Военно-политическое поражение Франции 1940 г. и его истоки"
Автор книги: Александр Вершинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
По замыслу Клемансо, США и Великобритания должны были стать гарантами этой новой французской стратегической границы. Однако Вильсон и премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж отказались поддержать его предложения. С их точки зрения, безопасность, обеспечиваемая экспансией либеральных ценностей, свободного рынка при минимальном наборе институциональных опор в виде арбитражных гарантий Лиги Наций не предполагала участие в схемах, базировавшихся на понятии национального интереса и факторе силы. Свою роль играла и необходимость поддержания международного баланса на континенте. По словам В. Н. Горохова, «политика англосаксонских держав, направленная на сохранение достаточно сильной Германии, была обусловлена желанием обеспечить традиционное равновесие сил как гарантию европейской стабильности. При этом Веймарской республике отводилась роль противовеса как Франции, так и Советской России»[39]39
Горохов В. Н. История международных отношений. 1918–1939: Курс лекций. М., 2004, с. 53.
[Закрыть]. «Французы, в свою очередь, очевидно, не могли принять эту минималистскую концепцию безопасности… и верили в необходимость гораздо более действенных, конкретных “территориальных”, геополитических обязательств»[40]40
Soutou G.-H. La grande illusion, p. 308.
[Закрыть], – отмечает Ж.-А. Суту. Результатом этого противоречия стал итоговый компромисс, оформленный в Версальском договоре, который лег в основу французской стратегии и военного планирования на годы вперед.
Франция не смогла добиться полной реализации обеих задач, поставленных ее руководством в ходе мирной конференции. Лига Наций, учрежденная с учетом англо-американских пожеланий, оказалась рыхлым органом с ограниченной компетенцией и слабыми полномочиями. Она была весьма далека от образа «мирового жандарма», контролирующего выполнение договоров, который представлял себе Клемансо. Военные ограничения, наложенные на Германию, выглядели сурово, но сами по себе они, с точки зрения французов, не являлись надежной гарантией против германского реванша[41]41
Tardieu A. La Paix. Paris, 1921, p. 177–178.
[Закрыть]. Ключевое французское требование обособления левого берега Рейна и установления над ним военного контроля Парижа было принято лишь частично. Рейнская область оккупировалась временно и должна была быть освобождена в три этапа к 1935 г., после чего сохранялся ее демилитаризованный статус. Саар переходил под управление Лиги Наций и в 1935 г. должен был высказаться на плебисците по вопросу о своей государственной принадлежности. Проект политического и экономического поглощения Рейнланда, Саара и Люксембурга остался нереализованным. Наконец, гарантии безопасности Франции от неспровоцированного нападения со стороны Германии, полученные от США и Великобритании в обмен на уступки по рейнскому вопросу, в конечном итоге отказались фикцией, будучи дезавуированы и Вашингтоном, и Лондоном.
Половинчатый характер Версальского договора для обеспечения французской безопасности отмечали уже современники. Как выразился историк Ж. Бенвиль, он был «слишком жесток при всей своей мягкости и слишком мягок при всей своей жесткости»[42]42
Bainville J. Les conséquences politiques de la paix. Paris, 1942, p. 38.
[Закрыть]. В то же время с точки зрения военного планирования он создавал серьезный задел. В ходе тяжелых обсуждений Клемансо смог внести в текст договора важную оговорку, которая давала Парижу возможность укрепить и продлить свой контроль над Рейнской областью: в случае угрозы безопасности территории Франции или перебоя в поступлении репарационных платежей французы могли возобновить или продлить оккупацию Рейнской области. Глава французского правительства добился изъятия из проекта договора пункта о 30-летнем сроке взимания репараций, а также настоял на том, что любое финансовое послабление Берлину должно получить единогласную поддержку держав-победительниц, что давало Франции право вето в репарационном вопросе. Таким образом, чем хуже платила бы Германия, тем дольше Франция оставалась бы на берегах Рейна.

Фердинанд Фош.
Источник: Dutch National Archives
Фош был наиболее активным критиком договоренностей, заключенных в Версале. По словам его биографа, «он всегда действовал энергично, будь то на поле боя или за столом переговоров»[43]43
Greenhalgh E. Foch in Command. The Forging of a First World War General. New York, 2011, p. 516.
[Закрыть]. Именно такой человек понадобился политическому руководству Антанты в один из наиболее сложных моментов войны – в марте 1918 г., когда германские армии угрожали прорвать фронт союзников севернее Парижа. Состоявшееся тогда назначение Фоша главнокомандующим союзными войсками способствовало преодолению кризиса [44]44
См. подробнее: Магадеев И. Э. Фердинанд Фош: портрет на фоне эпохи // Преподавание истории и обществознания в школе, 2014, № 7, с. 3–13.
[Закрыть], и хотя решения маршала (это звание он получил в августе 1918 г.) часто подвергали критике, даже его недруги признавали: «Вы можете не соглашаться с ним, но вы не можете не восхищаться им. Воля, упорство – у него есть все качества лидера»[45]45
Цит. по: Notin J.-C. Foch. Paris, 2008, p. 56.
[Закрыть]. После войны он занял пост главы межсоюзнического Военного комитета в Версале и всю свою энергию приложил к тому, чтобы навсегда ликвидировать угрозу безопасности Франции со стороны Германии.
Взгляды Фоша на международные отношения основывались на нескольких основных постулатах. Во-первых, маршал мало верил в жизнеспособность дипломатии per se как инструмента обеспечения национальной безопасности. Франция, прежде всего, должна опираться на собственное могущество и на баланс сил. В том случае, если ее мощь уступает ресурсам потенциального противника, она может вступать в союзные отношения с государствами, имеющими схожие интересы. При этом подразумевались классические военно-политические альянсы в духе XVIII–XIX вв. Идеи нового мирового порядка и новой дипломатии, провозглашенные Вильсоном, Фош считал надуманными. При этом он полагал, и это являлось второй основой его мировоззрения, что вооруженная сила и стратегическое превосходство играют роль важнейшего инструмента в арсенале великой державы, действующей на международной арене: она не должна находиться в критической зависимости от какой-либо страны, даже союзной. В-третьих, маршал больше, чем кто-либо из политиков, не доверял немцам. Он считал, что сама природа германского государства представляла собой угрозу. Прусский милитаризм он рассматривал как основу германского мировоззрения, без ослабления и искоренения которой долговременное мирное сосуществование с Веймарской республикой невозможно[46]46
Jackson P. Foch et la politique de sécurité française, 1919–1924 // F. Cochet, R. Porte (dir.). Ferdinand Foch (1851–1929): apprenez à penser. Paris, 2010, p. 334–338.
[Закрыть].
Эти идеи, в той или иной степени, разделяла большая часть командования вооруженных сил. Генералы, безусловно, предпочитали бы увидеть более жесткие условия, навязанные Германии. Вместе с тем передача Франции контроля над Рейнской областью с перспективой его расширения и продления являлась большим преимуществом и позволяла строить планы на будущее. Сам Фош не мог не отдавать себе в этом отчета. Его упорная борьба против мира, подписанного в Версале, объяснялась, вероятно, не только принципиальным несогласием с самими условиями договора. Парижские переговоры Клемансо вел в своем традиционном стиле – авторитарно, советуясь лишь с самым узким кругом ближайших советников. Маршал был фактически отстранен от участия в них, что не могло не вызвать его неудовольствия и создавало для него дополнительные стимулы подвергать жесткой критике достигнутые договоренности. Так или иначе, после 1919 г. он в своей деятельности на высших командных постах никогда не ставил под сомнение статьи Версальского мирного договора, отталкиваясь от них как от отправной точки.
Идея «рейнского щита» давала ответ на основной вопрос французского военного планирования после 1918 г. Первая мировая война продемонстрировала, как в условиях индустриального общества выглядит тотальный вооруженный конфликт между великими державами. Победа в нем, как показал опыт самой Франции, требует концентрации всей экономической мощи страны и мобилизации всех доступных человеческих ресурсов. Великобритания могла разворачивать свою военную экономику под прикрытием «рва с морской водой» и военно-морского флота. Соединенные Штаты имели уникальное преимущество, располагаясь на другом континенте, на большом отдалении от гипотетических театров военных действий (ТВД). Франция же непосредственно соседствовала с территорией своего основного вероятного противника. Более того, вблизи границы находилась большая часть французского экономического потенциала.
На территории между бассейном Сены и восточными рубежами страны располагалось три четверти ее угледобычи и текстильного производства, 90 % мощностей сталелитейной промышленности и добычи железной руды, 70 % нефтепереработки и производства сульфата аммония[47]47
Young R. J. In Command of France. French Foreign Policy and Military Planning, 1933–1940. Cambridge MA, 1978, p. 18.
[Закрыть]. В случае вторжения немцев на территорию Франции, этот район со всей его промышленностью становился полем сражения. Лишившись бесценных ресурсов, страна теряла шансы победить в войне на истощение. «Если бы северо-восточная Франция оказалась разрушена или оккупирована, то игра была бы проиграна»[48]48
Ibid., p. 20.
[Закрыть], – отмечает канадский историк Р. Янг. По опыту 1914–1918 гг. командование французской армии ожидало, что будущая война против Германии также приобретет затяжной окопный характер. Но при этом главной угрозой для страны на начальном этапе боевых действий считалось «внезапное нападение» (attaque brusquée). Немцы могли повторить опыт 1914 г. и попытаться сокрушить французов одним мощным наступлением, чтобы избежать гибельной для себя войны на истощение. Именно этот удар, даже не достигнув основных политических центров страны, мог лишить Францию ядра ее военной экономики[49]49
Young R. J. “L’Attaque Brusquée” and Its Use as Myth in Interwar France // Historical Reflections/Réflexions Historiques, 1981, vol. 8, no. 1, p. 97–98.
[Закрыть].
Здесь рождался ключевой для французского военного планирования межвоенных лет императив «неприкосновенности территории». Генерал Э. Бюа, начальник Генерального штаба французской армии в 1920–1923 гг., писал в дневнике 15 апреля 1919 г.: «Если мы не хотим снова воевать на своей территории, нам необходим не только щит на левом берегу Рейна, но и абсолютно надежные договоренности с Бельгией, с одной стороны, и со Швейцарией, с другой стороны… Чем дальше на территорию противника мы сможем перенести театр военных действий, тем меньше нам придется укреплять нашу собственную границу» [50]50
F. Guelton (dir.). Journal du Général Edmond Buat, 1914–1923. Paris, 2015, p. 747748.
[Закрыть]. Оборона по линии Рейна решала и другую важную задачу – позволяла экономить живую силу, которой Франция после потерь 1914–1918 гг. особенно дорожила. «Авангард» на Рейне мог действовать и наступательно в том случае, если бы возникла необходимость силой заставить Германию выполнять условия мирного договора.
Его наличие наполняло конкретным военным смыслом «тыловые союзы», которые Париж начал заключать с восточными соседями Германии после 1919 г. Предполагалось, что они возьмут на себя ту же роль, которую до 1918 г. играл альянс с Российской империей, а кроме того обеспечат политическую основу французского доминирования в Восточной Европе. Отсюда вытекала необходимость установления тесных отношений с Польшей и оказания ей помощи в войне против Советской России, а также выстраивание тесных отношений с другими государствами региона, в первую очередь с Чехословакией, Румынией и Королевством сербов, хорватов и словенцев, в 1920 г. создавших военно-политический союз, т. н. Малую Антанту[51]51
WandyczP. S. France and her Eastern Allies, 1919–1925: French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis, 1962, p. 135–147.
[Закрыть]. 19 февраля 1921 г. в Париже был подписан франко-польский союзный договор, предполагавший координацию действий двух стран на международной арене, а также, согласно отдельно заключенной военной конвенции, взаимную помощь в случае конфликта с Германией или Советской Россией[52]52
Матвеев Г. Ф. Пилсудский. М., 2008, с. 297–298.
[Закрыть]. Франко-чехословацкий договор о дружбе и союзе, заключенный в 1924 г., не был дополнен военной конвенцией, однако чехословацкая армия, с 1919 г. находившаяся под командованием французских генералов[53]53
WandyczP. S. France and her Eastern Allies, 1919–1925, p. 71–72.
[Закрыть], рассматривалась как потенциально союзная. В случае конфликта с Германией выдвижение с Рейнского плацдарма давало французским войскам возможность взаимодействовать с польскими и чехословацкими силами.
Принцип «неприкосновенности территории», таким образом, отнюдь не диктовал чисто оборонительный характер военного планирования. Напротив, как отмечают французские историки Ж. Дуаз и М. Вайс, «стратегический выбор непосредственно после войны был в пользу молниеносной атаки против Германии в самом начале боевых действий, чтобы избежать затяжной войны, которая могла приобрести ход, благоприятный для Германии, благодаря превосходству ее военного потенциала»[54]54
Doise J., VaïsseM. Diplomatie et outil militaire. 1871–2015. Paris, 2015, p. 339.
[Закрыть]. А. Мажино, военный министр в 1922–1924, 1929 и 1931–1932 гг., будучи безусловным сторонником идеи «неприкосновенности территории», считал, что «армия должна быть способна с самого начала боевых действий идти вперед, занимать отдельные стратегические позиции, которые необходимы для концентрации германских сил, при необходимости брать в залог ресурсы, которые, находясь в нашем распоряжении, делали весьма затруднительной, может быть, даже невозможной подготовку промышленности противника к войне»[55]55
Sorlot M. Les entourages militaires d’André Maginot dans les années 1920 // O. Forcade, E. Duhamel, P. Vial (dir.). Militaires en république, 1870–1962: les officiers, le pouvoir et la vie politique en France. Paris, 1999, p. 145–146.
[Закрыть].
Аналогичные мысли развивались во французской военной периодике начала 1920-х гг. Генерал В. д’Юрбаль писал о вероятности новой войны, в которой против Франции выступит Германия, объединившаяся с Австрией и опиравшаяся на поддержку России. В подобной ситуации французская армия должна развернуть решительное наступление в направлении Берлина и Мюнхена. Генерал утверждал, что оборонительная стратегия сыграет на руку немцам и поставит под сомнение шансы Франции на победу. Офицер под псевдонимом «Люциус» в серии статей доказывал преимущества атаки перед обороной. По его мнению, несмотря на все уроки Первой мировой войны, непреложной оставалась та истина, что лишь активное наступление позволяет верховному командованию навязать противнику свою волю и в конечном итоге добиться успеха.[56]56
Guelton F. Penser la guerre après 1919 // J.-P. Bled., J.-P. Deschodt (dir.). Les conséquences de la Grande Guerre, 1919–1923. Paris, 2020, p. 126–128.
[Закрыть]
Рейнский плацдарм рассматривался в Париже как основная точка приложения колоссальной военной мощи. В 1920 г. после проведения демобилизации французская армия насчитывала 872 000 человек[57]57
Corvisier A. Histoire militaire de la France: de 1871 à 1940. Paris, 1992, p. 354.
[Закрыть] и оставалась на тот момент самой большой кадровой армией мира, полностью доминируя над сокращенным до 100 000 человек и разоруженным германским Рейхсвером. По уровню технической оснащенности она также занимала первое место. В 1919 г. Франция имела около 13 000 артиллерийских орудий, 2600 танков, из которых 100 были тяжелыми, и лучшую в мире авиацию[58]58
Wieviorka O. Démobilisation, effondrement, renaissance, p. 327.
[Закрыть]. Ее авангардом была Рейнская армия, дислоцированная на территории Германии. Сразу после окончания войны она насчитывала 200 000 человек[59]59
Ibid., p. 326.
[Закрыть] и подлежала демобилизации лишь в последнюю очередь. Этим войскам предназначалась роль дамоклового меча, подвешенного над Германией на случай ее отказа от принятия условий мирного договора. В 1920 г. численность французского контингента на берегах Рейна составляла 95 000 человек[60]60
Gomis C. Les troupes coloniales françaises et l’occupation de la Rhénanie (19181930) // Cahiers Sens public, 2009, no. 10, p. 69.
[Закрыть] – шесть дивизий постоянной готовности, и еще столько же выделялись в резерв[61]61
Hughes J. M. To the Maginot Line. The Politics of French Military Preparation in the 1920s. Cambridge MA, 1971, p. 131.
[Закрыть]. По замыслу французского командования, эта сила представляла собой самостоятельное оперативное соединение, которое без значительных подкреплений, используя заранее занятые плацдармы на восточном берегу Рейна, могло проводить любые операции на территории Германии.
Уже первый послевоенный план стратегического развертывания (план «Т») ставил перед Рейнской армией наступательные задачи на территории Германии, прежде всего – в Рурской области. Пришедший ему на смену в 1921 г. план «П» предполагал, в случае обострения международной обстановки, выдвижение франко-бельгийских войск с рейнского плацдарма вглубь Рурского бассейна и долины Майны с целью срыва германской мобилизации и захвата важнейшего промышленного района страны. В случае дальнейшего развития конфликта, в действия вводились следующие этапы плана, которые прописывались лишь в самых общих чертах: мобилизация в две волны 84 французских дивизий с привлечением 20 бельгийских, вторжение на территорию центральной Германии в координации с польскими и чехословацкими войсками с целью рассечения страны на северную и южную части[62]62
Tournoux P.-E. Défense des Frontières. Haut Commandement-Gouvemement, 19191939. Paris, 1960, p. 333.
[Закрыть]. Эта же идея лежала в основе действовавшего в 1924–1926 гг. плана «А», в котором более детально прописывалась процедура мобилизации и выдвижения дополнительных воинских контингентов на линию Рейна. «Наступательная концепция, – гласил план «А», – [является – авт.] единственной дающей возможность компенсировать те неизбежные недостатки, которые вытекают из низкой численности нашего населения и слабости нашей промышленности»[63]63
Цит. по: Doise J., Vaïsse M. Diplomatie et outil militaire, p. 340.
[Закрыть].
На протяжении 1920-х гг. контроль над Рейнской областью являлся краеугольным камнем всего французского военного строительства. Генерал Бюа был уверен в том, что война не начнется, по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется французское и бельгийское присутствие на берегах Рейна[64]64
Documents diplomatiques belges. 1920–1940: La politique de sécurité extérieure. T. 1: Période 1920–1924. Bruxelles, 1964, p. 368–370.
[Закрыть]. Маршал Ф. Петэн, главнокомандующий сухопутными войсками, комментируя в 1928 г. стратегическое положение Франции на Рейне, отмечал с несвойственным ему оптимизмом: «Не будем мрачно смотреть в будущее и, после стольких жертв, скажем о нашей законной надежде на честный и долгий мир»[65]65
Цит. по: Vergez-Chaignon B. Pétain. Paris, 2018, p. 215.
[Закрыть]. Оккупация Рейнской области носила временный характер, однако прописанный в мирном договоре режим ее эвакуации (по зонам с севера на юг, заканчивая очищением района Майнца в 1935 г.) до конца оставлял перед французами открытым путь в сердце Германии. Кроме того, Франция, при наличии политической воли, сохраняла легальную возможность воспользоваться периодическими нарушениями Веймарской республикой взятых на себя обязательств и продлить пребывание своих войск на берегах Рейна.

Солдаты французских оккупационных войск на берегу Рейна у Кобленца, 1929 г.
Источник: Deutsches Bundesarchiv, Bild 102-08810 / CC-BY-SA 3.0
«Рейнский щит» позволил Франции почувствовать себя в безопасности. Благодаря ему, прилагая минимальные усилия, Париж мог принуждать Берлин к выполнению мирного договора и купировать возможную военную угрозу с его стороны. В первой половине 1920-х гг. французские войска трижды переходили Рейн, чтобы навязать немцам свою волю: в апреле 1920 г, в марте 1921 г. и в январе 1923 г. Во всех случаях военное вмешательство достигало своей цели. Рурская операция 1923–1924 гг., в конечном итоге завершившаяся для Франции бесславно, с чисто военной точки зрения являлась успехом. Именно тогда в военной среде стали раздаваться голоса тех, кто предлагал вернуться к предложениям Фоша 1919 г. и, воспользовавшись бедственным положением Германии, навсегда де-юре обособить от нее Рейнскую область[66]66
См. подробнее: Jeannesson S. Pourquoi la France a-t-elle occupé la Ruhr? // Vingtième Siècle, revue d’histoire, 1996, no. 51, p. 56–67.
[Закрыть]. Однако, эти призывы в итоге не нашли отклика у политиков.
В январе 1923 г. в кругу высших военных Петэн констатировал: «Каждый знает, что у Франции нет империалистических целей. С тех пор, как она вернула Эльзас и Лотарингию, ее национальные устремления удовлетворены. С экономической точки зрения Франция, при помощи своих колоний, может почти полностью снабжать себя сама. Она, таким образом, хочет лишь одного – жить в мире. Если ей снова придется взять в руки оружие, у нее не будет иной цели, кроме как обеспечить безопасность и добиться от противника возмещения причиненного ущерба. Таковы военные цели Франции. Их знают все французы, и правительство страны, в которой сформировалось подобное общественное мнение, не может иметь перед собой других»[67]67
Цит. по: Sarmant T. Les plans d’opération français en Europe centrale (1938–1939) // Revue historique des armées, 1999, no. 4, p. 14.
[Закрыть]. Маршал во многом выдавал желаемое за действительное. К моменту завершения мировой войны цели Франции были куда более амбициозными, чем просто зафиксировать статус-кво с поправкой на отторжение от Германии Эльзаса и Лотарингии. Однако Версальский договор не оставлял альтернатив – Парижу приходилось довольствоваться тем, что смог выторговать Клемансо. Обеспечение безопасности находилось во главе угла, но страна, помимо этого, хотела снять с себя политическое, экономическое и психологическое бремя поддержания огромной военной машины, оставшейся со времен мировой войны.
В 1922 г. в ответ на предложение военного министра Мажино увеличить финансирование вооруженных сил министр финансов Ш. Ластейри заявил: «Есть ли на самом деле абсолютная необходимость в столь значительных расходах на вооружения? Мы держим левый берег Рейна, мы держим переходы через реку. В настоящий момент мы защищены от угрозы. Нельзя ли предположить, что, пока мы находимся на Рейне, опасность не столь неотвратима, чтобы мы не могли, по хорошо известному выражению, “дать Франции немного вздохнуть”?»[68]68
Цит. по: Doise J., Caisse M. Diplomatie et outil militaire, p. 337.
[Закрыть]. Страна действительно несла значительную военную нагрузку. Непосредственно после мировой войны французские военные контингенты размещались на трех континентах. В Европе они сдерживали германскую угрозу на Рейне, в Силезии, Шлезвиге и Мемеле; помогали строительству польской и чехословацкой армий; осуществляли интервенцию в Советской России. В Азии – наводили порядок на Ближнем Востоке, следили за Константинополем, контролировали Индокитай. В Африке они охраняли огромную французскую колониальную империю. В армии и стране усиливалось недовольство затягивавшейся демобилизацией.
«Дать Франции немного вздохнуть», в первую очередь, означало сворачивание этих обременительных обязательств, пропорциональное сокращение численности действующей армии и уменьшение срока военной службы по призыву. С 1913 г. он составлял три года, и в преддверии войны позволил нарастить численность действующей армии: к 1914 г. на 10 000 жителей во Франции приходилось 56 призывника против 41 в Германии[69]69
Boniface IX. De la défaite militaire de 1870–1871 à la nation armée de 1914 // H. Drévillon, O. Wieviorka (dir.). Histoire militaire de la France, p. 60.
[Закрыть]. Однако уже на завершающем этапе войны было понятно, что пережившая огромное перенапряжение, понесшая большие потери страна будет ждать сокращения трехлетнего срока и выдаст соответствующие мандаты своим представителям в парламенте. «Что прежде терпелось перед лицом неотвратимой опасности, с тем плохо мирятся сейчас, после одержанной победы, не говоря уже о том, что в силу естественной реакции против недавнего еще злоупотребления оружием все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к сражениям, отталкивает от себя народные массы» [70]70
Голль Ш. де. Профессиональная армия. М., 1935, с. 33–34.
[Закрыть], – писал де Голль.
Военный советник Клемансо генерал Мордак вспоминал, как сразу после завершения боевых действий в 1918 г. председатель Совета министров говорил о том, что сокращение срока воинской службы с трех лет до года – лишь вопрос времени[71]71
Mordacq H. Le ministère Clemenceau: journal d’un témoin, p. 44–45.
[Закрыть]. «Сокращение срока активной службы, – писал генерал М.-Э. Дебене, начальник Генерального штаба армии в 1923–1930 гг., – является прямым следствием победы. После столь тяжелого и продолжительного испытания решающий успех заставляет облегчить ношу народа, который столь великодушно пошел на неслыханные жертвы ради правого дела»[72]72
Debeney M.-E. Sur la sécurité militaire de la France. Paris, 1930, p. 32.
[Закрыть]. С 1920 г. проекты военной реформы обсуждались одновременно в правительстве, парламенте и на заседаниях Высшего военного совета, главного органа управления сухопутными силами, в состав которого входили высшие офицеры.
Среди министров имелся почти полный консенсус. Разногласие возникло лишь в 1920 г., когда военный министр А. Лефевр выступил против сокращения срока службы по призыву до 18 месяцев и предложил уменьшить его лишь до двух лет. Однако он оказался в полном одиночестве. Председатель правительства А. Мильеран призывал «не напрягать нервы до предела и делать все для того, чтобы снять нагрузку, если не доказано, что ее необходимо сохранить»[73]73
Цит. по: Doise J., Caisse M. Diplomatie et outil militaire, p. 337.
[Закрыть]. В том же духе высказывался депутат генерал Э. де Кастельно: «Я не готов тридцать лет носить на своих плечах тяжелый груз, который поможет мне избежать опасности через пятьдесят лет. Я просто попрошу о передышке, если таковая вообще возможна» [74]74
Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés. 1920. 23 déc.
[Закрыть]. Депутат Ж. Фабри, один из главных спикеров нижней палаты по военным вопросам, заметил, что полуторагодовой срок военной службы позволит французской армии купировать любую угрозу, которая в тот момент могла исходить от Германии[75]75
Ibidem.
[Закрыть].
Высшие офицеры по долгу службы не могли с оптимизмом относиться к сокращению срока службы по призыву, но были вынуждены подчиняться воле политиков и учитывать настроения общественности. При этом они оговаривали, что количества солдат (профессионалов и набранных по призыву) должно хватать для укомплектования такого количества дивизий, которое было необходимо для «обеспечения дипломатических обязательств и внешней политики» Франции. У военных и политиков, таким образом, имелись разные точки отсчета: если первые ставили во главу угла конкретные внешнеполитические задачи, для реализации которых требовалась вооруженная сила, то вторые были готовы подверстать численность действующей армии под достижение политической цели сокращения срока военной службы. В 1920 г. Высший военный совет решил, что французская армия мирного времени должна составлять не менее 41 дивизии, однако правительство настояло на цифре в 32 дивизии[76]76
Doughty R.A. The Seeds of Disaster: The Development of French Army Doctrine, 1919–1939. Hamden, Conn., 1985, p. 19.
[Закрыть].
Генералы были готовы пойти на снижение срока службы по призыву до полутора лет, однако считали, что оно несет с собой риски и дальше сокращать его нельзя. Высший военный совет особо указывал на то, что «срок службы длительностью в 18 месяцев является той планкой, при понижении которой национальная безопасность окажется под угрозой»[77]77
Цит. по: Ibid., p. 21.
[Закрыть]. Кроме того, в Генштабе настаивали на увеличении числа профессиональных военнослужащих до 100 000 человек. «Профессионализация» вооруженных сил являлась одним из вариантов их развития после окончания войны. Генерал Бюа уже в конце декабря 1918 г. писал в своем дневнике, что служба в армии мирного времени «обязательно будет краткосрочной», а значение и количество профессиональных военных серьезно вырастет[78]78
F. Guelton (dir.). Journal du Général Edmond Buat, p. 713.
[Закрыть]. Подобная конфигурация могла вписаться во французскую стратегию: профессиональные мобильные контингенты брали бы на себя ответственность за поддержания порядка в колониях и находились «на острие удара» в Рейнской области.
Однако идея «профессионализации» вооруженных сил не только противоречила философии «вооруженной нации», унаследованной Третьей республикой от эпохи Революции конца XVIII в. и ставшей важной частью ее политической культуры. Она вступала в конфликт с опытом Первой мировой войны, которая велась «большими батальонами» – массовыми армиями. Кроме того, на реализацию подобного замысла у французского правительства не было денег: «низкая оплата, альтернативные экономические возможности и неясность в вопросе пенсионного обеспечения препятствовали набору нужного числа профессионалов»[79]79
Hughes J. M. To the Maginot Line, p. 123.
[Закрыть]. После 1918 г. во Франции наблюдалось падение престижа службы в вооруженных силах. Резко сократился набор в высшую военную школу в Сен-Сире, считавшуюся кузницей французской армейской элиты: «несмотря на послабления при поступлении, выпуски в Сен-Сире были малочисленными… В 1928 г. офицерский корпус насчитывал 25 % выпускников Сен-Сира против 40 % в 1913 г.»[80]80
Wieviorka O. Démobilisation, effondrement, renaissance, p. 331.
[Закрыть]. Ряды армии массово покидали квалифицированные офицеры-артиллеристы, находившие высокооплачиваемую работу в частных фирмах[81]81
Cochet F. Déconstruire/Reconstruire l’Armée française après la victoire. 1918–1928 // J.-P. Bled., J.-P. Deschodt (dir.). Les conséquences de la Grande Guerre, p. 140.
[Закрыть].
Военные не могли идти против политиков, которые опирались на поддержку общественного мнения. В декабре 1920 г. при обсуждении проекта военной реформы на Высшем военном совете под председательством президента Республики маршал Фош заявил, что при полуторагодовом сроке службы по призыву Франция столкнется с трудностями в части силового принуждения Германии к выполнению мирного договора, однако, в конечном итоге, поддержал предложение правительства[82]82
F. Guelton (dir.). Journal du Général Edmond Buat, p. 953.
[Закрыть]. По утверждению Петэна, невозможность полностью опереться на наемные кадры не являлась основанием для отказа от реформы[83]83
Hughes J. M. To the Maginot Line, p. 123.
[Закрыть]. Принятый в 1923 г. закон сокращал срок службы по призыву до полутора лет. При этом логика военной реформы предполагала и дальнейшее уменьшение срока службы до одного года, о чем в тексте документа имелась специальная оговорка. В то же время Франция не могла себе позволить столь резких сокращений. Уже летом 1924 г. на завершающем этапе Рурской операции для обеспечения оккупации германской территории привлекалось 75 % доступных пехотных полков французской армии[84]84
Vergez-Chaignon B. Pétain, p. 216.
[Закрыть]. Одновременно шли военные кампании в Северной Африке (Рифская война) и в Сирии (против восставших друзов), для ведения которых привлекались войска из Рейнской области. Лишь во второй половине 1920-х гг. дальнейшее обсуждение военной реформы перешло в практическую плоскость.
Результатом попыток принять во внимание общественный запрос на дальнейшее сокращение срока службы по призыву до одного года с одновременно сохранявшейся необходимостью вести колониальные войны и оккупировать часть германской территории, а также с учетом финансовых трудностей правительства был комплекс законов 1927–1928 гг. Их реализация привела к полной реорганизации вооруженных сил, вышедших из Первой мировой войны. Французская армия уменьшалась до пяти кавалерийских и 25 пехотных дивизий, из которых пять предназначались для действий в колониях и имели высокую степень автономии, формируя фактически отдельную армию. 20 дивизий, составлявших армию метрополии, соответствовали 20 военным регионам, в которых они располагались. С учетом профессиональных солдат (106 000) и солдат, призванных на год и отслуживших полгода, пройдя базовое обучение (120 000), для их комплектации имелось 226 000 человек с военной подготовкой. В случае военной угрозы этот контингент должен был обеспечить прикрытие границы и укомплектовать тыловые учебные центры и штабы, проведя мобилизацию двух дополнительных дивизий в каждом военном регионе[85]85
Doughty R. A. The Seeds of Disaster, p. 23.
[Закрыть].

Мари-Эжен Дебене.
Источник: Bibliothèque nationale de France
Начальник Генштаба сухопутных сил Дебене, являвшийся одним из разработчиков реформы 1927–1928 гг., писал: «Армия метрополии, французская территориальная армия, организованная в соответствии с законами 1927–1928 гг., полностью ориентирована на максимально возможную реализацию идеи вооруженной нации»[86]86
Debeney M.-E. Sur la sécurité militaire de la France, p. 28.
[Закрыть]. Действительно, реформированная армия мирного времени не являлась боеготовой вооруженной силой, а представляла собой лишь «костяк для проведения мобилизации и формирования армии военного времени»[87]87
Doughty R. A. The Seeds of Disaster, p. 23.
[Закрыть]. В каждом ее полку было лишь два батальона вместо трех, в каждой дивизии – два полка вместо четырех, положенных по штатам времен Первой мировой войны. Реформа предполагала уход от корпусной системы, что затрудняло отработку слаженности действий крупных соединений на маневрах. Профессиональные солдаты занимались не столько собственной боевой подготовкой, сколько обучением новобранцев. В результате обесценивалось их основное преимущество как потенциального фундамента новой армии.
После реформы 1927–1928 гг. призывник, отслужив год, а в реальности 10 месяцев с учетом организационных и логистических факторов, переходил в резерв, в котором оставался на протяжении 19 лет. Предполагалось, что для поддержания боевых навыков он будет регулярно проходить военные сборы в том полку, где отбывал срочную службу. Частота сборов соответствовала трем возрастным группам резерва. Расчет делался на то, что, таким образом, между солдатами сформируется та слаженность, позволяющая им эффективно действовать в бою, которая до 1923 г. возникала в казармах в ходе трехлетней службы. Вот как эта задача объяснялась в документах Генштаба: «Люди, которые будут вместе сражаться на войне, должны иметь предварительную возможность познакомиться друг с другом в мирное время. Они должны уже знать своих командиров, а командиры – их»[88]88
Цит. по: Kiesling E. C. ‘If It Ain’t Broke, Don’t Fix It’: French Military Doctrine Between the World Wars // War in History, April 1996, vol. 3, no. 2, p. 211.
[Закрыть]. На практике добиться этого не удавалось ввиду отсутствия централизованной системы организации боевой подготовки резервистов: к сборам привлекались запасники разных возрастов, которые могли сами выбирать время их прохождения; сохранялись многочисленные отсрочки и освобождения.