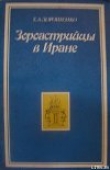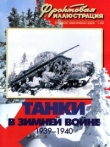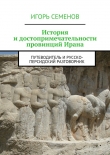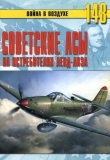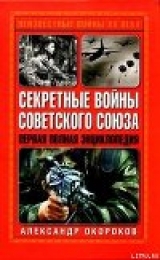
Текст книги "Секретные войны Советского Союза"
Автор книги: Александр Окороков
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 55 страниц)
Что же касается высадки десанта в Инчхоне, то эта операция для американцев была тоже не нова – район порта им был хорошо знаком. По информации полковника Г.К.Плотникова, войска США в рамках Потсдамской конференции уже высаживались в этом порту 8 сентября 1945 года.
Немало загадок до сих пор оставляют и внешнеполитические демарши Соединенных Штатов. Из известных на сегодняшний день документов и воспоминаний участников и очевидцев следует, что первым официальным лицом США, узнавшим о начале войны (25 июня в 9.30), стал посол США в Сеуле Джон Муччо. Его сообщение пришло в Вашингтон поздно вечеров 24 июня. Информацию принял госсекретарь Дик Ачесон. Президент Трумэн в это время находился на отдыхе в Индепенденсе (штат Миссури) и смог вернуться в Овальный кабинет лишь к полудню 25 июня. Первой реакцией Трумэна, экстренно прилетевшего в Вашингтон, по словам помощника госсекретаря Джеймса Уэбба, было восклицание: «Во имя господа бога, я собираюсь их проучить» [1138][1138]
Lowe P. The Origins of the Korean War. N.Y., 1986. P.161; Попов И.М., Лавренов С.Я., Богданов В.Н. Корея в огне войны. Москва – Жуковский, 2005 С. 100.
[Закрыть]. Таким образом, первые важные решения, которые, к слову сказать, по конституции не входили в его прерогативу, принял Ачесон. Он дал указания генералу Макартуру обеспечить воздушное прикрытие эвакуации американцев из Кореи, а 7-му флоту США – на крейсирование между Тайванем и материковым Китаем, чтобы исключить попытки КНР осуществить вторжение на Тайвань. Все это было сделано без консультаций с ОКНШ и до получения формального одобрения конгрессом. До наступления полуночи Ачесон задействовал «фактор ООН». Он поставил задачу дежурным сменам в Пентагоне и Госдепартаменте связаться с Генеральным секретарем ООН Трюгве Ли и попросить его созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. 25 июня в полдень Совет Безопасности собрался в Нью-Йорке и рассмотрел проект резолюции, представленной США и призывающей к коллективным действиям против «неспровоцированной агрессии» КНДР и к немедленному прекращению огня северными корейцами. Как показывает ряд американских документов, этот проект был подготовлен сотрудниками госдепартамента США заранее. Примечательно, что против формулировки «неспровоцированная агрессия» выступили представители Великобритании, Франции, Египта, Норвегии и Индии. Свою позицию они объяснили тем, что в Корее началась гражданская война. А поскольку на протяжении многих месяцев мир нарушался обеими сторонами, говорить о «неспровоцированности агрессии» неправомочно. Однако эта поправка была отвергнута Трюгве Ли и Чарльзом Нойесом, представителем США. Первоначальная резолюция, предложенная американцами, была принята девятью голосами «за» при отсутствии «против». Представитель Югославии воздержался, а советский представитель Яков Малик отсутствовал. По указанию Москвы он бойкотировал заседания Совета Безопасности из-за отказа признать коммунистический Китай вместо националистического правительства Чан Кайши. К этому времени из американского посольства в Москве пришло сообщение: по мнению посла, СССР не планировал всеобщую войну.
В телефонном разговоре с президентом 25 июня Аллен Даллес высказался за развертывание наземных войск в Корее:
«…сидеть сложа руки, пока в Корее реализуется неспровоцированное вооруженное нападение, означает инициировать разрушительную цепь событий, ведущую, возможно, к мировой войне…» [1139][1139]
FRUS 1950 (7). Р. 140.
[Закрыть].
26 июня президент США Трумэн приказал генералу Макартуру направить в Корею боеприпасы и снаряжение. Командующему 7-м флотом предписывалось прибыть в Сасебо (Япония) и установить оперативный контроль над Кореей. На следующий день, 27 июня Трумэн, отменив ранее действовавший приказ, ограничивавший сферу боевых операций авиации 38-й параллелью, дал право командующему дальневосточными войсками США генералу Макартуру использовать вооруженные силы, находящиеся под его командованием, для проведения военно-воздушных операций на территории Северной Кореи. Генерал Макартур приказал командующему 5-й воздушной армией Патриджу нанести массированный удар по объектам на территории КНДР 28 июня.
Вечером 27 июня, когда американские вооруженные силы уже вели войну против КНДР, вновь был собран в неполном составе Совет Безопасности, который прошедшим числом принял резолюцию, одобряющую действия американского правительства.
30 июня Трумэн под предлогом требований Совета Безопасности ООН подписал приказ об использовании в Корее фактически всех видов американских вооруженных сил: сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. В тот же день президент США после совещания с госсекретарем и министром обороны подписал еще два приказа: о посылке двух американских дивизий из Японии в Корею и об установлении морской блокады КНДР.
Блокада была установлена к 4 июля силами трех групп: группы восточного побережья – под американским командованием, западного – под английским и южного – под южнокорейским. К этому времени (в конце июня) в водах Кореи уже действовало 19 крупных американских кораблей (тяжелые авианосец и крейсер, легкий крейсер, 12 эскадренных миноносцев, 4 подводные лодки), 23 английских и австралийских корабля (2 легких авианосца, 3 легких крейсера, 8 эскадренных миноносцев, а также 10 сторожевых кораблей) [1140][1140]
Орлов А.С., Гаврилов В.А. Тайны корейской войны. М, 2003. С. 75.
[Закрыть].
7 июля по требованию американского представителя было созвано экстренное заседание Совета Безопасности, на котором была принята новая резолюция, вновь предложенная США, призывавшая членов ООН оказать срочную военную помощь Южной Корее [1141][1141]
Резолюция была принята семью голосами (представителями Великобритании, Франции, Тайваня, Кубы, Эквадора, Норвегии и США). Против голосовала Югославия, делегация СССР отсутствовала.
[Закрыть]. При этом была полностью проигнорирована позиция Комиссии ООН по Корее (UNCOK), которая рекомендовала переговоры как единственно правильное средство разрешения ситуации. В это время в боевых действиях, помимо авиации и флота, уже принимали активное участие сухопутные части армии США.
Решение Совета Безопасности поддержали 53 государства. Кроме США, в состав многонациональных сил (МНС) ООН для ведения войны на Корейском полуострове вошли ограниченные контингента 15 стран, связанных союзническими соглашениями с Вашингтоном или находившихся в серьезной экономической зависимости от США. Две трети войск ООН составляли американские военнослужащие. От США в корейской войне участвовали семь дивизий, ВВС, ВМС; от Турции – пехотная бригада; Франция, Бельгия, Колумбия, Таиланд, Эфиопия, Филиппины, Голландия, Греция направили по одному батальону; английские, канадские, австралийские и новозеландские подразделения составили одну дивизию [1142][1142]
Clay Blair. The Forgotten war, America in Korea. New-York, 1987. P.9.24.
[Закрыть]. Из Дании, Норвегии, Италии и Индии прибыли медицинские подразделения. Кроме того, в состав сил ООН вошли австралийские авиационные группы (истребители FB-30 «Вампир» и транспортные самолеты), канадские (транспортная авиация, часть летчиков была зачислена в состав ВВС США), части ВВС Великобритании (самолеты «Файрфлай», «Сифайр» и «Сифьюри»), которые базировались на авианосцах «Триумф» и «Тесей». 4 августа 1950 года в Корею прибыла группа самолетов авиации ЮАР (английские самолеты «Спитфайр»). Но вскоре южноафриканские летчики пересели на американские F-5JD «Мустанг». Позднее они стали летать и на новейших реактивных истребителях F-86 «Сейбр» («Сабля»).
По словам бывшего госсекретаря США Г.Киссинджера, коалиционные силы довольно индифферентно отнеслись к возможности участия в боевых действиях и выступили на стороне Америки исключительно с "позиции солидарности".
Решения, принятые на заседаниях Совета Безопасности, вызвали негативную реакцию Советского Союза. Большинство стран социалистического лагеря также выступили с заявлениями, осуждающими агрессивные действия Соединенных Штатов. При этом отмечалась незаконность принятых постановлений. Так, в ответной ноте правительства Чехословакии правительству США по поводу морской блокады Корейского побережья, врученной МИДом Чехословакии американскому послу в Праге 11 июля, говорилось:
«…правительство Чехословацкой Республики уже в телеграмме от 29 июня с.г. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций заявило, что решение членов Совета Безопасности в Корее, на которое ссылается президент Соединенных Штатов Америки, грубо нарушает Устав Организации Объединенных Наций и является незаконным. Более того, правительство Соединенных Штатов Америки не имеет никаких оснований оправдывать свою агрессию в Корее незаконным решением членов Совета Безопасности, поскольку президент Трумэн отдал приказ американским вооруженным силам выступить против Корейской Народно-Демократической Республики раньше, чем в Совете Безопасности было принято это незаконное решение» [1143][1143]
Труд 1950, № 164, 12 июля.
[Закрыть].
Однако заявление Чехословацкой Республики, так же, как и другие аналогичные, было проигнорировано американской стороной.
Таким образом, Соединенные Штаты Америки, заручившись (или прикрывшись) флагом ООН. вступили в войну, которую официально рассматривали как первый шаг «коммунистического плана глобального характера» [1144][1144]
Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение М., 1995.
[Закрыть].
Военные действия в корейской войне по оперативно-стратегическим результатам можно разделить на четыре периода: первый (25 июня – 14 сентября 1950 г.) – переход северокорейскими войсками 38-й параллели и развитие наступления до р. Нактон-ган; второй (15 сентября – 24 октября 1950 г.) – контрнаступление многонациональных сил ООН и выход их в южные районы КНДР; третий (25 октября 1950 г. – 9 июля 1951 г.) – вступление в войну китайских народных добровольцев, отступление войск ООН из Северной Кореи, боевые действия в районах, прилегающих к 38-й параллели; четвертый (10 июля 1951 г. – 27 июля 1953 г.) – боевые действия сторон в ходе переговоров о перемирии и окончание войны.
Первый период войны прошел в пользу Корейской народной армии. Нанеся мощный удар на Сеульском оперативном направлении, она прорвала оборону противника и форсированным темпом развернула наступление на Южном направлении. 28 июля южнокорейские войска оставили Сеул, а к середине августа до 90% территории Южной Кореи было занято армией КНДР. Значительную роль в разработке и обеспечении операций КНА сыграли советские военные советники. Среди них были советник командующего 1-й армией (генерал Ки Мун) подполковник А.Обухов [1145][1145]
Обухов Александр Федорович. Родился 11 августа 1917 г. в с. Раздольное Ставропольского края. В 1936 г. добровольно вступил в армию, стал курсантом Тамбовского кавалерийского училища. После его окончания командовал взводом конной разведки. Участвовал в Великой Отечественной войне, в частности, в обороне Киева, Сталинграда, Курской битве. Окончил военную академию им. М.В. Фрунзе, академию Генерального штаба. В апреле 1950 г. работая в оперативном отделе штаба Горьковского военного округа, в звании подполковника был направлен в спецкомандировку в Корею. Находился в распоряжении главного советника, затем был советником командующего 1-й армией КНА, с сентября 1950 г. – в группе старшего советника при штабе фронта, старшим советником пехотной дивизии, советником командующего 6-й армией.
[Закрыть], советник командующего артиллерией армии (полковник Ким Бай Нюр) полковник И.Ф. Рассадин и другие. Старшим советником при штабе фронта был генерал Постников.
Вот как описывает подготовку Тэджонской наступательной операции (3-25 июля 1950 г.) А. Обухов: "Мы с Рассадиным предложили усилить разведку района сосредоточения войск противника, обеспечение левого фланга армии, взять пленных. По своим войскам определили, какой группировке подойти ночью к р. Кимган, форсировать ее с ходу. Задачи дивизий, главной группировки определить места командных и наблюдательных пунктов, выделить пулеметчиков, автоматчиков для стрельбы по низколетящим самолетам. Наконец, направление ударов 4-й, 3-й пехотных дивизий и танков по окружению и уничтожению 24-й американской пехотной дивизии. Все это было расписано подетально. А для этого просил усилить армию тремя пехотными дивизиями, противотанковой бригадой, гаубичными и пушечными полками. В итоге дивизия противника была окружена, расчленена на две части, командир генерал-майор Дин взят в плен, противник потерял 32 тысячи солдат и офицеров, более 220 орудий и минометов, 20 танков, 540 пулеметов, 1300 автомашин и др. Оценивая операцию, американский журналист Джон Дилли в книге «Суррогат победы» писал: «Американские генералы были уверены, что корейцы разбегутся при одном виде американских солдат. Однако противник (КНА) оказался таким искусным и опытным, какого не встречали американцы» [1146][1146]
Обухов А. Записки военного советника. В кн. Интернационалисты. Смоленск. 2001. С. 140.
[Закрыть].
Интересно отметить, что 10 июля произошел первый танковый бой между корейскими танками советского производства Т-34 и американскими М24 «Чаффи» из роты "А" 78-го тяжелого танкового батальона армии США. В итоге два «Чаффи» были подбиты, а тридцатьчетверки потерь не понесли, хотя и получили прямые попадания (ни один снаряд броню не пробил). На следующий день американцы лишились еще трех М24, северокорейцы опять не потеряли ни одного танка. Подобное начало боевой деятельности деморализовало экипажи американских танков. К концу июля рота "А" де-факто перестала существовать: из 14 танков уцелело только два. На свой счет за это время янки так и не записали ни одной тридцатьчетверки [1147][1147]
17 августа тридцатьчетверки впервые в ходе войны в Корее встретили достойного противника – «Першинг» из 1-й бригады морской пехоты. Экипажи Т-34 приняли М26 за хорошо знакомый «Чаффи» и уверенно ринулись в бой, за что и поплатились – три танка были подбиты из 90-мм орудия «Першинга». В целом же американцы оценили Т-34 как «превосходный танк», в то же время отметив специфическую подготовку их экипажей, которые были способны эффективно наступать на не подготовленную в противотанковом отношении оборону, но не могли на равных драться с американскими танкистами в единоборствах. По мнению некоторых американских специалистов, «Чаффи» просто не стоило сравнивать с Т-34-85, в то время как «Шерманы» модели М4АЗЕ8 имели близкие характеристики, и. хотя их пушки были меньшего калибра, кумулятивные снаряды орудий «Шерманов» пробивали лобовую броню тридцатьчетверок. Танки М26 и М46 превосходили Т-34, что, впрочем, и неудивительно, поскольку это были машины уже другого поколения. В то же время Кэгл и Мэнсон. авторы книги «Морская война в Корее», просто отказались сравнивать американские танки с Т-34– 85, признав абсолютное превосходство последних по комплексу боевых свойств.
[Закрыть].
Рекомендации опытных советских офицеров способствовали успеху и следующей – Нактонганской операции (26 июля – 20 августа). В результате этого наступления был нанесен существенный урон 25-й пехотной и бронетанковой дивизиям американцев, на юго-западном направлении 6-я пехотная дивизия и мотоциклетный полк 1-й армии КНА разгромили отходившие части ЮКА, захватили юго-западную и южную части Кореи и вышли на подступы к г. Масан, заставив отступить к г. Пусану 1-ю американскую дивизию морской пехоты.
Работа советских военных советников была высоко оценена правительством КНДР. В октябре 1951 года 76 человек за самоотверженную работу "по оказанию помощи КНА в ее борьбе против американо-английских интервентов" и "беззаветную отдачу своей энергии и способностей общему делу обеспечения мира и безопасности народов" были награждены корейскими национальными орденами.
Сложившаяся на фронте обстановка вызвала серьезное беспокойство в кругах западной общественности. В прессе стали звучать пессимистические нотки. Так, газета «Вашингтон стар» 13 июля 1950 года писала: «Мы должны будем считать себя счастливыми в Корее, если нас не скинут в море… Нам, возможно, удастся удержать оборонительный плацдарм на юге, где местность довольно гористая. Но это будет ужасно трудным делом. Немедленная мобилизация людей и промышленности необходима для предотвращения катастрофы в Корее…» Обозреватель газеты «Обсервер» 15 июля 1950 года писал: «Мир является свидетелем того, как вооруженные силы могущественных Соединенных Штатов ведут отчаянную, безнадежную битву, в то время как их отбрасывает назад к морю армия Северной Кореи – самого маленького государства» [1148][1148]
Цит. по: Чубак Н.Н. Маятник войны (обзор военных действий на Корейском полуострове). В сб. Война в Корее 1950-1953 гг.: взгляд через 50 лет. М., 2001. С. 236.
[Закрыть].
20 августа наступление войск КНА было остановлено на рубеже Хаман, р. Нактон-ган, Инчхон, Пхохан. Противник сохранил за собой Пусанский плацдарм до 120 км по фронту и до 100-120 км в глубину. Попытки КНА в течение второй половины и первой половины сентября ликвидировать его не увенчались успехом. Начался второй период войны.
К началу сентября 1950 года на Пусанский плацдарм из Японии было переброшено несколько американских дивизий (командующий всеми сухопутными войсками США и РК – генерал-лейтенант Уолтон Уокер [1149][1149]
До назначения на должность командующего всеми сухопутными войсками США и Южной Кореи, с 1948 г. командовал наземными войсками в Японии.
[Закрыть]) и английская бригада, а 15 сентября американо-южнокорейские войска, перехватив инициативу, развернули контрнаступление. К этому времени на Пусанском плацдарме было сосредоточено 10 пехотных дивизий (5 американских и 5 южнокорейских), 27-я английская бригада, пять отдельных полков [1150][1150]
Орлов А.С., Гаврилов В.А. Тайны Корейской войны. М., 2003. С. 94.
[Закрыть], до 500 танков, свыше 1634 орудий и минометов различного калибра. Превосходство в воздухе было абсолютным – 1120 самолетов (170 тяжелых бомбардировщиков, 180 средних бомбардировщиков, 759 истребителей-бомбардировщиков и др.) [1151][1151]
К этому времени северокорейская авиация была фактически уничтожена в результате массированных налетов американской авиации на базовые аэродромы, расположенные вокруг Пхеньяна. Так. по данным американской разведки, из 150 имевшихся в ВВС КНА в начале войны боевых самолетов сохранилось лишь 18. По советским данным, к 21 августа 1950 г. авиация КНА имела 21 боевой самолет, из которых 20 были штурмовики и 1 истребитель.
[Закрыть]. У западных берегов Корейского полуострова находилась мощная группировка военно-морских сил войск ООН – 230 кораблей флота США и их союзников, свыше 400 самолетов и около 70 тысяч человек. Силам ООН противостояли 13 дивизий КНА, 40 танков и 811 орудий. Учитывая, что численность дивизий КНА к этому времени не превышала 4 тыс. человек, а войск ООН достигала 12 тыс. и 14 тыс. солдат и офицеров, соотношение сил и средств на фронте к началу наступления составляло в пользу ООН в живой силе 1:3, в танках -1:12,5, в орудиях и минометах – 1:2 [1152][1152]
Война в Корее. СПб., 2000. С 120-121.
[Закрыть].
Операция «войск ООН», получившая название «Хромит», началась с высадки 10-го американского корпуса (1 -я дивизия морской пехоты, 7-я американская пехотная дивизия, английский отряд коммандос и части южнокорейских войск общей численностью около 70 тысяч человек) под командованием генерала Элмонда. Для обеспечения высадки десанта привлекались 7-й объединенный флот специального назначения под командованием вице-адмирала Страбла и корабли других государств коалиции – всего 260 боевых кораблей и судов различных классов и 400 самолетов [1153][1153]
Кэгл М., Мэнсон Ф. Морская война в Корее/ Сокр. пер. с англ. М., 1962. С. 370-373.
[Закрыть]. Для достижения внезапности были широко использованы меры оперативной маскировки. В печати с целью дезинформации указывались различные даты начала наступательных операций, назывались заведомо ложные пункты и сроки высадки десанта и т.п. Для отвлечения сил Народной армии от действительного района высадки в период с 18 августа по 15 сентября 1950 года высаживались демонстративные тактические десанты и разведывательно-диверсионные группы на второстепенных направлениях. В течение 28 дней, предшествовавших высадке десанта, корабли ВМФ произвели обстрел береговых объектов и портов на девяти участках. За десять суток до выхода кораблей десанта из портов формирования американская авиация совершила свыше 5000 самолето-вылетов, нанося бомбовые удары по коммуникациям, железнодорожным узлам и аэродромам, преимущественно в юго-западной части страны [1154][1154]
Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б. Засекреченные войны 1950-2000 гг. М. – СПб., 2005. С. 46.
[Закрыть].
Высадка десанта осуществлялась тремя эшелонами: в первом эшелоне – 1-я дивизия морской пехоты, во втором – 7-я пехотная дивизия, в третьем – остальные части 10-го армейского корпуса.
После 45-минутной авиационной и артиллерийской подготовки передовые части десанта, высадившись на берег, обеспечили десантирование 1-й дивизии морской пехоты непосредственно в порту города Инчхона. Сломив сопротивление оборонявшего порт 226-го отдельного полка морской пехоты КНА [1155][1155]
Порт Инчхон обороняли лишь подразделения 226-го отдельного полка морской пехоты. Севернее Инчхона оборонялся батальон пограничных войск, а южнее – отдельный армейский батальон. Общая численность оборонявшихся не превышала 3 тыс. человек. Гарнизон острова Вольмидо, прикрывавшего порт с моря, состоял из одного стрелкового батальона, усиленного батареей береговой обороны (пять 76-мм пушек), и двумя зенитными 37-мм орудиями. На протяжении трех суток гарнизон сдерживал высадку врага. Лишь 16 сентября десант смог начать наступление на Сеул.
[Закрыть] (еще не завершившего формирования), противник 16 сентября овладел городом и развернул наступление в направлении Сеула [1156][1156]
Военно-исторический журнал. 1959. № 10. С. 55.
[Закрыть]. В тот же день ударная группировка объединенных сил в составе 2 южнокорейских армейских корпусов, 7 американских пехотных дивизий, 36 дивизионов артиллерии перешла в контрнаступление из района Тэгу в северо-западном направлении. 27 сентября обе группировки соединились к югу от Есана, завершив тем самым окружение 1-й армейской группы КНА в юго-западной части Кореи. 28 сентября силы ООН овладели Сеулом, а 8 октября достигли 38-й параллели и на восточном участке пересекли ее.
С возникновением угрозы захвата войсками ООН территории КНДР советское правительство после 7 октября 1950 года начало эвакуацию в СССР имущества и персонала авиационных комендатур, кораблей Сейсинской ВМБ, семей военных советников. В январе 1951 года на родину была отправлена и отдельная рота связи. Сотрудники советского посольства переводились в более безопасный район – на границе с Китаем. Вот как описывает этот момент сотрудник посольства В.А. Тарасов [1157][1157]
Тарасов Виктор Александрович. Окончил исторический факультет Московского государственного института международных отношений и Высшую дипломатическую школу. В 1950-1988 гг. работал в Министерстве иностранных дел СССР. С 20 сентября 1950 г. работал в советском посольстве в КНДР. Советник 1-го класса.
[Закрыть]: «В ночь на 10 октября сотрудники посольства покинули Пхеньян на легковых и грузовых машинах. Двигались медленно: мешали темнота и частые воздушные налеты. За первую ночь прошли всего шестьдесят километров и лишь к утру, после второй, более спокойной ночи, достигли города Синыйчжу. Здесь кончалась корейская земля, а за пограничной рекой Ялуцзян простирался Китай. Сюда стекались беженцы со всей страны» [1158][1158]
Тарасов В.А. Страна утренней свежести в сумерках смерти // Военно-исторический журнал. 1996. № 2. С. 68.
[Закрыть].
11 октября, развивая наступление, американо-южнокорейские войска прорвали оборону КНА и устремились к Пхеньяну. 23 октября столица КНДР была взята. Значительное влияние на исход операции оказал воздушный десант (178-я отдельная ударная группа, около 5 тысяч человек), выброшенный 20 октября в 40-45 км севернее Пхеньяна [1159][1159]
Локальные войны: история и современность /Под общ. ред. И.Е. Шаврова. М., 1981. С. 111-112.
[Закрыть]. Вслед за этим объединенные силы вышли на ближайшие подступы к границам КНР и СССР. Опасность положения вынудила советское правительство «подстраховаться» и сосредоточить вдоль китайской и корейской границ крупные соединения Советской армии: 5 бронетанковых дивизий и ТОФ СССР в Порт-Артуре [1160][1160]
Капица М.С. На разных параллелях. Записки дипломата. М., 1996. С. 223.
[Закрыть]. Группировка подчинялась маршалу Р.Малиновскому и служила не только своеобразной тыловой базой для воюющей Северной Кореи, но и мощным потенциальным «ударным кулаком» против американских войск в регионе Дальнего Востока. Она постоянно находилась в высокой степени боевой готовности к ведению боевых действий. Непрерывно велась боевая, оперативная, штабная, специальная подготовка [1161][1161]
Шардаков B.C. Атомный гриб (Пхеньян мог стать новой Хиросимой). В сб. Война в Корее 1950-1953 гг.: взгляд через 50 лет. М., 2001. С. 312.
[Закрыть].
Следует упомянуть, что критическое положение, сложившееся на втором этапе войны, повлияло на дальнейшую судьбу советского посла в КНДР Т.Ф. Штыкова и главного военного советника Н.Васильева. В конце ноября 1950 года они были освобождены от занимаемых постов за "грубые просчеты в работе, проявившиеся в период контрнаступления американских и южнокорейских войск". Более того, 3 февраля 1951 года Т.Ф. Штыков был понижен в воинском звании до генерал-лейтенанта и через 10 дней уволен из рядов Вооруженных сил в запас. По всей видимости: "грубые просчеты" Т.Ф. Штыкова были связаны с тем, что он не смог представить в Москву достаточно аргументированной информации о подготовке американцами десантных операций.
Третий период войны характеризуется вступлением в боевые действия «китайских народных добровольцев» под командованием Пэн Дэхуая [1162][1162]
Пэн Дэхуай – родился 24 октября 1896 г. в крестьянской семье в деревне Шисян, уезда Сянтань, провинции Хунань. Учился в частной школе, работал пастухом, на угольных копях, был поваром, строителем. В 1916 г. вступил в хунань-гуансийскую армию. За три года службы вырос от рядового до командира взвода. В 1923 г. окончил офицерские курсы в Чанше и вернулся в Национально-революционную армию на должность командира роты. С мая 1926 года – командир батальона, а с октября 1927 г. – командир полка. В апреле 1928 г. вступил в Коммунистическую партию Китая. В июле 1928 г. возглавил восстание в Пинцзяне и стал командиром 5-го корпуса Рабоче-крестьянской Красной армии Китая. Принимал участие в большинстве крупных боев с гоминьдановскими войсками. В период войны с японцами был заместителем командующего 8-й армией и исполняющим обязанности секретаря Северного бюро ЦК КПК. После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. стал членом Центрального народного правительства, заместителем председателя Народно-революционного совета, первым секретарем Северо-Западного бюро ЦК КПК, председателем Военно-административного совета Северо-Западного Китая, заместителем председателя Военного совета ЦК КПК. В 1950 г. был назначен командующим частями «китайских народных добровольцев» на Корейском фронте. За руководство боевыми действиями в Корее получил звание Героя КНДР и награжден корейским орденом «Национальный флаг» 1-й степени. После войны занимал различные должности в области оборонного и хозяйственного строительства. С сентября 1954 г. – министр обороны, с 1956 г. – маршал КНР. После Лушаньского совещания (1959 г.) был обвинен в правом уклоне, смещен с должности министра обороны и репрессирован. Скончался 29 ноября 1974 г. В декабре 1978 г. на III Пленуме ЦК КПК 11-го созыва был реабилитирован.
[Закрыть]. Архивные материалы свидетельствуют, что согласие китайского руководства о вооруженной помощи КНДР было получено еще до начала боевых действий. Известно также, что почти через месяц после начала войны, 13 июля 1950 года, поверенный в делах КНР в КНДР обращался к Ким Ир Сену с предложением передать китайской стороне 500 экземпляров топографических карт Корейского полуострова масштаба 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. Кроме того, он просил информировать об обстановке на фронтах и с этой целью выделил от посольства двух сотрудников в звании полковника для связи с Министерством национальной обороны КНДР. Одновременно поверенный просил ускорить присылку в Китай образцов обмундирования Корейской народной армии [1163][1163]
Гаврилов В.А. Г.Киссинджер: «Корейская война вовсе не была кремлевским заговором…» // Военно-исторический журнал. 2001. № 1. С. 38.
[Закрыть].
Однако окончательное решение о посылке в Корею китайских частей было принято лишь в конце года, на совещании ЦК КПК, состоявшемся 4-5 октября 1950 г. в Пекине. 8 октября председатель Народно-революционного военного комитета КНР Мао Цзэдун отдал приказ о создании Корпуса китайских народных добровольцев. В его состав вошли: 13-я армейская группа в составе 38, 39,40,42-й армий, 1, 2 и 8-й артиллерийских дивизий. Командующим был назначен Пэн Дэхуай.
10 октября в Москву для окончательного согласования вопроса о вступлении КНР в войну в Корее вылетел премьер-министр Чжоу Эньлай. На встрече со Сталиным он получил заверения советской стороны об ускорении поставок Китаю вооружения для 20 пехотных дивизий. Находясь уже в Москве, Чжоу Эньлай получил телеграмму от Мао Цзэдуна: «Мы считаем, что необходимо вступить в войну. Мы обязаны вступить в войну. Вступить в войну для нас выгодно. Не вступив в войну – можем многое потерять» [1164][1164]
Попов И.М. К вопросу о вступлении Китая в войну в Корее. В сб.: Война в Корее 1950-1953: Взгляд через 50 лет. М., 2001. С. 132.
[Закрыть].
Заметим, что к этому времени при штабе Объединенного командования, созданного из представителей Корейской народной армии и Народно-освободительной армии Китая, стала работать группа советских советников во главе с заместителем начальника Генштаба генералом армии М.Захаровым. Она была направлена в Корею из Китая с целью оказания помощи главному командованию КНА.
Вступление в войну китайских добровольцев было преподнесено как "дружеский акт", "помощь братского китайского народа" в справедливой борьбе корейского. В советской печати этому акту были посвящены многочисленные статьи и поэтические произведения. Например, стихотворение известного советского поэта М. Светлова "Корея, в которой я не был".
…Поздоровайся со мной, китаец!
Ты несешь, я вижу, вдалеке.
Фронтовой дорогою скитаясь,
Флаг освобождения в руке.
Голову не склонишь пред снарядом,
Ясен путь, и ненависть остра…
Дай и я присяду у костра,
Где кореец и китаец рядом.
Нечего греха таить, друзья!
Где встают отряды боевые,
Где уже никак терпеть нельзя, -
Там с любовью смотрят на Россию!
И не танки и не пушки шлем
Мы бойцам священного похода -
Мы родной Корее отдаем
Опыт освоения свободы.
В действительности дело обстояло несколько иначе. В руководстве КНР не было единого мнения по поводу отправки войск в Корею. Против этого выступали председатель Центрально-Южного военно-административного комитета Линь Бяо, председатель Народного правительства Северо-Востока Китая Гао Ган и другие. Их главными доводами были положения, что экономика Китая, только поднимающаяся после более чем двадцатилетней гражданской войны, не выдержит тягот новой войны, вооружение НОАК устаревшего образца и количественно уступает американскому. Кроме того, внутри КНР еще действуют «остатки бандитских формирований» и внешняя война создаст непомерные трудности [1165][1165]
В это время социально-экономическая обстановка в КНР была чрезвычайно сложной. Страна была разорена и обескровлена. В городах Китая насчитывалось 3-4 млн. безработных. В деревнях количество обездоленных составляло 30-40 млн. чел.
[Закрыть].
В телеграмме от 2 октября 1950 года послу СССР в КНР Рощину Мао Цзэдун, в частности, сообщал:
"…Мы первоначально планировали двинуть несколько добровольческих дивизий в Северную Корею для оказания помощи корейским товарищам, когда противник выступит севернее 38-й параллели.
Однако тщательно продумав, считаем теперь, что такого рода действия могут вызвать крайне серьезные последствия.
Во-первых, несколькими дивизиями очень трудно разрешить корейский вопрос (оснащение наших войск весьма слабое, нет уверенности в успехе военной операции с американскими войсками), противник может заставить нас отступить.
Во-вторых, наиболее вероятно, что это вызовет открытое столкновение США и Китая, вследствие чего Советский Союз также может быть втянут в войну, и таким образом вопрос стал бы крайне большим.
Многие товарищи в ЦК КПК считают, что здесь необходимо проявить осторожность.
Конечно, не послать наши войска для оказания помощи – очень плохо для корейских товарищей, находящихся в настоящее время в таком затруднительном положении, и мы сами весьма это переживаем; если же мы выдвинем несколько дивизий, а противник заставит нас отступить; к тому же это вызовет открытое столкновение между США и Китаем, то весь наш план мирного строительства полностью сорвется, в стране очень многие будут недовольны (раны, нанесенные народу войной, еще не залечены, нужен мир).
Поэтому лучше сейчас перетерпеть, войска не выдвигать, активно готовить силы, что будет благоприятнее во время войны с противником.
Корея же, временно перенеся поражение, изменит форму борьбы на партизанскую войну…" [1166][1166]
АПРФ. Ф.45. Оп.1.Д.334. Л. 105-106; Вестник. 1996. № 1.С. 131.
[Закрыть].
Тем не менее решение о посылке частей «китайских народных добровольцев» в Корею было принято. Это был чрезвычайно рискованный шаг, но другого выхода у Пекина не было. Мао Цзэдун понимал, чем могла обернуться для китайцев победа США. Во-первых, Соединенные Штаты взяли бы под свой контроль весь Корейский полуостров. Во-вторых, это создало бы серьезную угрозу северо-восточным, а может, и центральным провинциям КНР. В-третьих, Корея могла стать отличным плацдармом для вторжения войск Чан Кайши в Китай и, следовательно, к новой войне. В-четвертых, появление на северо-восточных рубежах враждебного государства вынудило бы руководство Китая менять стратегические планы по полному объединению страны. До этого главным приоритетным направлением считалось южное. В 1950 году НОАК выбила гоминьдановцев с острова Хайнань и рассматривалась перспектива высадки на Тайвань. Победа же США в Корее создала бы «второй фронт» в противостоянии Вашингтона, Тайбэя и Пекина [1167][1167]
Иванов В.В. Причины и следствия боевых действий // Россия и АТР. Владивосток, 2003. №4. С. 120.
[Закрыть].
Принимая решение о помощи Корее, Мао Цзэдун учитывал и внутриполитическую обстановку в стране. Трудности войны в соседней братской стране позволяли руководству КПК "переключить" возможное недовольство населения с внутренних национальных проблем на международные, военно-политические. Массовые идеологические кампании в стране – яркий тому пример. Забегая вперед, заметим, что китайское участие в корейской войне способствовало полному единению китайского народа вокруг КПК, воодушевило миллионы людей на трудовые свершения и ратные подвиги во имя укрепления своей родины. Китайский народ почувствовал свою силу и значимость. В стране, подвергавшейся веками гнету и унижению со стороны иностранцев, это чувство было особенно важно. В сознании китайского народа Китай не просто "поднялся с колен", он сказал "нет" своим бывшим угнетателям и показал всему миру и прежде всего США, что на международную арену вступил новый игрок – большой, достаточно мощный, авторитетный и самостоятельный.
Большое влияние на решение Мао Цзэдуна незамедлительно послать войска в Корею оказала и настойчивая просьба И.В. Сталина. В своем письме Мао Цзэдуну советский лидер разъяснил ему «вопросы международной обстановки», обосновал важность этого шага, а в отношении опасений разрастания войны и втягивания в нее США, СССР и Китая заметил: «Следует ли этого бояться? По-моему, не следует, так как мы вместе будем сильнее, чем США и Англия. А другие капиталистические европейские государства без Германии, которая не может сейчас оказать США какой-либо помощи, – не представляют серьезной военной силы. Если война неизбежна, то пусть она будет теперь, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен, как союзник США, и когда у США и Японии будет готовый плацдарм на континенте в виде лисынмановской Кореи» [1168][1168]
АПРФ. Ф.45. Оп.1. Д.347. Л.65-67; Вестник. 1996. № 1. С. 133.
[Закрыть].
Китайскому руководству была обещана помощь советской авиацией в прикрытии важных стратегических объектов страны, кредит и поставки вооружения для НОАК.
Свидетелями перехода китайских добровольцев на корейскую территорию оказались сотрудники советского посольства В.А. Тарасов и В.А. Устинов. "Мне запомнился сумрачный холодный день 18 октября, – пишет В.А. Тарасов. – Чувствовалось, что наступают решающие события. За городом готовилась последняя линия обороны, на выгодных позициях закапывались танки.
Мы с В.А. Устиновым подошли к реке Ялуцзян. Ее коричневатые воды неслись к океану. Неожиданно заметили странное движение: по мосту в нашу сторону потянулась вереница носильщиков. Китайские молодые ребята, одетые в защитного цвета армейскую одежду, несли на коромыслах так, как у нас носят воду, продовольствие и военное снаряжение. Это были первые добровольцы. Как стало впоследствии известно, на корейский фронт в конце октября прибыли пять китайских стрелковых корпусов и три артиллерийские дивизии, в основном из Шеньянского округа" [1169][1169]
Тарасов В.Л. Страна утренней свежести в сумерках смерти // Военно-исторический журнал. 1996. № 2. С. 69.
[Закрыть].

Рисунок 121
Маршал КНР Пэн Дэхуай
А вот как описывает первые боевые столкновения с войсками ООН командующий китайскими добровольцами Пэн Дэхуай:
"В сумерки 18 октября 1950 года я переправился через реку Ялу с первым головным отрядом китайских народных добровольцев. Утром 19 октября мы добрались до электростанции Рагочо, а утром 20-го были уже у небольшого горного оврага северо-западнее города Пукчжина. Двигаясь на машинах и танках, некоторые передовые отряды противника, осуществляя преследование, уже достигли берега реки Ялу. Утром 21 октября дивизия нашей 40-й армии прошла неподалеку от Пукчжина и неожиданно столкнулась с марионеточными войсками Ли Сын Мана. Первое сражение было неожиданным, и я сразу же изменил наш прежний боевой порядок. Наши войска, используя характерную для них гибкую маневренность, разгромили несколько частей марионеточных войск Ли Сын Мана в районе Унсан. 25 октября наши войска победоносно завершили сражение. Мы не стали преследовать противника по пятам, так как не уничтожили его главные силы, а разгромили всего 6-7 батальонов марионеточных войск, а также потрепали американские части. Под натиском наших войск механизированные части противника быстро отходили в глубь Кореи, создавая узлы сопротивления. В связи с тем, что американские, английские и марионеточные войска были высокомеханизированными, их соединения и части быстро отошли в район рек Чунчон и Кэчон, где сразу же приступили к созданию оборонительного рубежа.