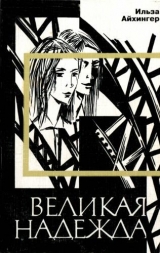
Текст книги "Великая надежда"
Автор книги: Александр Белобратов
Соавторы: Ильза Айхингер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Неподалеку от заброшенной верфи к ним подсел человек с глобусом. Он поджидал их, сидя на обломках корабля, который еще не отбуксировали.
– Колумб! – любезно улыбнулся он и снял шляпу. – Нужно еще столько открытий сделать! Каждый пруд, каждая боль и каждый камень на берегу.
– Америку в конечном счете так и не назвали вашим именем!
– Нет! – рявкнул Колумб. – Но мое имя носит неведомое. Все, что еще предстоит открыть. – Он удобно развалился на грязных подушках и вытянул ноги.
– Открытия утомляют?
– Но это прекрасная усталость! Честно зарабатываешь ночной отдых!
– А бывают сны наяву?
– О, сны – это куда большая явь, чем поступки и события, сны охраняют мир от крушения. Сны, сны, именно сны и ничто иное!
– Разразилась чума, но этого никто не замечает, – хихикнул милый Августин из-под своего сиденья. – Они не заметили, что их сотворили, и не заметят, что их уже предали проклятию.
Теперь они переезжали дамбу, эта дамба тянулась вдоль большой реки, а река текла вдоль дамбы. И ни река, ни дамба даже не пытались отделиться друг от друга, тихо и мирно убегали они в бесконечность.
Карета въехала в деревню. Серое и глубокое небо лежало над низкими оградами садов. Рыжие деревья тонули в темноте, а перед желтыми домиками играли дети. Они рисовали ногами линии на речном песке и морщили лбы. Они молча росли, между делом звонко кричали в сумерках и швыряли камнями в воробьев. Они царапались в запертые садовые калитки, кусали зубами железо и со смехом отрывали уши у старого безобразного пса.
Вдруг один из них, мальчик, перескочил через ограду. На нем была коротенькая светлая рубашка, а в правой руке праща. Его лицо пылало гневом, и он прикончил больного плачущего пса одним-едннственным камнем. Потом он развел посреди улицы костер и бросил пса в огонь. И запел: «Мы хотим принести Богу огненную жертву из наших грехов. Идите и подарите ему ваши грехи, потому что ничего другого у вас нет».
И вдобавок он заиграл на лире. Его песня звучала мучительно, чуждо и настойчиво, а от костра на пустынной улице запахло пожаром. Он вскарабкался на ограду и начал проповедовать. И после каждой фразы он швырял камни, и окна у людей разбивались, и им поневоле приходилось выглядывать наружу. Сердитые и заспанные, они просовывали свои тяжелые головы в неровные пробоины и звали детей домой. Но дети не шли, а стояли и слушали чужого маленького проповедника и разевали свои красные алчные рты, словно хотели его сожрать.
«Камни, камни в ваших окнах суть хлеб, которого вы алкаете, а хлеб на ваших блюдах есть камень, отягощающий вас. Все, что приносит вам пользу, вы возводите на трон. Боль всегда приносит пользу. Боль – вот последняя польза!»
Он занесся совсем высоко и возликовал, когда ему не хватило слов.
Деревенские дети ликовали с ним вместе, но тут один из них крикнул: «Волосы у тебя черные и курчавые, ты чужак!»
– Я ли чужак оттого, что волосы у меня черны и курчавы, или вы – чужаки оттого, что руки у вас холодны и тверды? Кто чужак, я или вы? Чужак не тот, кого ненавидят, а тот, кто ненавидит, а кто считает себя единственным настоящим хозяином в доме, тот и есть главный чужак!
Но деревенские дети больше его не слушали. Они вскочили на ограду и сбросили его вниз. Они завыли, и заревели, и перестали расти. А взрослые, которые тоже давно перестали расти, выскочили из домов и набросились на чужого мальчика. Они опрокинули его на последние языки его догоравшего костра, но пока они думали, что сжигают его, они только закаляли венец у него на голове. И пока они думали, что убивают его, он от них ускользал, но они этого не знали. Он вспрыгнул в черную карету, положил голову на колени рослому Колумбу и немного поплакал, пока милый Августин гладил его обожженные ступни. Потом они сыграли дуэт на лире и волынке, и лишь когда они уже проехали вместе добрую милю, чужому мальчику пришло в голову представиться.
– Давид, царь Давид, – смущенно пробормотал он, – еду в Святую землю.
Карета катила по лугам и долам, мокрые ветви хлестали по крыше.
– Мы тут все в Святую землю!
– Мы тоже в Святую землю!
– Кто вы такие, и чего вам надо в Святой земле?
– Это Эллен, а я Георг, и мы хотим получить великое свидетельство. Почему вы за нас не поручились? Почему вы бросили нас на произвол судьбы? Разве вы не за всех ручаетесь? Но они прогоняют нас, они все у нас отнимают, они над нами издеваются: вы, говорят, ничем не подтверждаетесь! Идите в Святую землю, поищите там ваших предков и скажите им: это вы виноваты, что мы здесь, помогите, загладьте свою вину! Загладьте свою вину, из-за которой нас выселяют, загладьте свою вину, из-за которой нас преследуют, загладьте эту ненависть в сердцах! Ведь это вы виноваты, вы, вы виноваты, что мы есть!
– Зачем вы сели в черную карету?
– Мы хотим перейти границу, мы ищем тех, что жили раньше.
Туман и река, бушуя, перетекали друг в друга. Линия между небом и землей исчезла.
Колумб нервно крутил в руках глобус. Когда он начал говорить, его голос зазвучал мрачнее и глуше, чем поначалу: – Тех, что жили раньше, уже нет. Есть те, кто есть, и те, кого нет, существующие и несуществующие – игра неба и ада разыгрывается внутри нас! Но те, которые есть, – те есть всегда, а те, которых нет, – тех никогда не было. Ждите и вслушивайтесь, живите и светитесь! Сносите чужое презрение и умывайтесь слезами, от слез глаза светлеют. Прорывайтесь сквозь туман и открывайте мир! Быть – вот паспорт для вечности!
– Не думайте, что это так легко, – крикнул Давид. – Кто думает, что он есть, тех нет. Только те, кто сомневается в себе, могут пристать к берегу, только те, которые страдали. Ибо берег Господень – это пламя над мрачным океаном, и кто пристанет к берегу, тот сгорает. И берег Господень прирастает, ибо горящие испускают свет, и берег Господень истаивает, ибо трупы изувеченных приплывают к нему из тьмы!
– Разразилась чума, но никто не замечает, – хихикнул милый Августин, – пойте песню в чумной могиле, пойте песню, пойте песню! Мы ничего не можем вам подтвердить. Только песня, которую вы поете, служит вам свидетельством.
– Повергните Голиафа в сердце вашем!
– Откройте мир заново, откройте Святую землю!
– Сносите чужое презрение и умывайтесь слезами, от слез глаза светлеют!
Карета теперь мчалась как бешеная и подпрыгивала на камнях. Дети вскрикивали. Они уцепились за шерстяной пояс Давида и спрятали головы в широкие рукава Колумба.
– Мы хотим остаться здесь, мы хотим остаться здесь!
– Оставайтесь, чтобы идти вперед, идите вперед, чтобы остаться.
– Уступайте буре, как кустарник на берегу!
– Так вы и родились: в тряске черной кареты. Так движение станет покоем, а покой движением.
– Так уловляете вы мимолетное, так совлекаете с него покровы!
– И ваша боль уравновешивает расстояние.
Серая и знающая, мерцала река в темном свете ночи. Невозмутимо поблескивал гравий.
– Граница, где граница? Где Святая земля?
– Повсюду, где пастухи пасут овец и все оставляют по зову ангела.
– Овцы блеют, когда их бросают на произвол судьбы!
– Овцы блеют, потому что не умеют петь, овцы блеют, чтобы Бога хвалить.
Царь Давид снова заиграл на лире, а милый Августин подхватил мотив на своей волынке, а Колумб тем временем низким голосом затянул матросскую песню, что-то про белые звезды и тоску по суше. Они не обращали друг на друга внимания, но все вместе звучало удивительно стройно и гармонично: псалмы Давида, моряцкая песня Колумба и забавные рулады милого Августина.
Это вершилось во славу Божию, а все, что вершится во славу Божию, звучит стройно.
Карета неслась скорее, все скорее, скорее скорого, но скорость растворялась, становилась спокойной и незаметной, как скорость реки или дороги. Медленная скорость на грани вечности, где все сходится воедино. Линия между небом и землей исчезла. Остались только белые волны во мраке, здание таможни на дороге и голоса над рекой.
– Мы на границе!
Выскочили три старика и преградили путь. Лошади встали на дыбы. Черная карета остановилась.
– Вы готовы петь песню в чумной могиле?
– Готовы.
– Вы готовы убить Голиафа в ваших сердцах?
– Готовы.
– А готовы заново открывать Святую землю?
– Готовы.
– Тогда пересеките границу, получите свидетельство, войдите в Святую землю!
– Оставьте черную карету, оставьте похоронного кучера, выходите!
– Выходите! – гневно крикнул кучер и встряхнул спящих детей. – Выходите, выходите! Кругом часовые, мы ездили по кругу. Проваливайте отсюда!
Дети открыли глаза и осовело подняли головы.
– Живо просыпайтесь! – крикнул кучер. – Все было напрасно. Все пропало, через границу уже не проехать!
– Мы уже на другой стороне, – крикнули дети. Они выскочили из кареты и, ни разу даже не оглянувшись, побежали назад в темноту.
На службе у чужой силы
Тучи несутся на рысях, мчатся стремглав в гуще войны, безумствуя, приплясывая на лету, они мчатся глубоко над крышами мира, глубоко над этой ничейной землей, между изменой и пророчеством, глубоко над глубинами бездны. Тучи мчатся быстрее синих драгун из песни, они не носят мундиров, без конца меняются и все-таки узнают друг друга. Тучи мчатся напролом через поля пшеницы и брани и через полуобвалившиеся остовы каменных строений, которые раньше назывались городами. Тучи несутся на рысях, мчатся стремглав в гуще войны, и их тайная легкость навлекает на них подозрения.
Мчатся по делам чужой силы. Всем стоять! Вниз!
Посреди улицы на серой мостовой лежала раскрытая школьная тетрадь с английскими словами. Ее, должно быть, потерял какой-то ребенок, и теперь ее перелистывала буря. Упала первая капля и попала на красную линию. И красная черта посередине страницы вышла из берегов. Смысл в ужасе хлынул из слов во все стороны и стал звать перевозчика: переведите меня, переведите!
А красная черта все набухала и набухала, и стало ясно, что она одного цвета с кровью. Смысл и всегда-то был в опасности, но теперь ему грозило захлебнуться, и слова, как маленькие покинутые домики, торчали по обе стороны красной реки, оцепенелые и бессмысленные.
Шел проливной дождь, а смысл все блуждал по берегам и звал на помощь. Поток уже дошел ему до пояса. Переведите меня, переведите!
Но тетрадь потерялась. Ее потерял Герберт, когда шел на урок английского: у него была дырка в портфеле. А за мальчишкой, не носившим формы, шел другой, одетый в форму. Он посмотрел на тетрадь, поднял и жадно в нее вцепился. Остановился, полистал тетрадь и попытался прочесть слова, но дождь припустил слишком сильно. Дождь гасил последние огоньки, мерцавшие в словах. Смысл вновь воззвал: «Переведите меня, переведите!» Но мальчишка, одетый в форму, не желал его слышать. Черта была цвета крови. Пускай лучше смысл захлебнется, чем мы предадим кровь! Он захлопнул тетрадь, сунул ее к себе и побежал на службу. Побежал за мальчишкой без формы.
Оба вошли в один и тот же дом. Тот, что был не в форме, поднялся на пять лестничных пролетов и оказался в мансарде, где вел занятия какой-то старик. Мальчик, одетый в форму, не поднимался ни на одну ступеньку, потому что учреждение со скамьями светлого дерева и темной картиной на стене персикового цвета было расположено удобнее.
– Я что-то нашел! – крикнул он.
– Что ты нашел?
– Тетрадку со словами.
Песня про синих драгун оборвалась. Над брандмауэром взмыло молчание. В этом молчании таился топот их коней, звяканье сабель и колыханье плащей. В этом молчании таилась тень, которую отбрасывали их свисающие поводья, и тень ползла по лицам детей, приглушала блеск их пряжек и на мгновение прятала из виду ножи у них на ремнях. Песня про синих драгун оборвалась. Синие драгуны застыли на месте. Они въехали в затонувший город. Звонкая музыка смолкла. Или они только теперь заметили, что их барабаны и трубы не издают ни звука?
– Что ты нашел? – резко переспросил командир отряда.
Мокрая тетрадь со словами одиноко лежала посреди стола. Бессмысленно одиноко. Она была раскрыта, и на раскрытой странице стояли расплывшиеся, словно от слез, слова: «Я буду стоять – ты будешь стоять – он будет стоять – я буду идти – ты будешь идти – он будет идти – я буду лежать – ты будешь лежать – он будет лежать…» Ниже шел перевод.
Бледные щеки детей светились.
Кто будет лежать?
Может быть, мы – все мы? Окоченелые, холодные, вытянувшись в струнку, в пятнах, с оскалом невольной улыбки?
Нет, мы не будем. Никто из нас лежать не будет. А на поле брани?
Человека разрывает на куски – так говорят те, кто приезжает с фронта.
«Мы будем лежать – вы будете лежать…» Лежать? Нет. Пускай лежат другие, те, которые не носят формы. У которых чулки темнее, а лица бледнее. Они и будут лежать, окоченелые, холодные, вытянувшись в струнку, в пятнах, с оскалом невольной улыбки. Им это больше подходит.
– Чья это тетрадь?
– Одного из тех, сверху, которые не имеют права носить форму. Из тех, других!
– Тетрадь с английскими словами?
– Зачем они учат английский?
– Границы закрыты!
Тучи несутся на рысях, мчатся стремглав в гуще войны. А дети там, наверху, те, не в форме? В гуще войны учат английский.
Они еще не знают, что ли?
Никто из них не сможет выехать. Они будут лежать, чтобы лечь не пришлось нам. Они еще не знают, что ли? Зачем учить английский, если все равно придется умереть?
Вновь упало подозрение, словно тень от болтающихся поводьев на блестящие пряжки. Синие драгуны мчатся…
– Почему вы перестали петь?
Драгуны в песне тоже как будто задумались.
«Вверх, к светлым дюнам!» – так поется в первом куплете.
Дюны бродят с места на место. Мы не успели дух перевести, а дюны уже перебрались с места на место. Стремительно и неудержимо, как тысячелетия. Нам не следует переводить дух, а не то нас разгонит ветер. А не то мы еще призадумаемся, а не то нас разгонят, а не то нас депортируют, как детей в мансарде. Нам нельзя переводить дух, а не то мы пропали. Последний куплет кончается так: «Завтра я буду один!»
Нет, мы не будем одни.
Потому мы и носим форму, чтобы не остаться в одиночестве. Чтобы никогда не выглядеть смешными в собственных глазах. Смешные, беспомощные, одинокие – это они, другие. Те, что под крышей, те, что не носят форму.
Не думайте, что нас плохо информируют! Кто не носит формы, тот остается один, кто остается один, тот задумывается, а кто задумывается, тот умирает. Долой это все, так нас учили. К чему мы придем, если каждый будет думать по-своему о том, что правильно, а что нет?
Все должно рифмоваться, одна строчка с другой, один человек с другим. Мы это учили: потому что мы должны жить. Но для чего учить английский? Никто из них не переберется через границу. Зачем учить английский, если все равно придется умереть?
– Мы их спросим!
– Пускай ответят!
– Мы носим форму, и нас все равно больше!
– Погодите, погодите, у меня что-то есть!
– Что у тебя?
– Подозрение, страшное подозрение, очень серьезное подозрение! Зачем учат английский? В гуще войны?
– Что ты имеешь в виду?
– А вы до сих пор не поняли?
Тучи несутся на рысях, мчатся стремглав в гуще войны. Нельзя допустить, чтобы тучи восторжествовали!
– На последнем этаже шпионы!
– А мы – внизу.
– Пускай никто нас с ними не спутает!
Дети не носят формы – это уже само по себе подозрительно. Тени в мансарде, отмеченные невидимой печатью. Теперь круг замкнулся. – Тетрадь с английскими словами – чем не доказательство?
– Я знаю кое-что получше, мы будем вести за ними наблюдение!
– Рядом с мансардой – чердак.
– А ключ от чердака?
– У дворника.
– Его дочка одна дома.
– Пошли скорей!
– Стучи громче!
– Почему ты нас боишься?
– Я не боюсь. У каждого из вас есть нож, чтобы меня защитить.
– Давай сюда ключ от чердака!
– Нет у меня ключа.
– Врешь!
– Разве я могу вам врать?
– Сможешь, если захочешь!
– Захотела бы, если бы могла.
– Давай сюда ключ!
– Вот он! Берите, он старый и ржавый. И оставьте меня в покое.
– О каком таком покое ты говоришь?
– Только о своем собственном.
– Тогда с тобой все в порядке, тогда ты не опасна.
– Убирайтесь!
– Эй, ты! Тебе что-нибудь известно о старике там наверху и о тех, что не носят формы?
– Они тоже хотят покоя.
– Только для себя самих?
– Может, и еще для кого.
– Вишь ты, мы и сами так думаем!
В застекленной крыше дыра. Над дырой небо. А небо засасывает вас вверх по лестнице, хотите вы того или нет. Все выше вверх. И небо смягчает ваши шаги.
– Ключ подходит?
– Вы все здесь?
– Скорее туда. Рассчитаться! Все на месте?
– Знаешь, сколько в небе звезд?
– Тихо!
Вас еще можно пересчитать, как синих драгун. Но дюны бродят с места на место. И последний куплет кончается так: «Завтра я буду один».
– Как здесь темно…
– Осторожно, паутина!
– Будет гроза.
Скрипнул люк в полу. Отчаянно простонала посреди чердака подпора, держащая балку. Резкий ветер распахнул створку слухового окна. И окно, черное и мстительное, уставилось вслед летящим тучам. Тучи помчались еще быстрее.
О, как они боялись этой черноты, волнами струящейся из человеческих домов, этих распахнутых драконьих зевов, этих нескончаемых ужасных вопросов. Исполненные страха, ринулись они туда, внутрь, вглубь. Прочь от всех этих осквернителей, этих одержимых, вкладывающих персты во все раны, этих ни во что не верующих, подслушивающих через стенки собственных сердец!
Гневно плясала на сквозняке болтающаяся доска. Вслед за тучами, вырвавшись из тесной рамы! Прочь от этих сумасшедших, которые возводят в закон земное тяготение, прочь от подозрений этих подозрительных личностей.
Возле слухового окна с грохотом вращался флагшток и пытался удержать небо. А небо повисло на нем, как разодранный в клочья балдахин над оклеветанными святынями. Синий, давно оскверненный шелк слабо просвечивал и вновь исчезал из виду. Пыль и духота густо переплелись под скошенной крышей.
Те, что были одеты в форму, беззвучно закрыли за собой дверь, разулись и, пригнувшись, подкрались к стене, сквозь которую собирались подслушивать. Мокрые чулки, которые сушились на длинных веревках, предостерегающе проезжались по их лбам, губам и глазам, как материнская рука. Они раздраженно уворачивались от этих касаний. Заскрипели половицы. В тот же миг они заметили, что их слишком много. Слишком много. Быть многочисленнее, чем другие, – эта гордость, эта сила вывернулась наизнанку, как старая перчатка, и обернулась слабостью; но уходить никто не хотел. Первые уже обнаружили стену, а в стене маленькую железную дверь, которая соединяла чердак с чуланом старика. Последние наступали им на пятки. Дверь задрожала.
Разве я здесь не для того, чтобы меня отворяли? Разве я не есть великое противоречие между мыслью и реальностью, между людьми во вселенной и людьми в форме? Распахните меня настежь, вообразите, что меня вообще нет, сорвите меня с петель!
Дети, одетые в форму, ожесточенно пытались призвать дверь к молчанию. Это бессильное громыхание обладало властью их выдать. Они напряженно прижимались своими теплыми, буйными телами к ржавой темноте.
Тут они услыхали голос Герберта. И этот голос произнес: «Там рядом кто-то есть». Он произнес это звонко и так беззлобно, словно хотел сказать: там мой лучший друг.
– Слышите?
– Кошка, – сказала Рут.
– Птицы.
– Мокрые чулки.
– Ветер.
– Собирается гроза.
– А тут есть громоотвод?
– Ты сегодня всего боишься!
– У меня пропала тетрадь со словами.
– Тоже мне чудо, Герберт, у тебя же в портфеле дырка!
– Вот именно, тоже мне чудо! Тоже мне чудо: война. Тоже мне чудо, что мы голодные. Тоже мне чудо: тетрадь пропала. Но должны же быть все-таки на свете чудеса!
– Говори тише, Эллен!
– Лучше помогите ему найти тетрадь!
– Пошли поглядим, может, она лежит на лестнице!
– Сейчас вернемся!
– Никогда нельзя так говорить. Не ходи одна за угол, а то пропадешь.
– Пропаду?
– В портфеле дырка, а дырки всегда рвутся дальше. Моя бабушка сказала…
– Да ладно тебе, лучше скорее возвращайтесь!
– Как потемнело на улице!
– Не хнычь, малыш!
– Ну что, нашли?
– Нашли кое-что на лестнице, но не тетрадь!
– Нож!
– Короткий кинжал, как те, что носят на поясе они.
– Кто – они?
– Те, другие, снизу, которые в форме.
– Мыши в мышеловке, вот мы кто!
– Границы закрыты.
– Мышка, мышка, прыг из норки, вот во что они с нами играют!
– Никто из нас не сможет выехать.
– Зачем учить английский, если это напрасный труд?
– Бросьте, моего папу арестовали, мы все пропали. Люди говорят…
– Разве мы не хотели разучиться немецкому?
– Но это тянется слишком долго!
– Разве мы не хотели пожимать плечами, когда нас оскорбляют, и не понимать, что нам такое говорят?
– Сегодня уже двенадцатый урок. А мы еще не разучились ни единому слову.
Опрокинулось кресло; из бездны бубнил громкоговоритель. Диктор только что кончил читать сообщение. Под конец он сказал: «Кто слушает зарубежные радиостанции, тот предатель; кто слушает зарубежные радиостанции, заслуживает смерти». Его услышали на всех этажах, не понять его было невозможно. Сразу же после диктора включилась музыка, быстрая и веселая, словно в мире ничего веселее не было: кто слушает зарубежные радиостанции, заслуживает смерти.
Прекрасная идея – возводить в заслугу смерть, эту не поддающуюся отключению, самую зарубежную изо всех зарубежных радиостанций. Музыка внезапно оборвалась. Молчание прервал новый голос. Этот голос был нежен и невозмутим. Казалось, он шел с самой вышины.
– Кто может заслужить смерть? – сказал старик. – Кто заслуживает жизни?
Дети, одетые в форму, крепче прижались к железной двери. Этот голос срывал у них с груди шнуры и лишал их отличий. Этот голос натягивал поверх их формы светлые длинные рубахи, успокаивал их против их собственной воли и делал их души бесстрашными.
– Кто из вас не иностранец? Евреи, немцы, американцы, – мы все здесь иностранцы. Мы можем сказать: «Доброе утро», или «Становится светло», «Как вы поживаете», «Собирается гроза», – и это все, что мы можем сказать, почти все. Мы и так говорим на ломаном языке. А вы хотите разучиться говорить по-немецки? Я вам в этом не помощник. Но я помогу вам выучить его заново, как иностранец изучает новый язык, осторожно, бережно, как зажигают свет в темном доме, а потом идут дальше.
Дети, одетые в форму, злились сами на себя. Они сами поставили себя в такое положение, что теперь им лучше помалкивать о своей смехотворной наблюдательности, о том, как они проявили покорность древнему ордену.
– Переводить: переводить через буйную, глубокую реку, причем в этот миг даже не виден берег. И все-таки переводите – переводите сами себя, других, переводите мир. На всех берегах блуждает нарушенный смысл: переведите меня, переведите! Помогите ему, переведите его на другую сторону! Зачем люди учат английский? Почему вы раньше не спросили?
Дети на чердаке схватились за ножи. Они были как передовое охранение на откатившейся линии фронта.
– Зачем люди учатся читать, зачем учатся считать, зачем учатся писать, если все равно придется умереть? Ступайте, бегите на улицу, спросите их, спросите всех! Никто вам не ответит. Почему вы стали спрашивать только теперь?
– Вы видите старика?
– Он зажег свет.
– Пустите меня туда!
– Меня!
– Тише, они нас слышат!
– Меня разбирает смех.
– Тсс, не выдавайте нас! Пошли назад, спускаемся!
– Тихо!
– Вы что, не поняли?
– Дверь на лестницу заперта.
– У кого ключ?
Чернокосая дочка дворника сбежала вниз по лестнице. На бегу она звонила в разные двери, а потом спряталась за колоннами. Между делом она распахнула настежь все окна. В доме бесчинствовал ветер. Как тень, исчезла она в квартире подвального этажа. В руке у нее был большой заржавленный ключ.
Небо омрачилось еще сильней. Тучи набросили черные плащи и неслись навстречу неведомым преградам. Молнии сверкали, как сигналы врага. «Пускай ваши головы пребудут у вас на плечах!» – ревел гром. Потому что согласно древнему преданию мертвые рыцари носят свои головы в руках. Знающими идете вы спать, незнающими встаете ото сна. Восстаньте, смиренные.
Пускай ваши головы пребудут у вас на плечах!
Дети, одетые в форму, боязливо тянули лица к открытому люку. Что их заставило покинуть комнату со скамьями светлого дерева? Кто им приказал прервать песню про синих драгун, не допев до конца даже первого куплета, и кто приказал синим драгунам отбросить фанфары и броситься врассыпную, как тучи на небе?
Кто их соблазнил карабкаться на пять лестничных пролетов вверх, следуя по пятам за своим подозрением, как на зов Крысолова? По пятам за этим чужим, ужасным подозрением: зачем им учить английский, если они все равно умрут?
Они играли в вопросы и ответы, и в конце концов из этого вышло вот что: зачем плакать, зачем смеяться? зачем носить рубашку? Неужели огонь зажигают только для того, чтобы потом дать ему угаснуть? И неужели ему дают угаснуть только для того, чтобы потом снова зажечь? Они внезапно оказались втянуты в участь тех, кто находится под угрозой, запутались в собственных подозрениях, очутились взаперти на чердаке. И единственная дверь, через которую можно вернуться на свободу, – это дверь к тем, другим. Какой соблазн заставил их обречь себя на милость обреченных?
Разве они не имеют права призвать тех, других, к ответу, отхлестать по щекам, и разве не для того носят они ножи, чтобы дать отпор при малейшем подозрении?
Чулки беспокойно болтались на светлых веревках. В темноте расплывался теплый запах пыли и плесени. Его сотрясали мощные порывы ветра. Как слепые летучие мыши, шелестели под крышей табачные листья.
Безумная скачка в небе, казалось, достигла своего апогея. Угрозы слухового окна обернулись беспомощностью. Его чернота распылилась по черноте неба. Буря зашвырнула флагшток внутрь. Он упал на подслушивавших.
Дети, одетые в форму, почувствовали, что отброшены на задворки мира, на задворки всего, что до сих пор поворачивалось к ним только парадной стороной, а теперь им стало ясно, что над светлыми комнатами есть пустые высокие чердаки, которые расставляют играющим ловушки из невидимой проволоки. И они испугались.
Сотрясаясь от гнева, они налегли на железную дверь.
– Это ты виноват, это ты сказал…
– А ты несешь ответственность!
– Нет, не я, а вы!
– Вы шуты гороховые!
– Тихо, а не то они нас обнаружат!
– Не смейтесь, зачем вы смеетесь?
– Мы хотели их подловить. А они сами нас подловили.
– Не смейтесь! И кому говорят: не шевелитесь, они нас уже слышат! Прекратите! Это подло, это не по правилам, не смейтесь, это же заразительно, ох, лопнуть можно, над чем вы смеетесь? Вы провинились, и я вам приказываю: перестаньте смеяться!
Они теснились друг к другу, приглушенно фыркали, затыкали себе рты рукавами, стонали и прятали головы под куртки, но это уже не помогало.
– Ты сам смеешься!
Мокрые чулки дрожали, балка скрипела, а доска под ногами стучала от этого беспричинного взрыва веселья.
Почему люди смеются, почему люди плачут, почему учат английский? Распахнулась железная дверь.
– Позвольте нам посмеяться с вами! – сказал старик.
Герберт испуганно ухватил его за руку, остальные не шелохнулись.
Дети, одетые в форму, подкатились прямо к их ногам, расцепились и вскочили на ноги. В лица им дикой кошкой прыгнула серьезность.
– Смеяться не над чем! – крикнул командир отряда.
– И да и нет, – сказал старик.
От грозы начал мигать свет. Качалка замерла, а кошка спрыгнула на землю.
– Обыск помещений, – объяснил командир отряда.
– Что вы хотели здесь найти?
– Может быть, вражеский передатчик.
Старик гостеприимно раскинул руки. Прошу вас!
На секунду они оторопели и метнули взгляд на остальных. Потом началось.
Полетели в воздух доски, опрокинулись ящики, разорванные тетради усеяли пол. Разбилась вдребезги какая-то тарелка. С грохотом обрушился словарь и, распахнутый, остался лежать под ногами.
– Могу ли я вам чем-нибудь помочь? – спросил старик. Они толкнули его в грудь. Та самая буря, которая омрачила их лбы и набросила волосы им на глаза, убрала у тех, других, с лиц волосы и заставила эти лица сиять еще светлее.
– Откуда у вас нож?
– Нашли.
– Это каждый может сказать. Знаете, во что вам это может обойтись?
Звенели оконные стекла, светло-зеленые обои повисли клочьями.
– За этим что-то стоит, да или нет?
– Где у вас заграничный передатчик?
Дети, одетые в форму, остановились в изнеможении.
Командир отряда схватил нож. Остальные тут же все поняли. Не дожидаясь другого сигнала, они бросились вперед. Упал умывальник, головы ударили в ребра, руки и ноги переплелись. Твердые подошвы наступали на лица. Кошка прыгнула в гущу свалки, взвыла и полетела в потолок. Над хаосом разразился всемирный потоп. На всех берегах блуждает изгнанный смысл.
– Оставьте Герберта, не трогайте его, у него нога хромая!
– Где ваши правила?
Окно разлетелось вдребезги. Черные и блаженные, плясали тучи, и вражеские сигналы шли подряд один за другим.
Сам Ной, с раненой кошкой в руках, молча смотрел на потасовку.
– Ну что, нашли вражеский передатчик?
По знаку командира отряда дети, одетые в форму, вытащили ножи. Старик бросился им наперерез. Ради детей Ной покинул ковчег. Их пальцы вцепились ему в бороду, руки и ноги запутались в его длинном зеленом халате. На мгновение старик увидел над собой занесенный ножик командира, этот пропавший, подмененный, давно проигранный ножик. Красная черта опять вышла из берегов.
Увидев кровь, они отшатнулись. Они пятились шаг за шагом – все пятились. Четыре стены удерживали их. Огромность подозрения их побратала.
Потому что вполне могло оказаться, что никакого передатчика нет.
Зачем мы тогда подслушивали, и зачем мы тогда учились? Зачем мы тогда смеялись и зачем плакали? Если нет никакого вражеского передатчика, тогда мы сами – просто дурная шутка, и ничего больше. Если нет вражеского передатчика, значит, все было напрасно.
Гроза медленно уходила. Между разворошенной кроватью и опрокинутым столом лежал старик. Красный ручеек неустанно сочился сквозь трещины в половицах. Они закатали старику рукава.
– У вас есть перевязочный материал?
– Внизу, в клубе, – заикаясь, пробормотал командир.
Все побежали вниз. С трудом удалось им перебинтовать рану. Они перестелили постель и уложили на нее старика. Где-то раздобыли водку.
– Приберите! – буркнул командир.
– Само собой, – огрызнулся Георг.
– Само собой, – повторил тот, другой. Это был новый оборот.
Они поставили на место стол и стулья, вытерли пол; потом они задвинули ящики обратно в шкафы, сложили книги ровной горкой и попытались собрать тетрадки со словами. Обнаружились любопытные вещи.
Небо улыбалось небесной голубизной. Но они уже не поддавались на этот обман. Эта ясная, чистосердечная синева, небесная синева, синева горечавки и синева синих драгун отражалась в солнечном диске чернотой мира, этой бесконечной, непостижимой чернотой за границами. Если тут нет никакого вражеского передатчика, мы все пропали.







