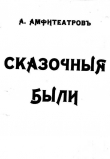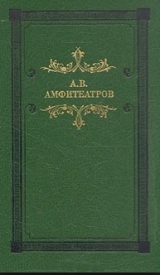
Текст книги "«Альфонс»"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Александръ Амфитеатровъ
«Альфонсъ.»
I
Пишу эти строки подъ арестомъ, отчасти затѣмъ, чтобъ убить казематную скуку, отчасти потому, что меня невыносимо тяготятъ воспоминанія истекшаго дня, и есть потребность высказаться хоть самому себѣ, на бумагѣ…
Сегодня утромъ, пріятель мой Иванъ Юрьевичъ Волынскій стрѣлялся съ другимъ моимъ пріятелемъ, поручикомъ Раскатовымъ; я и баронъ Брунновъ, юнецъ изъ золотой молодежи, были секундантами. Доктора не было. Исторія разыгралась скверно: Раскатовъ уложилъ Волынскаго на мѣстѣ.
Когда Волынскій, третьяго дня, спросилъ меня:
– Владиміръ Павловичъ, не согласишься ли ты передать мой вызовъ Раскатову?
Я, не колеблясь, сказалъ «да». Я зналъ, что Волынскій дерется за женщину, свою любовницу, что онъ оскорбленъ и правъ, а Раскатовъ виноватъ: чего же еще? Да, наконецъ, могъ-ли я предположить, что дѣло дойдетъ до серьезнаго поединка? Столкновеніе между Волынскимъ и Раскатовымь было грубо и требовало пороха, но приключилось совершенно случайно, – мнѣ казалось, что имъ не за что ненавидѣть другъ друга и, въ самомъ дѣлѣ, жаждать кровомщенія. До ссоры Волынскій и Раскатовъ были въ очень хорошихъ товарищескихъ отношеніяхъ: если не друзья, то, во всякомъ случаѣ, пріятели. Я ждалъ обычной водевильной дуэльки, съ выстрѣлами на воздухъ, съ шампанскимъ по примиреніи, съ брудершафтами, и пр., и пр.
Участвуя въ водевилѣ, я и велъ себя по-водевильному. Докторъ, тоже нашъ общій пріятель, до того былъ увѣренъ въ примиреніи, что даже опоздалъ къ дуэли: не стоитъ молъ спѣшить, столкуются. – Для чего намъ докторъ? – сухо возразилъ Волынскій, когда я указалъ ему, что – по правиламъ – дуэль не можетъ состояться. – Мы будемъ драться насмерть.
Я принялъ это, какъ громкую фразу. Когда дуэлянты сошлись на барьерѣ, я, съ улыбкой, предложилъ имъ протянуть другъ другу руки: дескать, подурачились, – и будетъ!
Раскатовъ былъ не прочь «выразить сожалѣніе». Но Волынскій оборвалъ меня на первомъ словѣ.
– Я не желаю никакихъ объясненій! никакихъ сожалѣній… даже извиненій! – крикнулъ онъ, – оставь меня! Поди, скажи Раскатову, что я буду стрѣлять въ него, какъ въ мишень.
Я никогда не слыхалъ болѣе страшнаго голоса, никогда не видалъ болѣе блѣднаго, исковерканнаго гнѣвомъ, лица, никогда не смотрѣлъ въ такіе сверкающіе глаза.
Я извинилъ бы Раскатову смерть Волынскаго, – не могъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, позволить убить себя! – если-бы не видалъ, съ какимъ ужаснымъ – скажу – животнымъ хладнокровіемъ наводилъ онъ на противника дуло пистолета.
– Для меня молъ безразлично: убитъ тебя, или оставить въ живыхъ, но такъ какъ ты самъ на это напрашиваешься, – я тебя убью.
Раскатовъ выстрѣлилъ. Волынскій упалъ навзничь и судорожно повелъ всѣмъ тѣломъ. Мы съ Брунновымъ бросились къ нему – онъ былъ мертвъ: пуля пробила ему сердце.
Раскатовъ приблизился къ мертвецу, взглянулъ ему въ лицо, поморщился, отвернулся и быстро зашагалъ за кусты, къ своей коляскѣ. Дорогою, онъ вспомнилъ о пистолетѣ, оставшемся у него въ рукахъ, и возвратился къ намъ; отдалъ оружіе Бруннову, еще разъ покосился на Волынскаго, дружески кивнулъ мнѣ и затѣмъ удалился. Я посмотрѣлъ вслѣдъ Раскатову: онъ шелъ твердой поступью, съ обычной молодцеватой выправкой, настоящимъ гвардейскимъ львомъ.
Мы подняли трупъ. Лужа крови пятномъ чернѣла на желтой осенней травѣ. Тѣло Волынскаго тяжело повисло на моихъ рукахъ окровавленными плечами; оно быстро холодѣло, и мнѣ трудно было бороться съ отвращеніемъ къ этому остыванію. Съ помощью Бруннова, я всунулъ кое-какъ трупъ въ карету и самъ сѣлъ съ нимъ. Брунновъ сробѣлъ и, подъ предлогомъ, будто ему дурно, взобрался на козлы. Лошади, почуявъ кровь, храпѣли, косили глазами, были готовы понести. Кучеръ Вавила машинально удержалъ ихъ, но совсѣмъ потерялся и все твердилъ:
– Господи, помилуй! Этакій хорошій баринъ, и вдругъ столь скоропостижно скончались!
Я спустилъ оконныя шторы и остался въ синемъ полумракѣ, наединѣ съ убитымъ. Дорога была тряская; тѣло, качаясь, подпрыгивало на подушкахъ сидѣлья. У меня было скверно на душѣ: дуэль, дѣйствительно, свершилась такъ «скоропостижно», что я не могъ сообразить, за какую нить ухватиться мыслью, чтобы прослѣдить ходъ событій… Мнѣ было очень жаль Волынскаго, жалостливыя мысли не слагались въ умѣ: въ головѣ съ нахальнымъ упорствомъ вертѣлся опереточный мотивъ, съ утра заброшенный въ мои уши прохожимъ шарманщикомъ.
Мы привезли тѣло на квартиру покойнаго. Антонина Павловна Ридель, женщина, за которую стрѣлялся Волынскій, не допустила меня приготовить ее къ печальному извѣстію: глаза мои выдали ей истину. Брунновъ и Вавила внесли Волынскаго. Антонина Павловна подошла къ трупу, опустилась на колѣни и смотрѣла въ мертвое лицо молча, безъ слезъ, словно недоумѣніе: какъ-же могла совершиться такая напрасная смерть? – задавило въ ней печаль. Мы тоже не смѣли говорить, да и что можно было сказать? Общее молчаніе тяжелымъ камнемъ легло на каждаго изъ насъ, и я почти обрадовался приходу полиціи. Пока составляли актъ, Антонина Павловна удалилась къ окну и устремила пристальный взоръ на улицу; плечи ея вздрагивали; наконецъ, она заплакала… Пріѣхалъ плацъ-адьютанть, объявилъ намъ съ Брунновымъ арестъ и увезъ къ коменданту. Не знаю, что было – тамъ, на квартирѣ – дальше.
Интересно мнѣ, какъ чувствуетъ себя теперь Раскатовъ? О чемъ-то думаетъ онъ, скучая на гауптвахтѣ? Раекаяніе ли его мучить? Жаль-ли ему погибшей жертвы? Я думаю, – ни то, ни другое, и живо представляю себѣ, какъ онъ сидитъ на жесткомъ арестантскомъ табуретѣ въ той самой непринужденной и бравой своей позѣ, что доставила ему въ салонахъ прозвище «le beau», крутить усы и размышляетъ:
– Ah, bête qu'était ce misérable Wolynsky! – пропалъ теперь мой билетъ на бенефисъ Зембрихъ!
II
Волынскій долженъ былъ драться, иначе выйти изъ положенія было нельзя. По крайней мѣрѣ, по понятіямъ нашего круга. Но – какъ подумаешь, что сыръ боръ загорѣлся изъ за… испанскаго короля! Волынскій говорилъ, что онъ – Альфонсъ XIII, а Раскатовъ – что Альфонсъ XII. Принесли календарь: Волынскій оказался правъ. Раскатовъ надулся. Въ чемъ то опять онъ ошибся и запутался. Волынскаго чортъ дернулъ посмѣяться:
– Ну, это тоже изъ исторіи Альфонсовъ!
Раскатовъ посмотрѣлъ на него звѣремъ и говорить, – чеканить каждый слогъ:
– Не всѣмъ же быть такимъ знатокамъ въ альфонсахъ, какъ ты.
Волынскій измѣнился въ лицѣ.
– Что ты хочешь сказать?
– То, что ты – когда и въ зеркало то смотришься – альфонса предъ собой видишь…
Волынскій на него бросился. Раскатовъ схватился за шашку. Но присутствующіе успѣли стать между ними и не допустили скандала.
«Альфонсъ» – скверная кличка, и надо быть или образцомъ христіанскаго незлобія, или мѣднымъ, нѣтъ, – мало: никкелированнымъ лбомъ, чтобы равнодушно расписаться въ ея полученіи. Да еще и кличка-то была не по шерсти, и полученіе не до адресу. Волынскій былъ… чѣмъ хотите, только не альфонсомъ. Свѣтъ зналъ наружность дѣла: Волынскій, полуразоренный виверъ, вступилъ въ открытую связь съ Антониной Павловной Ридель, женщиной очень богатой, на пятнадцать лѣтъ его старше, – и устами Раскатова бросилъ позорное обвиненіе. Подкладку дѣла свѣтъ не зналъ, да, впрочемъ, какъ это всегда бываетъ, и не хотѣлъ знать.
Я былъ съ Волынскимъ въ большой и хорошей дружбѣ. Это былъ человѣкъ съ золотымъ сердцемъ, не сумѣвшимъ отупѣть и зарости мохомъ даже среди той воистину безобразной жизни, въ какую съ самыхъ раннихъ лѣтъ толкнули его дрянное воспитаніе, наше милое товарищество и независимое состояніе. Характеръ у Волынскаго былъ восковой. Онъ годился рѣшительно на все, дурное и хорошее. Попади онъ съ самаго начала въ хорошія руки, – развился-бы дѣльнымъ и полезнымъ малымъ. Но его чуть не съ пятнадцати лѣтъ окружилъ и засосалъ въ свою тину омутъ богатой петербургской молодежи, сытой и бездѣльной… Въ этой растлѣнной средѣ что могло изъ него выйти, кромѣ эгоиста-вивера, прожигателя жизни съ двухъ концовъ? Какъ большинству молодыхъ людей, рано начавшихъ жить, Волынскому льстилъ его преждевременный успѣхъ въ качествѣ Донъ-Жуана и mauvais sujet'а. – И вотъ онъ игралъ, не умѣя играть, – пилъ, хмелѣя съ первой рюмки, – ухаживалъ за женщинами, которыя ему не нравились, – выкидывалъ всяческія глупости, самому потомъ противныя.
Но тому, у кого есть хоть какой-нибудь намекъ на внутренне содержаніе, мудрено истратить безъ оглядки всю свою молодость на карикатуры Сарданапалова пира, отдаться въ безвозвратное рабство ѣдѣ, пьянству, продажнымъ юбкамъ. Я помню время, кагда Волынскій, заскучавъ чуть не до душевной болѣзни, стремился обновить свою жизнь хоть какимъ-нибудь серьезнымъ началомъ, и съ лихорадочнымъ интересомъ хватался то за одно новое дѣло, то за другое.
Но, къ сожалѣнію, онъ не имѣлъ ни подготовки, ни привычки къ труду. Притомъ, какъ очень состоятельный человѣкъ, не могъ искатъ въ работѣ иной цѣли, кромѣ одной: убить докучное время. Онъ долженъ былъ сознаться, что не чувствуетъ интереса къ труду ради самаго труда, что всякое серьезное занятіе будетъ обращаться для него въ игрушку отъ нечего дѣлать, что, слѣдовательно, онъ и впредь осужденъ на ту-же, хмельную до пресыщенія, бездѣятельность.
Кому легко сдѣлать о себѣ такое открытіе – и утвердиться въ немъ? Словно самъ себѣ подписываешь приговоръ полной своей ненужности на землѣ. А что ненужно, зачѣмъ тому и быть? Ненуженъ, – и конецъ: убирайся прочь изъ жизни, очисти дорогу очередному изъ грядущаго поколѣнія… Много насъ, богатенькихъ Гамлетиковъ, заключило развитіе этого силлогизма револьверной пулей себѣ въ лобъ, а еще больше спилось съ круга и совсѣмъ утонуло въ грязи.
Волынскій былъ изъ самыхъ хрупкихъ Гамлетиковъ и, навѣрное, уже давно кончилъ-бы очень скверно, не подвернись ему какъ-разъ кстати, въ самое благое время, спасительница-любовь.
Когда Волынскій сошелся съ Антониной Павловной, ему минуло двадцать четыре года, а ей – уже тридцать девять лѣтъ. Разница огромная. Но, познакомившись съ Ридель, я нимало не удивился увлеченію моего друга.
Антонина Павловна – женщина классической красоты, настоящая Юнона: высокая, довольно полная, однако не утратившая ни стройности таліи, ни изящныхъ очертаній бюста. У нея кроткіе влажные глаза волоокой Геры и самыя нѣжныя и ласковыя уста во всемъ Петербургѣ.
Она превосходно одѣвается. Я не знаю женщины съ болѣе изящиыми манерами.
Исторія любви Волынскаго разсказана мнѣ имъ самимъ. Я напишу ее, какъ помню, его собственными словами.
Если выйдетъ аффектированно, не въ мѣру патетично, – не моя вина: онъ, вѣдь, и на самомъ дѣлѣ былъ аффектированный и лихорадочно-патетическій человѣкъ; простота и хладнокровіе были ему незнакомы.
* * *
«…Я познакомился съ Антониной у своей тетки Заневской. Случалось мнѣ встрѣчаться съ нею и въ другихъ домахъ. Я художнически преклонялся предъ красотой Антонины, чувствовалъ въ ней умное и доброе существо, и меня тянуло видѣть ее. Ни въ чьемъ иномъ обществѣ не дышалось мнѣ такъ легко, ни съ кѣмъ другимъ не бывалъ я болѣе откровеннымъ. Мы всѣ, молодежь, не прочь порисоваться и подчасъ навязать себѣ, шику ради, чортъ знаетъ какой характеръ. Но, когда Антонина говорила со мной, я, право, кажется, скорѣе вырвалъ-бы свой языкъ, чѣмъ позволилъ бы себѣ сказать ей неправду. Было такое время, что я самъ не подозрѣвалъ своей любви къ Антонинѣ. Для влюбленныхъ, мы стояли въ слишкомъ различныхъ условіяхъ жизни. Я – безпутный мальчишка, ничего не имѣющій за собою кромѣ состоянія и родового имени. Она – всѣмъ извѣстная и всѣми уважаемая femme d'esprit, дама-патронесса, почти уже зачислившая себя въ разрядъ старухъ. Въ Петербургѣ весьма скоро заговорили, будто я живу съ Ридель. Сперва я смѣялся, потомъ задумался: каковы, въ самомъ дѣлѣ, наши отношенія? По годамъ Риделъ почти могла быть мнѣ матерью, но я не чувствовалъ въ ней даже старшей сестры… Быть можетъ, дружба? Но развѣ есть дружба вообще, а между мужчиной и женщиной въ особенности? Притомъ, когда-же и какіе друзья занимали мое воображеніе, такъ упорно, чтобы грезиться мнѣ по ночамъ, чтобъ ихъ имена были моей первой мыслью поутру и послѣдней на сонъ грядущій? Ни для кого на свѣтѣ я ни на іоту не измѣнилъ-бы своего образа жизни, а послѣ знакомства съ Антониной я почти отсталъ оть кутежей и разошелся съ Zizi, между тѣмъ какъ всего недѣлю назадъ едва не поссорился изъ-за нея съ теткой Заневской. Это превращеніе сдѣлалось какъ-то само собою, непримѣтно. Всѣ качества, казавшіяся мнѣ въ женщинѣ идеальными, я поочередно видѣлъ въ своемъ воображеніи, представляя себѣ Антонину, и… Словомъ, пришлось-таки признать себя влюбленнымъ.
Въ одно изъ нашихъ свиданій Антонина приняла меня крайне сухо. Сплетни дошли до нея. Она высказала мнѣ, что, проживъ на свѣтѣ сорокъ лѣтъ съ безупречной репутаціей, ей поздно дѣлаться игрушкой злословія: я, какъ это ей ни грустно, долженъ прекратить свои посѣщенія.
Я сталъ защищаться и совсѣмъ неожиданно объяснился въ любви. Говорю „неожиданно“ потому, что за пять минутъ передъ тѣмъ я не рѣшался и подумать о такомъ смѣломъ шагѣ… Я говорилъ долго, сильно, страстно, и, когда кончилъ, Антонина сидѣла блѣдная, дрожащая, а въ глазахъ ея я прочиталъ, какъ сильно она меня любитъ и какъ боится любить.
– Вы также любите меня! Скажите мнѣ: да! – рѣзко сказалъ я.
– Это безуміе! – прошептала Антонина, – вы сами не знаете, что говорите.
– Я знаю, что люблю васъ!
– Вспомните, Иванъ Юрьевичъ, свои годы и мои!…
– Ваши годы!.. Вы моложе меня: вы чисты духомъ, вы мыслите, чувствуете, у васъ есть любимыя идеи, умныя занятія, полезныя цѣли, – жизнь ваша полна. Я пришелъ къ вамъ – съ испорченнымъ холоднымъ сердцемъ, съ пустою душей, пресыщенной и отравленной удовольствіями… Что же дѣлать, если жизнь одарила меня ими прежде, чѣмъ научила, какъ ихъ принимать! Удовольствіе съ дѣтства было моимъ міромъ. То былъ ничтожный міръ, не стоило въ немъ существовать, и я проклинаю его ничтожество! Я искалъ ему замѣны, въ разныя окна глядѣлъ на свѣтъ, но отовсюду видѣлъ его чуждымъ себѣ и понялъ, что не міръ ничтоженъ, а жалокъ и ненуженъ я, неумѣющій приспособиться къ нему и найти въ немъ свое мѣсто. И, значить, осталось мнѣ одно: махнуть на себя рукой, превратиться въ живого покойника, въ буйное и безпутное, но мертвое привидѣніе – вродѣ тѣхъ, какъ доказываютъ въ „Робертѣ“. Явились вы, – и точно свѣтъ внесли въ мою тьму! Ожилъ я съ вами. Пересталъ чувствовать себя напраснымъ и глупымъ. Прикажите мнѣ взяться за любое дѣло, – къ стыду моему, какое бы вы ни назвали, мнѣ, лѣнтяю и неучу, придется приниматься за него съ азбуки – и все-таки вѣрьте, оно будетъ по плечу мнѣ, если я стану работать до вашему желанію, съ вами, для васъ. Не отталкивайте меня!
И я приблизился къ Антонинѣ. Она, со страхомъ, отступила.
– Не подходите! – услыхалъ я ея шопотъ.
– Антонина Павловна!
– Я не смѣю ничего сказать вамъ… я не въ силахъ… Дайте мнѣ собраться съ мыслями! уйдите!
– Одно слово!…
– Я отвѣчу вамъ… но теперь, умоляю васъ, идите!.. Послѣ, послѣ…
Я поклонился и вышелъ. Вечеромъ я получилъ отъ Антонины письмо: „Долгъ запрещаетъ мнѣ писать вамъ, но я обѣщала отвѣтить, и пишу. Извините, если выйдетъ несвязно. Мысли мои разбрелись. Я думала о васъ. Вы правы: я люблю васъ, я еще настолько женщина, чтобы любить. Только довѣряя вашей чести, рѣшаюсь я да эти безумныя строки. Я всегда презирала пожилыхъ женщинъ, увлекающихся соблазнами поздней любви. Теперь я презираю себя. Я никогда не буду принадлежать вамъ: это позоръ. Не подозрѣвайте меня, будто я боюсь свѣта, – о, нѣтъ! за счастье быть вашей я перенесла бы его судъ! Но я не въ состояніи отдаться человѣку, не вѣря въ его любовь, а въ вашу вѣрить не могу: вы черезчуръ молоды для меня. Оставьте меня, забудьте. Ваше заблужденіе скоро пройдетъ, и, дастъ Богъ, вы найдете себѣ подругу до сердцу, достойную васъ, молодую. Не будемъ больше видѣться. Не пишите мнѣ, – я не хочу. Я люблю васъ и, повторяю, еще слишкомъ женщина. Ваше присутствіе, ваши слова растерзаютъ мнѣ сердце, потому что я хотѣла-бы вѣрить вамъ, а вѣрить нельзя. Въ мои годы, къ несчастью, могутъ еще любить, но уже не быть любимыми. Ваша А. P.“.
Я немедленно набросалъ отвѣтъ и послалъ Антонинѣ Павловнѣ. Съ часъ не возвращался мой человѣкъ. Наконецъ, мнѣ подали конвертъ, надписанный знакомымъ женскимъ почеркомъ. Внутри оказалось мое нераспечатанное письмо… На другой день я встрѣтилъ Антонину на Морской. Я собралъ весь остатокъ воли, чтобы говорить, по возможности, спокойно, и подошелъ къ Антонинѣ:
– Ваше письмо – бредъ! – сказалъ я, – я хочу быть счастливымъ… я добьюсь!
Она отвѣтила мнѣ умоляющимъ взглядомъ и – ни слова. Я продолжалъ:
– Счастье въ нашихъ рукахъ, зачѣмъ уступать его?
– Мы будемъ неправы…
– Передъ кѣмъ?
– Я – передъ вами, вы – предо мною, оба мы – передъ самими собой.
– Вы пишете, что не боитесь свѣта; не стыдитесь-же нашей любви!
– Я гордилась-бы ею, если-бы могла вѣрить.
– Узаконимъ ее и оправдаемъ себя передъ обществомъ: будьте моею женою.
– Никогда! Съ моей стороны было-бы нечестно налагать цѣпи на вашу молодость… Мнѣ сорокъ лѣтъ, а у васъ вся жизнь еще впереди.
– Антонина Павловна, вы губите меня!
– Я васъ спасаю!
Она отвернулась отъ меня и знакомъ подозвала свой экипажъ.
Цѣлую недѣлю затѣмъ я безпутничалъ, какъ никогда. Пьяный, я плакалъ. – Что за дурь нашла на тебя? – спрашивали меня пріятели, напиваясь на мой счетъ. Я ругался, но не проговаривался. Кутилъ-же я затѣмъ, что, трезваго, меня невыносимо тянуло къ Антонинѣ, а, хмелѣя, я былъ увѣренъ, что не пойду къ ней: никакія силы не заставили-бы меня показаться ей пьянымъ…
Однажды я, еще трезвый, безцѣльно, съ похмелья, бродилъ до Петербургу. На Николаевскомъ мосту меня окликнулъ Раскатовъ.
– Ты слышалъ? – сообщилъ онъ, – изъ Москвы телеграфировали: Алеша Алябьевъ застрѣлился.
Алябьевъ! Мой ближайшій другъ, одинъ изъ учителей моей сожженной молодости!
Мнѣ стало жутко… Въ своемъ тяжеломъ настроеніи, я принялъ это самоубійство за указаніе самому себѣ и, разставшись съ Раскатовымъ, въ раздумьи оперся на перила… Нева плавно выкатывалась изъ-подъ моста массивной сѣрой полосой. Уже темнѣло; накрапывалъ дождь; во мглѣ осеннихъ сумерекъ легко было соскользнуть въ рѣку… Я медлилъ, – и вдругъ мнѣ припомнился разсказъ, будто однажды, по случаю большого празднества, на этомъ самомъ мосту была такая давка, что чугунная рѣшетка не выдержала и рухнула въ воду, увлекая за собой много народа. Я живо представилъ себѣ страшную сцену, – слишкомъ живо: рѣзкій крикъ погибавшихъ такъ и зазвенѣлъ въ моихъ ушахъ… Я испугался и ушелъ отъ Невы. Призракъ смерти показался мнѣ черезчуръ чудовищнымъ… Я долженъ былъ спасаться отъ него, – и пошелъ искать спасенія у Антонины.
Мнѣ, отказали, но горничная не устояла противъ взятки и, за десять рублей, согласилась доложить. Не обо мнѣ, потому что принимать меня было ей строго запрещено, а о князѣ Батыевѣ, дальнемъ родственникѣ Антонины Павловны, который слёгка похожъ на меня лицомъ, фигурою же, настолько, что издали и въ сумеркахъ насъ трудно распознать. Говорятъ, будто онъ – сынъ стараго князя Батыева только по паспорту, а дѣйствительный виновникъ дней его – мой покойный и не весьма почтенный родитель. Я не далъ Антонинѣ времени открыть обманъ и вошелъ въ гостиную по пятамъ горничной, едва она начала докладывать. Антониза, одѣтая, какъ голубымъ облакомъ, въ мягко-складчатый пеплумъ стояла среди комнаты, со свѣчей въ рукѣ; она хотѣла скрыться отъ меня, не успѣла и теперь не знала, какъ быть. Ни я, ни она не привѣтствовали другъ друга, словно мы не разставались съ послѣдней встрѣчи. Антонина была сильно взволнована: щеки ея горѣли яркимъ румянцемъ… Мы долго молчали.
– Вы опять пришли! – тихо сказала Антонина.
Я молчалъ. Она поставила свѣчу на каминъ и протянула ко мнѣ руки:
– Зачѣмъ?!..
– Слушайте! – заговорилъ я, и самъ не узналъ своего голоса: онъ звучалъ низко, хрипѣлъ и обрывался, – слушайте! я знаю… я поступилъ нехорошо, придя къ вамъ. Но я пришелъ и приду опять, буду приходить къ вамъ, пока есть во мнѣ воля жить. Гоните меня, – я стану сторожить васъ на улицѣ. Перестанемъ говорить о любви, не будемъ вовсе говорить о любви, не будемъ вовсе говорить, если вы не хотите, но позвольте мнѣ видѣть васъ: безъ васъ мнѣ смерть.
– А развѣ мнѣ легче!?.
– Вамъ!.. Вы не любите!
– Нѣтъ, люблю, къ несчастью! Стыжусь, а люблю! Видитъ Богъ, три раза я была готова написать вамъ: „Придите. Я ваша!“ Я плакала, разрывая начатыя письма. Теперь я почти совладала съ собой… Я!.. Говорятъ, послѣдняя любовь опаснѣе первой. А моя любовь къ вамъ и первая, и послѣдняя любовь! Довольно-же намъ волновать другъ друга… Овладѣйте собою и не смущайте меня!
– Антониа Павловна! я говорилъ вамъ, какъ много можетъ дать мнѣ наша любовь. Теперь я не стану повторять вамъ ни своихъ плановъ, ни своихъ надеждъ, ни своихъ идеаловъ. Да у меня и нѣтъ никакихъ своихъ идеаловъ, – первый явился мнѣ вмѣстѣ съ вами. Что мое будущее?! Оставимъ его. Сжальтесь надо мною во имя настоящаго – ради насъ самихъ! За что мы, два независимыхъ существа, какъ будто боимся кого-то и безцѣльно вносимъ въ свою жизнь горечь ненужной разлуки?
– О, Боже мой!
– Антонина Павловна! не скрою отъ васъ: я не доброй волей пришелъ къ вамъ сегодня… Страхъ, да, страхъ выгналъ меня изъ дома. Смерть стоитъ за вашими дверями и ждетъ меня. Глупая, ненужная, безпощадная. Не думайте, чтобы я унизился до пошлости пугать васъ самоубійствомъ. О, нѣтъ! Я не пугаю, я самъ боюсь его, призрака смерти! Кровь леденѣетъ въ моихъ жилахъ, когда я думаю о концѣ… Во мнѣ нѣтъ силы жить, – и хочется жить! нѣтъ воли умирать – и надо умереть!.. Пощади же меня! Ты сильна, дѣятельна, полна жизни: я слабъ, жалокъ, я самъ себя стыжусь. Единственная моя сила въ тебѣ, чистая! прекрасная! любимая!
Антонина, сложа руки на груди, быстро ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, вздрагивая при каждомъ моемъ „ты“. Какъ дивно хороша была она! Ни разу чувственное желаніе не рождалось во мнѣ въ ея присутствіи. Не оттого-ли я и полюбилъ ее такъ крѣпко? Но теперь кровь бросилась мнѣ въ голову. Не помню, что еще говорилъ я. Антонина прервала меня движеніемъ руки… Помню лицо ея съ полузакрытыми глазами, съ прикушенной нижней губой, между тѣмъ, какъ верхняя вздрагивала, вздрагивала…
– Поклянись, что ты любишь меня! – съ усиліемъ выговорила она.
– Чѣмъ-же клясться? Тобой?! Я ни во что не вѣрю, кромѣ тебя!
Но Антонина уже не слушала меня и, заломивъ руки, восклицала:
– Господи! сдѣлай, чтобъ онъ говорилъ правду! сдѣлай!.. И, если онъ лжетъ, покарай не его, но меня за то, что я ему вѣрю!