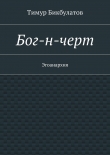Текст книги "Черт"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Александр Амфитеатров
Чорт
Из житейских встреч
Курьерский поезд мчал меня из Вены в Россию. Я взял путь на Краков, Львов и Волочиск. Сверх обыкновения, пассажиров ехало не много. Я оставался в купэ один до самаго Прэрау, где северная дорога императора Франца-Иосифа сходится с линией на Прагу. В Прэрау ко мне подсел попутчик, лица его я не мог хорошо разглядеть, – в вагоне стемнело, а когда в потолке купэ вспыхнул белый полушар электрическаго фонаря, спутник мой уже вытянулся во всю свою длину на свободном диване и громко храпел, укрытый с головою куньею шубкою. По шубке этой я решил, что мой дорожный компаньон – поляк из Галиции: немцы и чехи таких не носят. В Прэрау «поляка» провожала целая свита молодых людей, весьма почтительно обнаживших головы, когда поезд тронулся. Значит, особа не простая.
Под Краковом незнакомец проснулся и минут пять зевал так громко и широко, что я начал было серьезно опасаться за целость его челюстей. А тут еще навернулся в память старинный стишок на зеваку.
Во время оно
Кит проглотил Иону;
Не ты ль, Никита,
Проглотил кита?
Чтобы скрыть невольную улыбку, я прильнул лицом к окну и внимательно вглядывался в предразсветные сумерки, пока не привел себя в достаточно серьезное настроение. Оборачиваюсь наконец, – попутчик мой сидит, опершись покавалерийски, руками на колена, и любопытно смотрит на меня яркими глазами. Необычайная острота его взгляда поразила меня. Незнакомцу было на вид лет сорок пять, пожалуй, даже слишком; лицо – очень измятое жизнью, некрасивое и мало симпатичное, но запечатленное умом необыкновенным. В толпе вы заметили бы и выделили бы это лицо из десятков тысяч: настолько характерны были выпуклости лба у висков и крепкий хищный рот, с выдавшимися вперед челюстями. Незнакомец улыбнулся: ни у кого ни раньше, ни позже не видал я более зубатаго рта – совсем волчья пасть, полная острыми резцами и клыками. Да и весь-то мой попутчик, когда оскалился в улыбку, походил на лобастаго матераго волка, как изображен он Густавом Дорэ в иллюстрациях к сказкам Перро, когда облизывается на Красную Шапочку. За Краковом мы разговорились.
– Гдзе пан едзе, проше пана? – начал ликантропический спутник, учтиво наклоняя голову. Голос его был довольно мягок, но с хрипотцой, а манера говорить престранная: он точно лаял.
– В Киев.
Попутчик тотчас же перешел с польскаго языка на русский, или, вернее сказать, на русинское наречие. Когда я не понимал или он сам затруднялся найти подходящее к разговору слово, он переходил то на польский, то на немецкий язык.
– Вы галичанин? – спросил я.
– Н-нет… я живу в Германии… но Галиция – моя родина, по крайней мере, нравственная… мой любимый край…
Он опять оскалился, словно хотел проглотить свою излюбленную Галицию, и, замяв разговор о себе, принялся выспрашивать меня очень быстро и очень тонко, с манерою ловкаго и наблюдательнаго интервьюера, кто я такой, чем занимаюсь, выгодно ли литературное «ремесло» (он так и выразился) в России, какия газеты у нас больше в ходу, кого из иностранных писателей больше переводят, и кто из литературной молодежи входит в моду. С старою русскою литературою, кончая Тургеневым, он был знаком в совершенстве. О Чехове знал, хотя и не читал его. Об Альбове, Баранцевиче, Станюковиче, Потапенке, Мамине-Сибиряке и не слыхивал. От писателей разговор незаметно перескочил к литературным веяниям, к декадентам и символистам, а через них и к общему мистическому настроению последней четверти XIX века, который, наскучив тьмами низких истин, бросил в нас возвышающие обманы бредней теософических, спиритических, сатанических, родил Блаватскую и Пеладана, выдвинул вперед Данте Росетти и пре-рафаэлитов, и воцарил над сливками парижскаго и лондонскаго общества – здесь буддийскаго ламу, там – Вельзевула средневековых шабашей, тут – бичующаго себя четками трапписта… В России тогда эти веяния были еще внове, чуть зарождались, на западе же фантастическая эпидемия свирепствовала уже широко и настойчиво.
– Наклонность современнаго общества к необыкновенному, – сказал незнакомец, нагибаясь ко мне и светя мне прямо в глаза своими глазами-огоньками (при этом меня обдало тонкими английскими духами), – наклонность к необыкновенному смущает многих. Друзья государственнаго прогресса, работники практической цивилизации видят в европейской эпидемии супернатурализма зловещий признак реакции, поворота чуть не к средним векам. Я, конечно, не решусь оспаривать реакционнаго характера всех этих учений и увлечений. Папство и полицейское государство всегда ехали на чорте и на чуде, как на своих боевых конях. Но я не придаю современному супернатурализму серьезно влиятельнаго значения. Двести лет реалистическаго мышления нельзя заслонить ни козлиным хвостом сатаны с брокенскаго шабаша «в первый раз по возобновлении», ни медными божками с Тибета. Просто: мы немножко пересолили с реалистическою разсудочною последовательностью, устали, засохли и, так как человек, даже самый прозаический, всегда эстетик по натуре – ему захотелось, наконец, сверхъестественнаго дивертисмента… В наше время массы и личности, их составляющия, сделались удивительно похожими друг на друга. Прежде как-то было, что масса – одно, личность – другое, а теперь они одно и то же. Я говорю про их психологию. И вот сколько я ни наблюдал отдельные экземпляры увлечения сверхъестественным, ни разу я не видал такого увлечения в чистом виде, без скептической примеси: два века реалистической дисциплины сказываются, как видите! И, в общем, человек, пока не сошел с ума, гораздо легче разуверяется в необыкновенном, чем решается ему поверить… У меня близ Черновиц есть приятель – помещик, который, под особо-фантастическим настроением, вообразил себя своего рода Пигмалионом и готов был клясться, что его любит мраморная статуя… описывал даже свои свидания с нею… и статуя эта была вовсе не невинная и добродушная Галатея, но вампир какой-то… он весь изсох во время этой дикой иллюзорной любви, стал кашлять кровью… И что же? Год тому назад встречаю его в Берлине: здоров, как бык, женат на толстейшей немке, спорит о табачной монополии и ругает все необыкновенное, как прусский фельдфебель… Ха-ха-ха!..
– На эту тему есть, помнится, красивый разсказ у Захер-Мазоха, – заметил я.
Мой собеседник внимательно взглянул на меня.
– Может быть… не помню… А у вас читают Захер-Мазоха?
– Очень любят. И его и Эмиля Францоза.
– Кто вам больше нравится?
– Разумеется, Захер-Мазох. Незнакомец одобрительно закивал головою:
– И мне тоже. У вас есть вкус. И мне тоже… Он задумался.
– Скажите, – возобновил он разговор, – не замечали вы, что у каждой необыкновенной истории есть непременно два оборота, как у медали? Так – трагедия, так – водевиль. Так величаво – так глупо и пошло. Впрочем, – улыбнулся он, – иначе и быть не может: таков и сам отец всей сверхъестественной лжи – дьявол: то Сатана Байрона и Мильтона, то смешной чортик уличнаго Петрушки… Вы любите истории с чертями?
– Как вам сказать? Равнодушен к ним.
– Я разскажу вам случай, где чорт играл весьма трагическую роль и вел себя чортовски, хотя и горько поплатился за это…
Место действия здесь – на невысоких галицийских холмах, между которыми несет нас поезд.
Время, лет сорок, много пятьдесят тому назад. Я мог бы представить вам живых свидетелей происшествия.
Недалеко от Коломыи есть фольварк Цехинец. В ту пору он принадлежал пану… ну, положим, хоть Висловскому, помещику не из самых крупных, но с хорошим достатком и большим весом в округе. Жил и правил хозяйством Висловский по-старинному – настоящим польским патриархом-феодалом, но человек был добрый, с хлопами ладил и даже роковой 1840 год, когда столько галицийских панов погибло под ножами и в пожарах народнаго возстания, Висловскому не отозвался лихом. Память его и до сих пор в почете и между поляками, и между русскими. Висловский давно уже вдовел. Жил он в своем фольварке вдвоем с дочерью Стефою – шестнадцатилетнею красавицей, пышною и дикою, как лесной шиповник. Панну Стефу только что просватали за молодого графа, скажем, к примеру, Стембровскаго, в горы, верст за двести от Цехинца.
В один прекрасный полдень, знойный и мглистый, какие часто томят галичан в июле, когда курятся болота и выгорают поземными пожарами леса, Вавжинец[1]1
Лаврентий.
[Закрыть] Клюга, сын дьячка из униатскаго поселка, под самым Цехинцем, отправился в сад пана Висловскаго за очень привычным ему, но не совсем похвальным делом – красть яблоки.
Этот Вавжинец был оригинальный мальчишка – из поэтических уродцев, каких так любят описывать… – разсказчик усмехнулся, останавливая на мне со странною веселостью свои блестящие глаза, – так любят описывать помянутые вами сейчас Захер-Мазох и Францоз…
Природа наградила Вавжинца личиком ангела и телом дьяволенка, укоротив ему левую ногу против правой, хромота повлекла за собою кривобокость, и мальчик вырос горбуном. Как все уродцы, если они не злы и не идиоты, он отличался редкою музыкальностью и был большой мечтатель – охотник считать звезды и улетать мыслями за тридевять земель в тридесятое царство. Что касается его умственных способностей… их размер, я думаю, достаточно определен уже тою подробностью, что ему было восьмнадцать лет, а он лазил по чужим садам воровать яблоки с тем, чтобы ввечеру проигрывать их ребятишкам в бабки.
Вавжинец благополучно перебрался через каменную ограду сада пана Висловскаго – с полным пренебрежением к битому стеклу на ея гребешке: на подошвах, коленках и ладонях у него была верблюжья кожа. Он облюбовал два дерева и раздумывал, за какое приняться раньше, когда его окликнул голос «с неба»:
– Вот это хорошо! Пан Вавжинец Клюга изволит красть господския яблоки. Не заболела бы за то у мосьпана потылица.
У Вавжинца душа раздвоилась и ушла в пятки. Он закрыл глаза, чтобы не видать, по крайней мере, света в ту страшную минуту, как садовник схватит его за шиворот и поволочет пред грозныя очи самого пана Висловскаго; а там расправа короткая: лозаны, да какие! Но шиворот оставался свободным, садовник не появлялся, все было тихо, и… Вавжинец струсил еще больше. Он был готов думать, что голос раздался и впрямь с неба, – именно тот голос, о котором разсказывал ребятам в школе ксендз Игнац, будто он предостерегает людей, когда они замыслят дурное дело, о Всевидящем Оке. Вавжинец со страха накинул себе на голову мешок, в два прыжка очутился у стены и перемахнул бы через нее, если бы его не остановил смех – тоже с неба, но черезчур задорный, чтобы быть небесным. Он взглянул по направлению смеха и мигом успокоился: его дразнила с ветвей старой, густолиственной груши панна Стефа.
Панны Стефы Вавжинец ничуть не боялся, потому что она была девушка озорница, скорее способная помочь ему ограбить отцовский сад, чемъ выдать вора. В глухом Цехинце она росла, как трава, свободная, своевластная и буйная. Вавжинец в ранние детские годы игрывал с нею, и она колотила его, как всех своих сверстников. Однажды, на рожденье, он принес в подарок одиннадцатилетней Стефе пару перепелов. Девочка спутала пташкам ножки, потом выколола булавкою глаза и смеялась, глядя, как слепыя птички скачут наобум, безсильныя найти друг друга.
– А ты таки трусишка! – сказала панна Стефа, когда вдоволь насмеялась над Вавжинцом.
– Я было думал, что идет старый Януш, – оправдывался юный воришка. – А вы, панночка, дай вам Бог здоровья, что там делаете на груше?
– Учусь летать, – серьезно ответила панна Стефа. Вавжинец разинул рот:
– Гм… вот она какая штука!., a зачем бы я летал на вашем месте?
– Мне завидно твоей матери. Она, сказывают, каждую субботу летает верхом на помеле на шабаш…
Ничем нельзя было больнее уколоть Вавжинца, как назвать мать его ведьмою. А она действительно знахарила и слыла хорошею лекаркою на весь околоток. Кумушки давно породнили бабу Эльжбету с сатаною, и самое уродство Вавжинца, странное на их взгляд, потому что и Эльжбета славилась, в свое время, писаною красавицею, и муж ея дьячок, Вазыл, был молодец мужчина, – приписывали тихомолком бесовскому вмешательству в семейный союз Клюги. Вавжинец сам немножко верил, что мать его не без греха по колдовской части; он утешал себя только тем, что она, если и ведьма, то ведьма добрая – не как другия, и только лечит людей и скот, но никого не портит, не завязывает заломов на ржи, не выдаивает молока из чужих коров, не крадет ни росы с лугов, ни младенцев из беременных женщин. Он ничего не ответил на насмешку панны Стефы, насупился и глядел в землю.
– Правда, что ты чортов сын? – продолжала безжалостная девушка, наслаждаясь смущением юноши.
– Бог знает, что вы говорите, панночка, – с досадой отозвался Вавжинец. – Ну, как я могу быть чортовым сыном, когда я крещеный? Вот и крест на шее.
– Это ничего не значит. Хоть ты и крещеный, а отец у тебя все-таки не Вазыл, но чорт. И, когда тебя крестили, он разсердился и так толкнул попа под руку, что тот уронил тебя на костельный пол. Оттого у тебя и ноги хромыя, и горб на спине, и весь ты такой урод.
У Вавжинца стояли слезы в глазах.
– Уж лучше я уйду, чем слушать этакое, – сказал он, забрасывая мешок за спину. – Разве я виноват, что родился калекою? За что тут издеваться? Прощайте, панна Стефа, счастливо вам оставаться – на вашей груше!
– Куда же ты бежишь? – а яблоки, которыя ты пришел воровать?
– Пускай их пекельные бесы воруют!
– И отец твой с ними?!
Совсем обозленный Вавжинец бросился к стене, но панна Стефа громко крикнула ему:
– Ни с места, дрянь! Стой, когда велят. Не то я сейчас закричу: ловите вора… Распишут тебе спину…
Она смягчила голос:
– Больно некстати обидчив, пане Вавжинец Клюга. Экая важность, что я пошутила и назвала тебя чортовым сыном, а мать твою ведьмою. Да хоть бы и в самом деле ведьма… гм!.. может быть, я и сама ведьма.
– И хвост у вас есть? – язвительно спросил Вавжинец, уже несколько примиренный с барышнею, но все-таки мстя этим вопросом за свою обиду. Панна Стефа хладнокровно возразила:
– Нет. Да я еще молода. Авось, выростет.
Она захохотала, прибавив:
– Ну, как же не ведьма? Вот видишь, летать учусь.
– И скоро вы, панна Стефа, полетите?
– А вот, как ты отцепишь меня от груши, так я и полечу. И видя, что Вавжинец опять разинул рот, продолжала с сердитым взором и густым румянцем на щеках:
– Дурак! Слушаешь, развесив уши, мои небылицы, а не догадаешься, зачем я сижу на груше, точно кукушка, альбо бес, закоханый в вербу.[2]2
Местная пословица.
[Закрыть] Меня пришпилило суком за платье, и я не могу двинуться, потому что боюсь располосовать целое полотнище. И занесла же меня нелегкая на дерево в новом платье, только что из Львова… Помоги мне сойти.
Вавжинец вскарабкался на грушу и освободил новую Андромеду, так комически прикованную к сухому суку. Вдобавок к неловкости своего положения, Андромеда была нагружена несколькими десятками спелых грушек-малгужаток и не смела отнять руки от фартука, чтобы не разсыпать плодов. Но, соскакивая на землю, панна Стефа поскользнулась и едва не упала, груши дождем посыпались в траву. Стефа подумала, что это штуки Вавжинца, и вспыхнула:
– Вот тебе за это! – крикнула она и ударила горбуна по лицу.
Вавжинец и не думал уронить барышню. Получив ни за что, ни про что пощечину, он остолбенел, потом разсвирепел…
– Драться? Ладно же! Коли так, ешьте ваши груши! ешьте ваши груши!
И он пустился скакать по разсыпанным плодам, втаптывая их в землю. Теперь он действительно походил на дьяволенка. Панна Стефа была рослая, могучая девушка, с розовым лицом и с голубыми глазами, странно мутными под поволокою. Но, опомнившись от перваго изумления, она раскраснелась, как кумач, поволока сплыла с ея глаз, и они засверкали, как звезды.
– Ах, гаман! лайдак! поплатишься ты мне за это! – крикнула она.
Вавжинец очень хорошо помнил, по детским годам, тяжесть рук панны Стефы. Поэтому, когда она кинулась на него, он, не разсуждая, бросился наутек. Стефа мчалась за ним, стараясь отрезать ему перебег к стене. Тогда он повернул вглубь сада. Она долго не могла настичь Вавжинца и порою нагибалась, чтобы схватить с земли палое яблоко или кусок кирпича, и швыряла их в спину горбуна… Раза три она попала метко, и Вавжинец вскрикивал от боли. Это разсмешило панну Стефу, и ярость ея унялась; теперь она гналась за Вавжинцем, толкаемая уже не столько жаждою отплатить за дерзость, сколько увлечением самой погони, разгулявшимся инстинктом борьбы.
Панна Стефа бегала быстрее Вавжинца, но он был босиком, а она – в тяжелых башмаках. Долго кружили они по саду. Наконец, Вавжинцу удалось проюркнуть к стене. Он думал перемахнуть ее одним скачком, но сорвался, и в то же мгновение панна Стефа набежала на него и схватила его за плечи… Теперь они стояли лицом к лицу, задыхающиеся, красные, потные, сердито нахмуренные.
– Пустите меня; я не дам себя бить! – прошептал Вавжинец, глядя прямо в глаза барышни.
– Увидим, – тоже шепотом сказала панна Стефа и замахнулась.
Он перехватил ея руку, и между ними, одинаково сильными, завязалась немая борьба, как между двумя злыми зверятами. Панна Стефа подставила Вавжинцу ногу, он повалился, но, вместе с собою, уронил и ее. Они покатились в траве, грудь к груди и глаза к глазам. Озлобление у обоих прошло. Оба казались друг другу странными, и странною самая борьба, так непонятно приятная в мутном зное этого полдня, напитаннаго ароматами сырой земли, травы и созревших плодов…
Прошло три дня. Вавжинец ходил совсем шальной. До сих пор детский ум его внезапно просветился; он чувствовал себя взрослым и несчастным. С тех пор, как панна Стефа вырвалась из его объятий и, закрыв лицо руками, убежала в густой вишенник, жизнь горбуна потеряла всякий смысл: он не понимал себя и боялся людей. Боялся пана Висловскаго, боялся графа Стембровскаго, боялся и самой панны Стефы, которая, он был уверен, так оскорблена, что непременно погубит его… Три дня, с утра до вечера, он чувствовал себя то в петле, то под плетьми, то пан Висловский, привязав к дереву, к той самой проклятой груше, разстреливал его из ружья мелкою бекасинною дробью, то грабя Стембровский привязывал его к конскому хвосту, между тем как Стефа хлопает в ладони и злобно хохочет. И всех казней ему казалось еще мало для себя.
Однако, в фольварке все было спокойно… Мало-по-малу успокоился и Вавжинец. Происшедшее начало воображаться ему сном, таким страшным и опасным, что лучше бы о нем забыть.
Но однажды, когда он, устав полоть гряды, спал у себя на огороде, его разбудила, метко брошенная ему в голову, картофелина. Оглядевшись, он увидал над плетнем розовое лицо Стефы, с такими же ярко-звездистыми глазами, как тогда, в саду…
– Здравствуй, – сказала она.
Он молчал. Сердце его заколотилось, делалось трудно дышать, и он забоялся, что умрет на месте.
– Что же ты не приходишь больше в сад? – спросила Стефа. Он опять не ответил и только, не отрываясь, глядел на нее, точно кролик на гремучую змею. Стефа позвала:
– Поди сюда.
Когда Вавжинец приблизился, она, быстро осмотревшись, положила ему на плечи свои белыя руки и прильнула к его губам медлительнымъ и крепким поцелуем. У Вавжинца пошла кругом голова, мир повернулся вверх дном перед глазами, и он потерял память, давно ли тянется и опьяняет его этот поцелуй. И вдруг он охнул от острой жгучей боли… Стефа оторвала свои губы от его глубоко укушенных губ; струя крови бежала по его подбородку, две, три алыя капли остались на ея губах. Она смотрела на Вавжинца торжествующим взглядом – властным и жестоким: она видела, что он покорен ею, сломлен, растоптан, что он раб ея на всю жизнь. Она сняла руки с его плеч, перешла от плетня через тропинку к чужому плетню, соседскому и, не глядя более на Вавжинца, ощипывала белорозовую павилику… И опять между ними не было сказано ни одного слова. Наконец, она сухо приказала:
– Ты проводишь меня в Цехинец.
С этого вечера жизнь Вавжинца и Стефы полетела вихрем в чаду потайных свиданий; роман их не мог тянуться долго: в сентябре ожидали графа Стембровскаго, который облаживал свои кредитныя делишки с жидами в Вене, и вслед за его приездом должна была состояться свадьба Стефы. Ни Стефа, ни Вавжинец не думали о том, чтобы противодействовать этой свадьбе: как для всего Цехинца, так и для них она была делом роковым и неизменимым, для всех желательным и решительным безповоротно. Abgemacht, как говорят немцы.
– Когда ты выйдешь за графа, я утоплюсь, – спокойно говорил Вавжинец.
Стефа презрительно пожимала плечами.
– Ну, вот еще!..
– Ты не веришь?
– Нет, верю… только это будет глупо.
– Почему глупо?
– Не стоит.
– Ты думаешь?
– Я думаю, что я не стала бы топиться, если бы ты женился, – с какой же стати топиться тебе, когда я выйду замуж?
Под угрозою короткаго срока они наполняли свою любовь всем разнообразием, какое способно породить это чувство, всем счастием и всеми муками страсти. Между ними происходили ужасныя ссоры, кончавшияся безумными объятиями, – насмешки, брань и драка, которыя разменивались на поцелуи.
– За что ты меня полюбила? – спрашивал Вавжинец.
Стефа презрительно отвечала:
– За то, что ты дурак, а дуракам счастье.
– Я вовсе не дурак, – обиделся Вавжинец.
Стефа смеряла его долгим, любопытным взглядом.
– Не дурак?.. Тем хуже для тебя…
– Ну, нет: мне больше нравится быть умным.
– Чем ты будешь умнее, тем больнее будет тебе, когда я тебя брошу. Желай лучше вовсе одуреть, пока я еще с тобою и могу помочь тебе… потерять разум.
Но в другой раз она сама сказала ему, лежа на его коленях своею прекрасною головою:
– Я люблю тебя за то, что я красавица, а ты зверь. За то, что ты нищий горбун, за то, что ты ходишь босиком, за то, что ты груб со мною, как хлоп со своею хлопкою, я люблю тебя за то, что тебя не за что любить. А еще я люблю тебя за то, что, если бы мой отец подозревал, что я с тобой здесь, на этом сеновале, он запер бы двери сюда вон тем тяжелым замком и своею рукою зажег бы сарай со всех четырех углов. И вот бы когда, вот бы когда ты узнал, как я умею любить и целовать… Ты не пожалел бы жизни и умер бы счастливый…
Глаза ея дико блестели:
– Я люблю тебя за то, что унижаю себя, отдаваясь тебе, за то, что мы обкрадываем моего жениха, котораго я заранее ненавижу, зачем он на мне женится, и мне прочитают в костеле, что я должна его бояться… Как я буду смеяться его чванству и важности, когда буду вспоминать тебя… Ха-ха-ха! то-то рога торчать у ясновельможнаго пана графа под его короною. У твоего отца-чорта – не длиннее! Я люблю тебя за то, что я сумасшедшая, и часто сама не знаю, чего больше хочу – целовать тебя или зарезать… чтобы текла кровь… много-много крови… И… ах, зачем ты в самом деле не чортов сын? Тогда я любила бы тебя еще больше…
Стембровский приехал. Перед свадьбою – на последнем свидании с Вавжинцем – Стефа сухо и холодно приказала ему раз навсегда выкинуть ее из памяти, никогда не попадаться ей на глаза и в особенности, Боже сохрани, когда либо хоть намеком обмолвиться о прошлых их отношениях.
– Я достану тебя везде, всегда, – говорила она, стиснув свои острые белые зубы, – и ты знаешь меня, знаешь и то, что я всегда добуду себе людей, которые за одну мою улыбку с радостью пойдут на эшафот. …Я прикажу содрать с тебя, с живого, кожу, – и сдерут.
Вавжинец – синий, как мертвец – почти не слыхал ея угроз. Он безсмысленно повторял:
– Не безпокойтесь, панна Стефа… я знаю свое место… я знаю свое место.
Когда панну Стефу обвенчали, и борзые кони уносили молодых Стембровских из Цехинца в их далекий замок, Вавжинец замешался в толпу челяди, собравшейся во дворе фольварка. В воротах лошади чего-то испугались, вышла сумятица, давка, и один человек попал под колеса. Этот человек был Вавжинец. Графиня Стефа сидела в карете, бледная, как полотно, но даже не взглянула на раненаго, когда его, безчувственнаго, с разбитою головою и переломанными руками, проносили мимо.
Говорят, что битая посуда и гнилая верба живут два века. Как ни тяжело был изранен Вавжинец, он выжил: лекарка-мать его выходила… A затем он пропал изъ Цехинца – и след его простыл.
Молодая графиня жила с мужем согласно. Семь месяцев спустя после свадьбы, она оступилась и упала с невысокой лестницы как раз во время, чтобы вслед затем преждевременно разрешиться от бремени мальчиком, – с заметно искривленным позвоночным хребтом. Доктора сказали, что ребенок жизнеспособен, но обещает быть хромым и горбатым. Граф был очень огорчен, графиня – равнодушна. Новорожденнаго назвали Феликсом и пририсовали новый кружок к родословному древу: граф Феликс Алоиз Стембровский, anno domini 185… Затем в палаце графа совершились чудеса.
В один весьма скверный апрельский вечер, холодный и дождливый, в детской, где спал маленький граф, надо было затопить камин. Пламя весело разгорелось и собрало к себе весь женский штат, приставленный к надежде рода Стембровских: няньку, мамку и двух поднянек-девчонок. Камин отпылал… тлели одни красные уголья, медленно покрываясь белою золою. Прислуга болтала… Вдруг одна из поднянек завизжала не человеческим голосом и – вытаращенными глазами и трясущимся пальцем указала на камин: из трубы медленно спускались чьи-то безобразныя, синия ноги… Ноги эти безбоязненно ступили на угли и – на глазах онемевшаго от ужаса женскаго собрания – из камина вылез чорт.
Не обращая внимания на баб, чорт проковылял к колыбели графчика.
– Это мое! – сказал он осиплым голосом, взял спеленатаго ребенка на руки и исчез с ним в трубе: как пришел, так и ушел.
Мамка повалилась в обморок; нянька впала в истерику; из девчонок одна забилась в угол за шкафом и, будучи не в силах сказать хоть слово, тряслась всем телом, не попадая зубом на зуб; другая, наоборот, металась по детской, с отчаянным безтолковым криком… Прошло не менее четверти часа прежде, чем добились от них, в чем дело. Графа-отца, как нарочно, не было дома. Что касается графини, она казалась скорее разгневанною, чем изумленною… Прислуга смотрела на нее с ужасом и за спиною госпожи открещивалась: уродство графчика, появление чорта и его властное «это мое» были приведены суеверною дворнею в систему, – и графиня Стефания, в общем мнении – равно и крестьян, и панов-соседей, превратилась в злобную ведьму… о ней пошли те же сплетни, что о бабе Эльжбете, матери горемычнаго Вавжинца…
Нечего говорить, что исчезнувшаго в объятиях чорта графчика принялись розыскивать, как только опомнились от возбуждения первой суматохи… Напрасно, – дьявол не оставил по себе ни одного следа.
Приехал граф-отец. Он далеко не был вольнодумцем, верил в чорта, как истинный католик, – однако верил отвлеченно, то есть, что есть где-то он, анафема, на свете – с хвостом, рогами и копытами, и пакостит исподтишка добрым людям; но чтобы чорт, in persona, мог явиться в замок его, графа Стембровскаго, и утащить его собственнаго графскаго ребенка, – этому он решительно не поверил. Не поверил и тому, что жена его ведьма, и прикрикнул на добродушнаго старика-ксендза, когда тот вздумал было советовать ему – попытать, твердо ли ясновельможная пани привержена к христианской вере.
– Бог знает, что вы мелете, отец! Не у вас ли она исповедуется каждую неделю? И не вы ли сами допускали ее до святых таин? Коли она ведьма, так и вы колдун… Нет, нет, тут какия-то шашни! и я выведу их на свежую воду!..
Он сделал жене резкую сцену. Но голубые глаза Стефы совсем помутились и оглупели под поволокою, когда граф накинулся на нее с требованием объяснений. Недоумело слушая вопли и ругательства супруга, она только пожимала плечами да повторяла:
– Я-то здесь причем? Я-то что могу знать?
Граф почувствовал, что он смешон, и оставил графиню в покое…
Кто хорошо ищет, в конце концов свое находит. Граф напал на след «чорта»: кое-кто из холопов встретили в ночь, как пропал графчик Феликс, на большой дороге уродливую фигурку, с ношею под армяком… Сведя несколько таких показаний вместе, граф определил направление, куда удалился чорт, и энергично взялся за розыск…
Разсказывать, как он искал чорта, я вам не буду: долго, да и не в том суть, как он искал, – важно, что нашел. Нашел при избушке на курьих ножках, одиноко брошенной среди забытаго смолокуреннаго майдана, каких многое – множество в галицийских лесах, тогда почти девсгвенных.
Граф был один – с ружьем и собакою. Чутье пса и вывело его к лесной хижине, где поселился чорт. Сквозь ветви граф отлично разглядел нечистаго своим охотничьим глазом: то был горбунчик, с запачканою рожею; он, в прихромку скакал перед избушкою, напевая:
Лыковые лапотки,
Суконныя покромочки…
Он держал на руках и тетешкал ребенка! Граф признал шолковое одеяло своего сына. Взяв ружье на, прицел, он двинулся на чорта… чорт все еще пел свои
Лыковые лапотки,
Суконныя покромочки…
но, заслышав шорох ветвей, обернулся… и увидал графа. Он страшно выпучил глаза. Секунды две, три враги молча смотрели друг на друга, словно удивляясь один другому. Потом чорт положил ребенка на траву и, подняв с земли ружье, тоже прицелился… Тогда граф выстрелил. Чорт повалился навзничь в траву: пуля хлопнула его прямо в сердце. Граф подошел к убитому; черты трупа показались ему знакомыми.
– Где я видел этого мерзавца? и чем его обидел, что он вздумал красть моего сына? – ломал он себе голову, пока на звук его рога не сошлись разсыпанные по лесу егеря.
– Да это горбунъ Вавжинец Клюга, из-под Цехинца! – воскликнул один из егерей, бывший с графом на его свадьбе в фольварке пана Висловскаго.
В самом деле это был он…
Граф взял найденнаго Феликса на руки, хотел его поцеловать, но… вдруг страшно побледнел и, передав мальчика ближнему егерю, приказал с отвращением:
– Возьми его, неси домой! У меня руки не тверды… после этого!
Он указал на труп.
Всю дорогу, пока добрели до замка, у графа тряслась нижняя челюсть и ходили судорогою руки. Он вспомнил Вавжинца, вспомнил, как уродец ни с того, ни с сего бросился под колеса его свадебной кареты, прикинул в уме преждевременное рождение Феликса, сравнил искривленное тельце ребенка с трупом убитаго горбуна и понял необъяснимую охоту чорта стащить младенца-графчика… В замке он, прежде – всего, снял со стены тяжелую казацкую нагайку и, не сказав никому ни одного слова, прошел к графине. Получасом позже он вышел из ея спальни, багровый, шатаясь… сорванным голосом приказал закладывать лошадей и ускакал в город к судье заявить о совершенном им убийстве Вавжинца…
Графиню Стефу нашли в спальне едва живою. Графская нагайка превратила тело ея в сплошной синяк; губы были расплющены в лепешку; левый глаз мотался мертвым студнем по щеке… Оскорбленный муж оказался в расправе своей настоящим татарином. Обвинять ли его за жестокость? Не знаю. Кто поручится, что, при подобных обстоятельствах, мы с вами не поступили бы так же или даже еще хуже? По суду граф был оправдан, как убийца невольный, – признали, что он застрелил Вавжинца по необходимости, чтобы самому не погибнуть от разбойника, убитаго с оружием в руках. Эпизод похищения чортом графскаго ребенка замяли, во избежание громкаго скандала: теперь он был уж слишком объясним и прозрачен. Немедленно, по оправдании своем, граф развелся с Стефою, взяв на себя вину и обещаясь платить графине крупную ежегодную пенсию, с тем, чтобы Стефа убиралась из Галиции навсегда и куда хочет, только подальше: Она переселилась в русскую Польшу в Варшаву, и, говорят, пустилась там во все тяжкия.