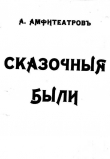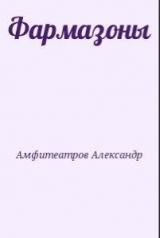
Текст книги "Фармазоны"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Александръ Амфитеатровъ
Фармазоны
Я ѣхалъ курьерскимъ поѣздомъ изъ Москвы въ Петербургъ. Въ вагонѣ было пустовато. Ближайшимъ ко мнѣ сосѣдомъ по креслу оказался бравый мужчина, лѣтъ подъ пятьдесятъ, широкоплечій, усатый, съ краснымъ загорѣлымъ лицомъ и богатырскою грудью. Разговорились. Оказался средней руки землевладѣльцемъ Н – ской губерніи, а прежде служилъ въ гусарахъ, дослужился до ротмистра и вышелъ въ отставку. Хозяйничаетъ, женатъ, имѣетъ кучу дѣтей и, – о, диво, истинно дворянское диво! – ни гроша долга, хотя, какъ самъ признается, «смолоду было бито-граблено».
– Зато теперь ужъ… ни-ни! Не пью, курить бросилъ, а – что до женщинъ, такъ, будучи женатымъ на моей свѣтъ-Натальѣ Александровнѣ, не имѣю времени даже вспомнить: существуютъ ли, кромѣ нея, на землѣ другія представительницы прекраснаго пола? Такъ-то-съ. А было, всего было… Однако, не всхрапнутъ ли? Уже первый часъ…
Онъ вынулъ часы, на цѣпочкѣ, обремененной множествомъ брелоковъ. Въ числѣ ихъ бросилась въ глаза огромная золотая монета незнакомой, иностранной чеканки.
– Что это у васъ? – заинтересовался я.
– Это? Ха-х-ха! Фармазонскій рубль! Слыхали? Шучу: старый мексиканскій долларъ. Рѣдкостная штука. Я думаю, во всей Россіи только въ нашей семьѣ и имѣется. У меня, у брата Пети, брата Володи, брата Сенички, брата Федички, брата Мити, брата Герасима, брата Тита, брата Онисима… Какъ увидите у кого на пузѣ этакую златницу, такъ и знайте: Жряховъ, значитъ. Хе-хе-хе! фармазоны! Я брата Онисима двадцать лѣтъ не видалъ. Иду по Невскому: навстрѣчу – рамоли, еле ноги движетъ, и на жилетѣ – долларъ этотъ. – Извините, говорю, милостивый государь, съ кѣмъ именно изъ братьевъ моихъ, Жряховыхъ, имѣю удовольствіе? – Я, отвѣчаетъ, Онисимъ. А ты кто же? Ванечка или Вольдемаръ?.. Вотъ-съ, фармазонство какое!
И, лукаво посмѣиваясь, онъ вытянулся на креслѣ во весь свой богатырскій ростъ, закинулъ руки за голову, смежилъ очи и почти моментально заснулъ, съ хитрою улыбкою на губахъ.
Утромъ, проснувшись подъ Вишерою, слышу громкую бесѣду. Говорили вчерашній спутникъ со «златницею» и новый пассажиръ, сѣвшій ночью гдѣ-то на промежуточной станціи, – юный, упитанный щеголекъ, съ очень хорошими, барственными манерами. Первое, что привлекло мое вниманіе, когда я осматривалъ пришельца, точь въ точь такой же брелокъ-златница, что и у Жряхова, эффектно вывѣшенный на цвѣтномъ жилетѣ. Жряховъ пучилъ глаза на златницу незнакомца, видимо недоумѣвающій и сбитый съ толку.
– Позвольте-съ, – гудѣлъ его густой голосъ, – вы слово, честное дворянское слово даете мнѣ, что вы не изъ Жряховыхъ?
– Странный вы человѣкъ! – отзывался ему веселый теноръ, – говорю же вамъ: Ергаевъ Вадимъ, Ергаевъ моя фамилія, а съ Жряховыми ничего общаго не имѣго.
– Непостижимо!
– Слыхалъ, что есть такіе помѣщики въ нашемъ уѣздѣ. Только изъ нихъ никто уже въ этомъ имѣньи не живетъ. Купецъ какой-то арендуетъ.
– Вѣрно-съ… Но въ такомъ случаѣ… удивительно-съ!.. Откуда же это у васъ?.. Быть не можетъ!.. Удивительно!
Бормоча такія безтолковыя восклицанія, Жряховъ продолжалъ таращиться на юношу, облизывалъ губы языкомъ, щипалъ себя за усы, воздымалъ плечи къ ушамъ, – вообще, видимо, сгоралъ отъ нетерпѣливаго любопытства предъ какою-то сомнительною загадкою или мистификаціей… И, наконецъ, вдругъ выпалилъ густымъ басомъ, глядя пассажиру прямо въ глаза:
– Стало быть, Клавдія-то Карловна жива еще?
Юноша удивленно раскрылъ ротъ, странно дрыгнулъ ножкою и протянулъ медленно и въ носъ:
– Жи-и-ива… А вы ее знаете?
– Гм… знаю ли я ее? – съ ожесточеніемъ и даже какъ бы обидясь, воскликнулъ Жряховъ. – Кому же ее и знать, какъ не мнѣ? Ивану Жряхову! Всѣмъ намъ, Жряховымъ, благодѣтельница, пуще матери родной!.. Да! я могу ее знать! Клавдія Карловна нашего времени человѣкъ. Но вотъ, какъ вы ее изволите знать, – это, признаюсь, мнѣ весьма удивительно: вѣдь ей, по самому дамскому счету, сейчасъ за пятьдесятъ… Куда! къ шестидесяти близко!..
Юноша опять конфузливо дрыгнулъ ножкою и, слегка усиливъ розовыя краски на своемъ сытомъ личикѣ, возразилъ:
– Неужели? Я бы ей и сорока не далъ. Удивительно сохранилась!
Жряховъ внезапно фыркнулъ и закатился смѣхомъ. Глядя на него, засмѣялся и – сначала изумленный и даже готовый обидѣться – юноша.
– О… о… отъ нея? – съ трудомъ пересиливая смѣхъ, выговорилъ Жряховъ, коснувшись указательнымъ перстомъ златницы спутника. Тотъ неопредѣленно пожалъ плечами. Жряховъ залился еще пуще.
– А говорили… ничего общаго!.. – лепеталъ онъ, вытирая выступившія слезы, – нѣтъ, батюшка! Кто симъ отмѣченъ, въ томъ… хо-хо-хо!.. стало быть, есть жряховское! есть! Хо-хо-хо! Фармазоны! Такъ сохранилась, говорите? Ахъ, чортъ ее подери!
– Клавдія Карловна – препочтенная дама, – серьезно сказалъ юноша. – Въ нашемъ захолустьи она просто – фениксъ. Мы бы погибли, спились безъ нея. Вѣдь отъ этой провинціальной скуки чортъ знаетъ, до чего можно дойти. Хоть пулю въ лобъ – иной разъ, а вотъ Застъ на кухаркиной сестрѣ спьяну женился. Скажу вамъ откровенно: безъ Клавдіи Карловны я самъ не знаю, что со мною было бы… Изъ университета я удаленъ за «исторію», пріѣхалъ подъ надзоръ, тоска, хандра, не до работы, кругомъ пьянство, развратъ, – ну, знаете, съ волками жить по-волчьи выть… пропалъ бы, кабы не Клавдія Карловна.
Жряховъ одобрительно кивалъ головою.
– Что говорить! – согласился онъ, – сколько ей нашего брата, дворянъ, спасеніемъ обязано, – даже удивленія достойно. Только я до сей поры полагалъ, что она исключительно нашъ жряховскій родъ, по многочисленности онаго, спасла, а теперь вижу, что стала выступать и въ другія фамиліи. Вы, г. Ергаевъ, давно ли изволили гостить у Клавдіи Карловны?
– Лѣтомъ 1897-го года.
– Такъ-съ. А я лѣтомъ 1875-го. Разныхъ выпусковъ, стало быть.
И бѣшеный смѣхъ снова овладѣлъ имъ. Юноша тоже загоготалъ.
– Господа, – сказалъ я, – вы такъ заразительно смѣетесь, что слушать завидно. А, судя по громкому вашему разговору, – то, чему смѣетесь, не секретъ. Не будьте эгоистами: дайте повеселиться и мнѣ, бѣдному, скучающему попутчику.
– Съ удовольствіемъ, – сказалъ Жряховъ.
– Ничего не имѣю противъ, – прохихикалъ юноша.
– Видите ли, – началъ Жряховъ, уѣздъ, гдѣ я родился, – и вотъ гдѣ они, – кивнулъ онъ на юношу, – теперь жительствуютъ, медвѣжій уголъ. Тамъ и желѣзная дорога-то недавно прошла – всего лѣтъ десять, какъ зацѣпилась вѣткою за Николаевку. Дворянства, въ мое время, сидѣло еще по усадьбамъ много, только, по захолустной скукѣ, всѣ такъ между собою перероднились, что во всемъ уѣздѣ не стало ни жениховъ, ни невѣстъ, – все кузины, да кузены: никакой попъ вѣнчать не станетъ. Ладно-съ. Любвей, стало быть, нема, а безъ любвей – какая же и общественность? Старикамъ хорошо: водки выпить, въ карты поиграть, а молодому человѣку это – тьфу! рано! ему романическое подавай, съ чувствами. И, такъ какъ въ романическомъ была у насъ, молодыхъ дворянъ, большая убыль, – ибо сосѣдскія барышни, зная, что мы не женихи, пребывали къ намъ весьма холодны и готовы были промѣнять всѣхъ насъ гуртомъ на любого франта изъ другихъ уѣздовъ, только бы не былъ кузенъ, – то впадали мы въ холостую тоску, а чрезъ нее въ огорчительные для родителей и пагубные поступки.
Юноша вдругъ фыркнулъ. Жряховъ пріятно на него уставился:
– Что вы-съ?
– Н-и-ничего… я вспомнилъ… продолжайте…
– Родитель мой, Авксентій Николаевичъ Жряховъ, и родительница, Марья Семеновна, были люди строгіе, богобоязненные. Дѣтей имѣли множество и дрожали надъ ними трепетно. А сынки, то-есть я и братцы мои, удались, какъ нарочно, сорванецъ на сорванцѣ, умы буйные, страсти пылкія… И вотъ-съ, – тонко улыбнулся разсказчикъ, – вспоминаю я изъ дѣтства моего такую картину. Пріѣхалъ изъ корпуса на побывку братъ Онисимъ. Мнѣ тогда годовъ девять было, а ему семнадцать, восемнадцатый. Парень – буря-бурею… Н-ну… Живетъ недѣлю, другую. Вдругъ, въ одинъ прекрасный день – катастрофа… Онисимъ – словно туча; горничная Малаша – вся въ слезахъ; мать ея, скотинца, вопитъ, что кого то погубили и такъ она не оставитъ, пойдеть до самого губернатора; маменька валяется въ обморокахъ и кричитъ, что Онисимъ ей не сынъ и видѣть она его, безпутнаго, но хочетъ: а папенька ходитъ по кабинету, палитъ трубку, разводитъ руками и бормочетъ:
– Что-жъ подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Человѣкъ молодой. Законъ природы, законъ природы!
Малашѣ дали сто рублей и убрали ея изъ дома, но… недѣли двѣ спустя, въ слезахъ была прачка Устя, и про походъ къ губернатору вопила Устина тетка. Еще черезъ недѣлю – Груша съ деревни, и Грушинъ отецъ явился въ усадьбу съ преогромнымъ коломъ. Съ березовымъ-съ. Положеніе становилось серьезно. Папенька съ маменькою, хотя люди достаточные, однако не фабриковали фальшивыхъ бумажекъ, чтобы съ легкостью располагать сторублевками. А ихъ, судя по энергіи брата Онисима и обилію крестьянскихъ дѣвицъ въ околоткѣ, надо было заготовитъ преогромный запасъ. Чувствуя себя безсильною предъ сыновнимъ фатумомъ, мамаша продолжала рыдать, проклинать и падать въ обмороки, а папаша – куритъ трубку и разсуждать:
– Что-жъ подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Законъ природы!
И вотъ тутъ-то впервые слетѣлъ къ намъ съ небеси ангель-избавитель, въ лицѣ Клавдіи Карловны.
Она тогда всего лишь третій годъ овдовѣла и жила строго-строго. Ѣздила въ далекіе монастыри Богу молиться, платья носила темныхъ цвѣтовъ, манеры скромныя, изъ себя – картина. Блондинка, на щекахъ розы, глаза голубые на выкатѣ, лучистые этакіе, ростъ, фигура, атуры… заглядѣнье! Вотъ-съ, пріѣзжаетъ она къ намъ, по сосѣдству, въ гости-съ. Маменька ей, конечно, всю суть души и возрыдала. Клавдія Карловна – ангелъ она! – большое участіе выказала… даже разгорячилась и въ румянецъ взошла.
– Позвольте, – говоритъ, – Марья Семеновна, покажите мнѣ этого безнравственнаго молодого человѣка!
– Охъ, – маменька отвѣчаетъ, – душенька Клавдія Карловна! Мнѣ этого негодяя совѣстно даже и выводить-то къ добрымъ людямъ.
Однако, послала за братомъ Онисимомъ. Осмотрѣла его Клавдія Карловна внимательно. Ну, – гдѣ учитесь? да любите ли вы свое начальство? да начальство вами довольно ли? да зачѣмъ вы огорчаете маменьку? да маменька вамъ – мать родная… Словомъ, вся бабья нравоучительная канитель, по порядку, какъ быть надлежитъ.
Юноша Ергаевъ опять захихикалъ.
– Было-съ? – кротко обратился къ нему Жряховъ.
– Какъ на фотографіи! – раскатился тотъ.
– Отпустили Онисима дамы. Клавдія Карловна и говоритъ мамашѣ:
– Что хотите, душечка Марья Семеновна, а онъ не безнравственный!
– Душечка, безнравственный!
– Ахъ, не безнравственный!
– Милочка, безнравственный!
– Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! не повѣрю, не могу повѣрить! Быть не можетъ. Такой пріятный мальчикъ, и вдругъ безнравственный!
– Душечка, Малашкѣ – сто, да Устюшкѣ – сто, да Грушкинъ отецъ – съ березовымъ коломъ. Пришлось бы вамъ колъ-то увидать, такъ повѣрили-бъ, что безнравственный!
Задумалась Клавдія Карловна и вдругъ – съ вдохновеніемъ этакимъ, въ очахъ-то голубыхъ:
– Вся эта его безнравственность, – просто налетъ! юный налетъ – ничего больше! Душечка Марья Семеновна, умоляю васъ: не позволяйте ему погибнуть!
Маменька резонно возражаетъ:
– Какъ ему не дозволишь, жеребцу этакому? Услѣдишь развѣ? Я человѣкъ старый, а онъ, извергъ, шастаетъ – ровно о четырехъ копытахъ.
– Это, – говоритъ Клавдія Карловна, – все оттого, что онъ одичалъ у васъ. Ему надо въ обществѣ тонкихъ чувствъ вращаться, женское вліяніе испытать… Такъ-съ? – круто повернулся разсказчикъ къ Ергаеву.
Тотъ кивнулъ головою, трясясь отъ беззвучнаго смѣха.
– Вручите, – говоритъ, – его, душечка Марья Семоновна, мнѣ! Я вамъ его спасу! Я образумлю, усовѣщу! Я чувствую, что могу усовѣстить! И должна! Должна, какъ сосѣдка ваша, какъ другъ вашъ, какъ христіанка, наконецъ… Отпустите его ко мнѣ погостить, – я усовѣщу!
– О, Господи! – простоналъ Ергаевъ.
– Хорошо-съ. Мамашѣ что же? Кума съ возу, – куму легче. Обрадовалась даже: все-таки хоть нѣсколько дней дѣтище милое на глазахъ торчать не будетъ, да и та надежда есть, – авось, хоть въ чужомъ-то дому не станетъ безобразить, посовѣстится… Ну-съ, уѣхалъ нашъ донъ-Жуанъ съ Клавдіей Карловной, и слѣдъ его просгылъ. Недѣля, другая, третья… только – когда ужъ въ корпусъ надо было ѣхать, появился дня за три. Еще больше его ввысь вытянуло, худой сталъ, баритономъ заговорилъ, а глаза мечтательные этакіе и словно какъ бы съ поволокою. У васъ совсѣмъ не такіе! – бросилъ онъ Ергаеву.
– Помилуйте, – обидчиво отозвался тотъ, – да вѣдь съ 1897-го-то года два лѣта прошли!
– Рѣчь у Онисима стала учтивая, манеры – въ любую гостиную. Просто ахнула мамаша: узнать нельзя малаго! Ай-да, Клавдія Карловна!.. И, въ дополненіе благодѣяній, подарила она ему на память часы съ цѣпочкою, и на цѣпочкѣ – точно такую же вещицу, какъ видите вы у насъ съ г. Ергаевымъ… Въ нашемъ роду она тогда была первая-съ.
Ну-съ, затѣмъ исторія прекращаетъ свое теченіе на годъ. Братъ Онисимъ въ офицеры вышелъ и въ полкъ поступилъ, а на побывку лѣтнюю пожаловалъ братъ Герасимъ – только что курсъ гимназіи кончилъ и на юридическій мѣтилъ. Книжекъ умныхъ навезъ. Развивать, говоритъ, васъ буду! Смиренникъ такой, шалостей никакихъ; ходитъ въ садъ съ книжкой, листами вертитъ, на поляхъ отмѣтки дѣлаетъ. Мамаша не нарадуется. Только вдругъ – объясненіе. Приходитъ:
– Маменька, предупредите папеньку, что я университеть рѣшилъ по боку.
– Какъ? что? почему? уморить ты насъ хочешь?
– Потому что я долженъ жениться, и мнѣ станетъ не до ученья, – придется содержать свою семью.
– Жениться? Да ты ошалѣлъ? когда? на комъ?
– На Ѳеничкѣ.
– На просвирниной дочери?
Такъ маменька и рухнула… Очнувшись:
– Разсказывай, говоритъ, – разбойникъ, что у васъ было? добивай мать!
Отвѣчаетъ:
– Да ничего особеннаго. Я ей «Что дѣлать» читалъ.
– Ну?
– Она ничего не поняла.
– Еще бы! просвирнина-то дочь!
– Тогда я началъ ей «Шагъ за шагомъ» читать.
– Ну?
– Она тоже ничего не поняла, но…
– Да не мучь! не тяни!
– Но какъ-то стала въ интересномъ положеніи.
Маменька опять въ обморокъ. Папенька пришелъ, усами пошевелилъ, трубкой попыхтѣлъ:
– Что-жъ, говоритъ, – подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Законъ природы!
– Вотъ, – братъ одобряетъ, – за это я васъ уважаю. Здравый образъ мыслей имѣете.
– Но жениться на Ѳенькѣ, – продолжаетъ, отецъ, – и думать забудь, прохвостъ! Прокляну, наслѣдства лишу, изъ дома выгоню.
– А вотъ за это, – возражаетъ братъ, – я васъ презираю. Подлый образъ мыслей имѣете.
И пошла у насъ въ домѣ каждодневная буря. – Женюсь! – Вонъ изъ дома! – женюсь! – Вонъ изъ дома!.. Не житье, а каторга.
Въ такихъ то тѣсныхъ обстоятельствахъ маменька и вспомнила о Клавдіи Карловнѣ, какъ она нашего Онисима въ чувства возвратила. Къ ней:
– Голубушка! благодѣтельница! Вы одна можете! спасите! усовѣстите!
Выслушала та, вздохнула глубоко, возвела голубыя очи горѣ, перекрестилась и говорить:
– Пришлите!
И – что же бы вы думали-съ? Поѣхалъ къ ней Герасимъ яко бы съ визитомъ, да… только мы его и видали. Лишь за три дня до отъѣзда явился – молодцомъ, еще лучше Онисима, вылощенный такой, надушенный, и «златница» на цѣпочкѣ. Лихо! О Ѳеничкѣ и не спросилъ, а ее тѣмъ временемъ маменька замужъ спроворила, хорошаго жениха нашла, изъ города почтальона, – смирный, всего на семь четвертныхъ миру пошелъ и еще ручку у маменьки поцѣловалъ съ благодарностью. Стали было у насъ въ домѣ надъ Герасимомъ подшучивать:
– Какъ же, молъ, братецъ, тебя Клавдія Карловна усовѣщивала? колѣнками на горохъ ставила или иное что?
А онъ весьма серьезно:
– Прошу васъ на эту тему не острить. И кто объ этой святой женщинѣ дурно подумаетъ, не только скажетъ, тотъ будетъ имѣть дѣло со мною. А эту вещь, – златницею потрясаетъ, – я сохраню на всю жизнь, какъ зѣницу ока, на память, какія умныя и развитыя дамы существуютъ въ Россіи, и до какого благороднаго самопожертвованія могутъ онѣ доходить!..
Ну-съ… Я буду кратокъ. Черезъ годъ Клавдіи Карловнѣ пришлось спасать брата Тита: тоже жениться хотѣлъ – на сосѣдней гувернанткѣ. Затѣмъ брата Митю, тотъ въ городъ сталъ больно часто ѣздить, такъ мамаша за его здоровье опасалась. А какъ пріѣхалъ брать Ѳедичка, изъ правовѣдѣнія, го мамаша даже и выжидать не стала, чтобы онъ выкинулъ какое-нибудь художество, а прямо такъ-таки усадила его въ тарантасъ и отвезла къ Клавдіи Карловвѣ:
– Усовѣщивайте!.. Хоть и ничего еще не набѣдокурилъ, а усовѣщивайте!.. Такая ужъ ихъ подлая жряховская порода!
И только на братѣ Петѣ вышла было, въ сей традиціи, малая зацѣпка. Рыжій онъ у насъ такой, весноватый, угрюмый, – одно слово, буреломъ. По Лѣсному институту первымъ силачомъ слылъ. Волосы – копромъ. Въ кого только такимъ чортомъ уродился? Привезла его маменька… Клавдія Карловна – какъ взглянула, даже изъ себя перемѣнилась:
– Ахъ, – говоритъ, – рыжій! ненавижу рыжихъ!
– Голубушка, – плачетъ маменька, – душечка! Клавдія Карловна!
– Нѣтъ, нѣтъ! И не просите! Не могу я имѣть вліянія на рыжихъ! Не могу! Не могу! Антипатичны моей натурѣ! Не въ силахъ, – извините, не въ силахъ.
– Голубушка! Да не все ли равно – кого усовѣщать-то? Брюнетъ ли, блондинъ ли, рыжій – совѣсть-то вѣдь цвѣтовъ не разбираетъ, безволосая она…
– Ахъ, ахъ! Какъ все равно? Какъ все равно? Флюиды нужны, а я флюидовъ не чувствую.
– Матушка! – убѣждаетъ маменька, – флюиды будутъ.
Насилу уговорила.
– Такъ и быть, Марья Семеновна, видючи ваши горькія слезы, возьмусь я за вашего Петю. Но помните: это съ моей стороны жертва, великая жертва.
– Ужъ пожертвуйте, матушка!
Прослезилась Клавдія Карловна и крѣпко жметъ ей руку:
– Ахъ, Марья Семеновна! вся жизнь моя – одно самопожертвованіе.
– За то васъ Богъ наградитъ! – сказала маменька. Взглянула на небо:
– Развѣ Онъ!
Вашъ покорнѣйшій слуга тѣмъ временемъ доучивался въ Петербурги, у нѣмца-офицера, въ пансіонѣ: въ юнкерское училище готовился. Братья старшіе, тѣмъ временемъ, уже въ люди вышли. Онисимъ ротою командовалъ, Герасимъ – товарищъ прокурора, Митька – главный бухгалтеръ въ банкѣ… Хорошо-съ. Ѣдучи къ родителямъ на каникулы, обхожу весь родственный приходъ – проститься. Ну, извѣстно; поцѣлуй папеньку съ маменькой, кланяйся всѣмъ, вспомяни на родномъ пепелищѣ. Отцѣловались съ братомъ Онисимомъ, ухожу уже.
– Да! – кричитъ, – главное-то позабылъ! Вотъ что: увидишь Клавдію Карловну, такъ, голубчикъ, кланяйся ей очень, очень, очень! да ручку поцѣлуй, дуракъ! да передай вотъ эту штукенцію… Отъ брата Онисима-молъ! Пожжалуйста!
И суетъ мнѣ превосходнѣйшій альбомъ – въ серебрѣ – и надпись на крышкѣ:
«Отъ вѣчно преданнаго и благодарнаго».
– А о златницѣ сей, – показываетъ. передай, что всегда памятую и не снимаю.
У Герасима – та же самая исторія. У Дмитрія – та же. У Тита – та же. Навалили мнѣ подарковъ къ передачѣ кучу. Шали какія-то, мѣха, коверъ… И все – отъ благодарнаго, признательнаго, никогда не забуду вашихъ благодѣяній, ношу и помню, будьте во мнѣ увѣрены. Даже дико мнѣ стало: что за родня у меня такая? Папенькѣ съ маменькой – шишъ, а чужой дамѣ – горы горами шлютъ… просто неловко какъ-то! Высказалъ это свое недоумѣніе брату Титу, а онъ далъ мнѣ подзатыльникъ и говоритъ:
– Глупъ еще. Зеленъ. Созрѣешь – самъ посылать будешь. Айда!
Пріѣхалъ. Здравствуйте, папенька! Здравствуйте, маменька! Радостно. Ну, пирогъ съ морковью, творогъ со сливками, простокваша, – все, какъ свойственно. Отпировалъ первые родственные восторги, вспомнилъ: ба! да вѣдь у меня подарки на рукахъ… Иду къ родителямъ:
– Папенька, позвольте вашего шарабана.
– Зачѣмъ? куда?
– Къ Клавдіи Карловнѣ.
Каково же было мое удивленіе, когда папенька вдругъ страшно вытаращилъ на меня глаза и едва не уронилъ трубку изъ рукъ, а маменька всплеснула руками и облилась горькими слезами.
– Уже! – стенаетъ, – уже!..
А отецъ тянетъ:
– Какъ ты ска-залъ?
– Къ Клавдіи Карловнѣ.
– Пошелъ вонъ, дуракъ!
Ушелъ. Ничего не понимаю, за что обруганъ и выгнанъ. Отъ дверей зовутъ назадъ:
– Зачѣмъ тебѣ къ Клавдіи Карловнѣ?
Мать опять какъ всплеснетъ руками и – негодующимъ голосомъ:
– Аксюша! какъ тебѣ не стыдно?
Даже покраснѣла вся.
– Какъ зачѣмъ? Мнѣ братцы цѣлую уйму вещей навязали, – все просили ей въ презенть передать.
– Ага!.. ну, успѣешь… – снисходительно сказалъ отецъ.
– Тортъ тамъ яблочный, отъ Ѳеди… не испортился бы? – говорю деликатно и, казалось бы, вполнѣ резонно. А онъ опять вдругъ насупился, да какъ вскинется:
– Русскимъ тебѣ говори языкомъ: успѣешь… м-м-мерзавецъ!
Ладно. Дитя я былъ покорное: не пускаютъ, и не надо. Даже не доискивался, почему. Понялъ такъ, что, должно быть, папенька и маменька съ Клавдіей Карловной поссорились… Пошелъ со скуки, съ ружьемъ да Діанскою-псицою, слоновъ слонять по лугамъ-болотамъ, лѣсамъ-дубравамъ, деревушкамъ да выселкамъ. Вотъ-съ, иду я какъ-то селомъ нашимъ съ охоты, а у волостного правленія на крыльцѣ писариха сидитъ, сѣмячки щелкаетъ. – Здрасте! – здрасте! Сѣмячковъ не угодно ли? – Будьте такъ любезны!.. Баба не старая, мужъ пьяница, драная ноздря… И пошло у насъ это каждый день. Какъ я съ ружьемъ, она – на крыльцѣ.
– Здрасте! – Здрасте! – Сѣмячковъ прикушайте! – Покорнѣйше благодарю. – Съ недѣлю только всего и роману было. Сѣмечекъ пуда съ два сгрызъ, – инда оскомина на языкѣ явилась. Но потомъ сія дама говоритъ мнѣ:– Молодой человѣкъ, какъ вы мнѣ авантажны! – Будто? – Право ну! И ежели бы вы завтра о полудняхъ въ рощу пришли, я бы вамъ одно хорошее слово сказала… Превосходно-съ. Являюсь. Она тамъ. Восторгъ! Но – вообразите же себѣ, милостивые государи, мою жесточайшую неудачу: не успѣлъ прозвучать нашъ первый поцѣлуй, какъ кусты зашелестѣли, раздвинулись, и – подобно deus ex machina – выросъ предъ нами… мой отецъ!
– Табло! – восторгнулся Ергаевъ.
– Наитаблѣйшее-съ табло. Я обомлѣлъ. Пассія моя завизжала:– Ахъ, святители! у, безстыдники! – и была такова. А родитель, глядя на меня съ выраженіемъ полной безпомощности предъ волею судьбы, выпустилъ изъ-подъ усовъ огромный клубъ дыма, и бысть мнѣ гласъ его изъ клуба того, яко изъ облака небеснаго:
– Что же подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Законъ природы.
И больше ничего. Повернулся и ушелъ.
За обѣдомъ – строгъ. Маменька съ заплаканными глазами. Смотритъ на меня и головою качаетъ. Преглупо. Подали блинчики съ вареньемъ. Отецъ воззрился и говоритъ сурово-пресурово:
– Ты что же, любезнѣйшій, порученій набралъ, а исполнять ихъ и въ усъ не дуешь?
– Какихъ порученій, папенька?
– Самъ же говорилъ, что братья просили тебя передать Клавдіи Карловнѣ подарки.
– Но, папенька…
– Что тамъ «но». Нехорошо, братъ. Она другъ – нашего дома, почтеннѣйшая дама въ уѣздѣ, а ты манкируешь. Тортъ-то яблочный прокисъ, небось… что она подумаетъ? Жряховы, а кислыми тортами кормятъ. Позоръ на фамилію. Свези тортъ, сегодня же свези! Дама почтенная… другъ семейства…
Жряховъ улыбнулся, задумчиво покрутилъ усъ и, крякнувъ, принялъ молодцеватую осанку.
– Поѣхалъ, пріѣхалъ… Вышла – батюшки! такъ я и ошалѣлъ: глаза голубые, пеньюаръ голубой, туфли голубыя, брошь-бирюза голубая, – волосы, кажись, и тѣ, съ обалдѣянія, мнѣ за голубые показались. Вьются! Ручка, ножка… Господи! Ей тогда уже подъ тридцать было, – ну… вотъ Ергаевъ говоритъ, что она и по сейчасъ сохранилась, а въ тѣ поры…
Жряховъ поникъ думною головою.
– Разумѣется, – продолжалъ онъ, послѣ долгой и сладкой паузы, – родительскій домъ свой я увидалъ затѣмъ, лишь когда ударилъ часъ ѣхать обратно въ Питеръ, гдѣ ждало меня юнкерское училище… Прошли прекрасные дни въ Аранхуэцѣ!.. Плакала она… Боже мой! я до сего времени не могу вспомнить безъ содраганія. Мы сидѣли на скамьѣ у пруда, и мнѣ казалось, что вотъ, прудъ уже обратился въ солено-горькій океанъ, и въ немъ копошатся спруты и плаваютъ акулы… И я самъ ревѣлъ, – инда у меня распухъ носъ, и потрескались губы… И вотъ вынимаетъ она изъ кармана эту самую златницу и подаетъ мнѣ ее печальною рукою, и говорить унылымъ-унылымъ голосомъ, какъ актрисы разговариваютъ въ пятыхъ актахъ драматическихъ представленій… «Ванечка, другъ мой! Сохрани этотъ мексиканскій долларъ. Я дарю его только тѣмъ, кого люблю больше всего на свѣтѣ. Береги его, Ванечка, – это большая рѣдкость. Покойникъ-мужъ привезъ мнѣ ихъ изъ Америки пятьдесятъ, а вотъ теперь… у меня ихъ… остается… всего двадцать во-о-о-о-семь!!!»
– Теперь только шесть, – дѣловито поправилъ Ергаевъ.
– Такъ вѣдь времени-то сколько ушло, – огрызнулся Жряховъ, – подсчитайте: двадцать два года! И еще, говоритъ, милый ты мой другъ, Ванечка, умоляю тебя: не снимай ты съ себя брелока этого никогда, никогда, – слышишь? – никогда! И если увидишь на комъ подобный же брелокъ, отнесись къ тому человѣку, какъ къ другу и товарищу, и помоги ему во всемъ, отъ тебя зависящемъ. И онъ, Ванечка, тоже всегда сдѣлаетъ для тебя, все, что можетъ. Потому, что это – значитъ, другъ мой, лучшій другъ, такой же другъ, какъ ты, Ванечка. А кто мнѣ другъ, тотъ и друзьямъ моимъ другъ. Они всѣ мнѣ въ томъ клялись страшною клятвою. И ты, Ванечка, поклянись.
– Извольте, – говорю, – съ особеннымъ удовольствіемъ…
И, дѣйствительно, преоригинальную она меня, волкъ ее заѣшь, клятву заставила дать. Но сего вамъ, милостивый государь, знать не надо, ибо вы есте намъ, фармазонамъ, человѣкъ посторонній. А г. Ергаеву она безъ того должна быть извѣстна.
Г. Ергаевъ смотрѣлъ въ сторону и посвистывалъ, что-то черезчуръ румяненькій.
– Такъ вотъ-съ. И клялись, и плакали, и цѣловались. Тѣмъ часомъ подали лошадей. Глазки она осушила, перекрестила меня, я ручку у нея поцѣловалъ, она меня – какъ по закону слѣдуетъ, матерински въ лобикъ, и вдругъ исполнилась вдохновенія:
– Передай, говоритъ, матери, что я того… исполнила долгъ свой и возвращаю ей тебя достойнымъ сыномъ ея, какъ приняла, – не посрамленъ родъ Жряховыхъ и, покуда я жива, не посрамится во вѣки!
Пророчица-съ! Дебора! Веледа!! Іоанна д'Аркъ!!!
Жряховъ умолкъ и склонилъ голову въ умиленномъ воспоминаніи.
– И больше вы не видались съ Клавдіей Карловной? – спросилъ я.
– Видѣться-то видѣлся, да что-съ… – онъ махнулъ рукою. – Лѣтъ пять спустя, когда мы послѣ покойнаго папеньки наслѣдство дѣлили. Заѣхалъ къ ней, – попрежнему красота писаная; развѣ что только располнѣла въ излишествѣ, не для всѣхъ пріятномъ. Обрадовалась, угощеніе, разспросы, Ванечка, ты… Ну, думаю, вспомнимъ старинку: чмокъ ее въ плечо… Что же вы думали бы, государи мои?
Даже пополовѣла вся – какъ отпрянетъ, какъ задрожитъ, какъ зарыдаетъ. – Ванечка! кричитъ, – ты! ты! ты! могъ такъ меня оскорбить? такъ унизить? Да за кого же ты меня принимаешь? Ахъ, Ванечка! Ванечка! Ванечка! Грѣхъ тебѣ, смертный грѣхъ!
– Клавдія Карловна, говорю, – никогда никто ее иначе, какъ Клавдіей Карловной не звалъ, и братья тоже говорили…
– Это вѣрно, – пробурчалъ Ергаевъ.
– Клавдія Карловна! – да вѣдь было же…
А она мнѣ гордо и строго:
– Ванечка, изъ любви къ страждущему человѣчеству, для спасенія гибнущаго юношества, чтобы утереть слезы отцовъ и матерей, я, какъ могла, исполняла долгъ свой. Но теперь, когда ты взрослый, офицеръ, женихъ… Ахъ, Ванечка! Ванечка! какъ ты могъ подумать? Сколько у тебя братьевъ, – и лишь ты одинъ дерзнулъ оскорбить меня такъ жестоко. А я тебя еще больше всѣхъ ихъ любила!.. Да-съ!..
– А балаболка эта, златница мексиканская, – перемѣнилъ тонъ Жряховъ, – дѣйствительно, насъ всѣхъ ужасно какъ дружитъ… Вѣдь вотъ, – обратился онъ къ Ергаеву, – вижу я васъ въ первый разъ, а вы мнѣ уже удивительно какъ милы. Смотрю на васъ, и молодость вспоминаю, и смѣшны вы мнѣ, и любезны… Только денегъ въ долгъ не просите, а то – прошу быть знакомымъ – все, чѣмъ могу… въ память Клавдіи Карловны… помилуйте! за долгъ почту! Потому – златницею связанъ съ вами… ха-ха-ха! фармазоны мы съ вами, сударь мой, даромъ, что у меня шерсть сѣдая, а у васъ молоко на губахъ не обсохло. Фармазоны-съ, одной ложи фармазоны… Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!..
* * *
Приглашенный въ «вѣдомство» для разноса, – смущенный и трепетный, – стоялъ я – предъ его превосходительствомъ, о, какимъ, чортъ его побери, превосходительствомъ! – самимъ Онисимомъ Авксентьевичемъ Жряховымъ. Онъ меня пушилъ, онъ мнѣ грозилъ, а я чувствовалъ себя погибшимъ.
– Нельзя-съ! убрать-съ! воспретить-съ! прекратить-съ! – звучали въ ушахъ моихъ жестокія слова, и чувствовалъ я, что на сей разъ слово есть и дѣло, и что я уже убранъ, воспрещенъ, прекращенъ.
– Министръ-съ…
– Ваше превосходительство!
– Не могу съ… Министръ-съ…
Я чувствовалъ, что лечу въ пропасть. И въ этотъ мигъ – какъ солнечный лучъ спасенія – вдругъ блеснули мнѣ на жилетѣ его превосходительства золотые блики. И въ памяти встали мои недавніе дорожные спутники, голубоглазая Клавдія Карловна… Мексиканскій долларъ! – вихремъ промчалось въ головѣ моей, и, вдохновляемый восторгомъ отчаянія, я заговорилъ, толкаемый какъ бы неземною силою:
– Ваше превосходительство! даю вамъ слово, что впалъ въ заблужденіе въ послѣдній разъ въ моей жизни. Предайте его забвенію, ваше превосходительство. Я раскаиваюсь. Предайте забвенію.
– Не могу-съ!
– Ваше превосходительство!
– Не могу-съ.
– Ваше превосходительство! Во имя святой женщины, отъ которой вы получили сію златницу! Ради… Клавдіи Карловны!
Генералъ нелѣпо открылъ ротъ и онѣмѣлъ.
– Вы… вы знаете? – слабо пролепеталъ онъ.
Я твердо глядѣлъ ему въ глаза:
– Наслышанъ-съ.
– Долго молчалъ генералъ. Потомъ – мягко этакъ, меланхолически и со «слабымъ маніемъ руки»:
– Ну… на этотъ разъ, такъ и быть… будемъ считать инцидентъ исчерпаннымъ. Но впредь… ради Бога, будьте осторожнѣе. Ради Бога! ну, для меня, наконецъ! Для меня-а-а!..
– Ваше превосходительство!!!
1911