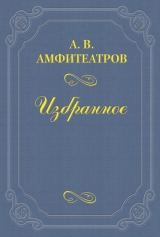
Текст книги "Паутина"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Аглая Викторовна, Анюта и Гришутка… Это хорошо… это къ добру…
Завтра она пойдетъ къ Симеону и объявитъ… Посмотримъ, Симеонъ Викторычъ, каковъ-то ты окажешься предо мною большой баринъ, даромъ что я не изъ большихъ графинь… Охъ, сколько еще труднаго! сколько еще грѣшнаго! A все ради тебя, Гришутка милый, глупый! все изъ за тебя!..
X
Утромъ рано прибѣжала отъ Сарай-Бермятовыхъ Марѳутка – звать тетеньку Епистимію Сидоровну: баринъ Симеонъ Викторовичъ ее ждетъ.
– Скажите, какой нетерпѣливый сталъ! – усмѣхнулась про себя Епистимія. – Когда влюбленъ былъ, и то этакъ не поторапливалъ!
Накинула сѣрый платокъ свой на голову и пошла, странная по улицѣ въ сіяніи голубого дня, будто не во время вылетѣвшій нетопырь.
Симеонъ, замѣтивъ изъ окна ее во дворѣ, вышелъ къ ней, черезъ кухню, на заднее крыльцо. Измятое, шафранное лицо и мутный блескъ въ усталыхъ глазахъ ясно сказали Епистиміи, что въ истекшую ночь Симеонъ спалъ не больше ея и думалъ не меньше.
– Подожди нѣсколько минутъ здѣсь или y барышень, – угрюмо сказалъ онъ, дергая щекою, – я уже опять занятъ… y меня сидитъ архитекторъ… планъ привезъ перестройки дома… ни минуты покоя!..
– Хорошо-съ, я подожду, мнѣ торопиться некуда.
– Только не по вчерашнему! – пригрозилъ, уходя, съ порога Симеонъ.
Епистимія усмѣхнулась.
– Вчерась ужъ больно вы грозны были, – ласковымъ смѣшкомъ послала она вслѣдъ.
Онъ обернулся и еще разъ пригрозилъ ей поднятымъ пальцемъ, съ недобрымъ выраженіемъ лица, точно предупредилъ:
– Ты молъ эти шутки оставь. Фамильярной канители тянуть съ тобою я больше не намѣренъ. Дѣло – такъ дѣло. Разъ, два, три – клади его на столъ…
– Смѣлющая же вы, сударыня Епистимія Сидоровна, – льстиво заговорила съ нею отъ плиты краснолицая, съ пьяными, лживыми глазами, толстуха-кухарка. – Свободно такъ разговариваете! Мы на него, аспида, и взглянуть то боимся.
– A тебѣ бы, дѣвушка, – сурово оборвала Епистимія, – такъ о господинѣ своемъ не выражаться. Каковъ ни есть, a – нанялась, продалась. Жалованье получаешь. Сойди съ мѣста, – тогда и ругай, сколько хочешь. A покуда на мѣстѣ, онъ тебѣ не аспидъ, a баринъ: аспиды хлѣбомъ не кормятъ и жалованья не даютъ…
– Да, сударыня ты моя, развѣ я съ чѣмъ дурнымъ… – залепетала было сконфуженная кухарка. Но Епистимія прошла уже мимо, ворча лишь такъ, чтобы она слышала:
– То-то – ни съ чѣмъ дурнымъ… Распустились вы всѣ… Революціонерки… Забастовщицы… Хозяйки настоящей въ домѣ нѣтъ… подтянуть некому…
Барышень она застала въ комнатѣ Зои, которая сегодня «проспала гимназію» и потому рѣшила, что вставать и одѣваться до завтрака не стоитъ.
– Третій разъ на этой недѣлѣ, Зоя! – упрекала ее, сидя на постели, въ ногахъ, красивая, съ утра одѣтая, свѣжая, бодрая, спокойная Аглая.
– Наплевать! – равнодушно отвѣчала Зоя, лежа, подобно сфинксу, на локтяхъ и животѣ и скользя лѣнивыми глазами по книгѣ, перпендикулярно воткнутой между двухъ смятыхъ подушекъ, a ртомъ чавкая булку съ масломъ, въ прихлебку съ кофе, который наливала изъ стакана на блюдце и подносила къ губамъ барышни смѣющаяся горничная Анюта, хорошенькая, стройная, съ чистымъ и смышленнымъ ярославскимъ личикомъ, блондинка. – Корми меня, столпъ царства моего!
– Какъ тебѣ не противно, право? – замѣтила Аглая. – Такая неопрятная привычка… Вонъ, смотри: подушку кофе облила… крошки сыпятся…
– Это не я, – Анютка.
– Да, какъ же! – засмѣялась Анюта, – во всемъ Анютка виновата! Сами Анютку головой подъ локоть толкнули…
– Молчи, столпъ царства! Вѣдь знаешь: рѣшено однажды навсегда, что я никогда не бываю виновата, и всегда передъ всѣми права… А! наша собственная химія, мадмуазель Епистимія! – привѣтствовала она вошедшую, посылая ей рукою воздушный поцѣлуй.
Когда женщины поздоровались и усѣлись, разговоръ y нихъ пошелъ о плачевномъ событіи вчерашняго вечера – о томъ, какъ Зоя едва не погубила новаго платья, обливъ его какао, a Епистимія Сидоровна спасла его, пустивъ въ ходъ какой-то особенный, ей одной извѣстный, выводной составъ… Вынули изъ гардероба платье. Пятно, хотя и на бѣломъ шелку, даже днемъ было едва замѣтно желтоватыми краями. Но Аглая и Анюта утверждали, что платье, все равно, недолговѣчно – матерія должна провалиться отъ выводной кислоты. A Епистимія защищала:
– Никогда не провалится, барышни: кабы въ моемъ составѣ была жавелева кислота, тогда, въ томъ не спорю, обязательно должна матерія провалиться, но я жавелевой кислоты не употребляю ни вотъ настолько. Потому что, скажу вамъ, милыя барышни, ядовитыхъ кислотъ на свѣтѣ немного, но, по домашнему нашему обиходу, всѣхъ кислотъ кислѣе жавелева кислота…
Зоя захохотала и возразила, тряся непричесанною, въ путаницѣ бѣлокурыхъ волосъ, головою:
– Врешь, Епистимія Сидоровна. По домашнему нашему обиходу, всѣхъ кислотъ кислѣе любезный братецъ мой – Симеонъ Викторовичъ.
Отъ рѣзкаго ея движенія книга упала на полъ. Аглая нагнулась и подняла.
– Havelock Ellis… L'Inversion sexuelle… – недовольно прочитала она заглавіе. – Это что еще? Откуда промыслила?
– Васюковъ принесъ… Хвалилъ, будто анекдотовъ много… Да вретъ: все давно знакомое… Новаго не нашла ничего.
– Ахъ, Зоя, Зоя!
– Что, Аглая, Аглая?
– То, что забиваешь ты себѣ голову пустяками…
– Хороши пустяки! – захохотала Зоя: если это тебѣ пустяки… Впрочемъ, лучше обратимся къ Епистиміи: она тебѣ про пустяки анекдотъ разскажетъ… «Не гляди, душенька, это пустяки!» – пропищала она, копируя кого-то изъ анекдота.
– Нѣтъ, ужъ уволь.
– Что вы, барышня Зоя! – запротестовала и Епистимія, съ тѣнью бураго румянца на зеленыхъ впалыхъ щекахъ своихъ: она не любила, чтобы ее обличали въ темномъ и грѣшномъ при Аглаѣ. – Нашли разсказчицу! Что и знала – шалила смолоду, – теперь, слава Богу, забыла.
– Ладно! Это ты предъ нами почему-то въ скромность играешь, a небось, когда съ Модестомъ и Ванькою-чурбаномъ, другія пѣсни поешь… Ну, a ты, столпъ царства, что головою раскачался? – повернулась она къ Анютѣ.
Та серьезно сказала:
– Да удивительно мнѣ на васъ, барышня: откуда въ васъ столько озорства берется? Все бы вамъ озоровать, все бы озоровать.
Зоя чуть сконфузилась, притворно зѣвнула и сказала, потягиваясь въ подушкахъ:
– Ну, хорошо, будьте вы трижды прокляты, цѣломудренныя лицемѣрки, – отказываюсь отъ анекдота!.. A слѣдовало-бы, – хотя бы затѣмъ, чтобы научить тебя, Аглая, выражаться точнѣе.
– Да, какъ ни назови, – зачѣмъ, ну, зачѣмъ тебѣ все это?
– Чтобы сны интересные видѣть, – захохотала Зоя, но, видя, что лицо сестры приняло выраженіе серьезнаго недовольства, перестала ее дразнить и только возразила:
– Да вѣдь ты ничего этого не читала?
– И не буду.
– Ну, и честь тебѣ, и слава, цѣломудренная весталка, но – какъ же ты, не читая, можешь судить?..
И обратилась къ неодобрительно выжидавшей Епистиміи:
– Ну-съ, Епистимія химія! Съ нашею домашнею оберъ-кислотою y тебя, говорятъ, вчера была пальба?
Епистимія притворно улыбнулась и сказала, полуотвѣчая:
– А! Воинъ! Это ужъ грѣхъ будетъ про него другое слово сказать, что воинъ галицкій.
Зоя прервала ее, внимательно себя разглядывая:
– Анютка! Смотри, какія y меня бѣлыя руки… наливныя, какъ… какъ ливерная колбаса!
– Сравнили! – усмѣхнулась горничная.
– Право! У Аглаи гораздо смуглѣе… Да-съ! вотъ это кожа! атласъ! бѣлорозовая заря! Вы, сударыня моя, госпожа старшая сестрица, красавица славной семьи нашей, можете, по мнѣніе глупыхъ мужчинъ, даже съ тремя богинями спорить на горѣ въ вечерній часъ. Но – кожѣ такой – это дудочки! y васъ не бывать… a ни-ни! Столпъ негодный! ты опять свои бѣлые зубы скалишь?
– Вотъ какъ пригрѣетъ солнышко, да побѣгутъ по атласу то вашему веснушки, – выговорила она, сквозь фыркающій смѣхъ.
– Очень испугалась! A парфюмерные магазины на что?
– Въ прошломъ годѣ – мылись, мылись, терлись, терлись, a ничего не помогло: проходили лѣто, какъ кукушка рябая, только даромъ деньги извели. Видно, лицо то не платье, a веснушки – не какао! Не возьметъ и жавелева кислота.
– Молчи! не каркай!.. Но, возвращаясь къ кислотамъ: хоть бы ты, Епистимія Сидоровна, нашему Симеонтію невѣсту нашла. Авось, попадетъ подъ башмакъ – сколько нибудь утихнетъ.
Епистимія принужденно улыбнулась.
– Выдумали сваху. Куда мнѣ господскіе браки строить. Мнѣ, вонъ, Гришу своего, племянника, женить пора, и то не прилажусь, съ которой стороны взяться за дѣло.
Зоя, рѣшивъ вставать, сѣла на кровати, ловя голыми ногами туфли на коврѣ.
– Сватай мою Анютку, – сказала она, держа въ зубахъ кончикъ белокурой косы своей и шаря рукою по постели выпавшія ночью шпильки. – Выдадимъ хоть сейчасъ. Она на него всѣ глаза проглядѣла.
Дѣвушка вспыхнула сердитымъ румянцемъ.
– Ошибаетесь, барышня Зоя. Совсѣмъ не мой идеалъ.
– Анюта – не той партіи, – улыбнулась Аглая.
Зоя, зѣвая и переваливаясь съ ноги на ногу, направилась къ умывальнику.
– Виновата, – говорила она. Перепутала. Гриша Скорлупкинъ – Матвѣя протеже, a Анютинъ предметъ числится по полку брата Виктора. Влюблена въ Илюшу? Признавайся!
– Пошли конфузить!
– Сама вдвоемъ васъ застала, голубушка ты моя!
Анюта вызывающе дернула плечомъ.
– По вашему, господскому, если простая дѣвушка съ молодымъ человѣкомъ сидитъ, такъ ужъ имъ, кромѣ пустяковъ, и подумать не о чемъ?
– Поди, брошюрами тебя просвѣщаетъ Илюша? – мягко улыбнулась Аглая.
Горничная возразила съ тѣмъ же вызовомъ:
– A хоть бы и брошюрами? Кому нынче не хочется образовать себя? Пора понимать свои права.
Зоя, нажимая педаль умывальника, говорила:
– Счастливыя прежде барышни были. Имѣли горничныхъ – о женихахъ пошептаться, о подругахъ посплетничать, о снахъ посовѣтоваться, на счетъ мужскихъ усовъ поспорить, надъ оракуломъ похохотать… Увы! все это осталось въ старыхъ романахъ, a теперь встрѣчается только въ стилизованныхъ повѣстяхъ…
– Чѣмъ я вамъ не угодила? – улыбнулась Анюта.
– Во первыхъ тѣмъ, что ты не горничная, a товарищъ Анюта. Во вторыхъ, тѣмъ, что въ этомъ умывальникѣ нѣтъ ни капли воды.
Анюта, покраснѣвъ, ахнула своей оплошности, но, заглянувъ въ резервуаръ, разсердилась:
– Полнехонекъ! A вы опять въ трубу апельсинныхъ корокъ насовали, и машинка не дѣйствуетъ, – полчаса ее чистить прутомъ надо… Перейдите ужъ въ комнату къ барышнѣ Аглаѣ: тамъ помоетесь…
– Не гнѣвайся, всеобщая, прямая, равная, тайная… Скажи: ты рѣшительно никакъ не можешь обойтись безъ націонализаціи земли?
– Да, ступайте же вы! – почти прикрикнула Анюта. – Что это, право? До полдня, что ли, будемъ ворошиться? Мнѣ еще семь комнатъ убрать надо. Вы думаете: Симеонъ Викторовичъ съ однѣхъ васъ взыскиваетъ?
Зоя сдѣлала безобразную гримасу, высунутымъ языкомъ подразнила отсутствующаго Симеона и, выразительно воскликнувъ:
– У! Жавелева кислота! – сопровождаемая Анютою, исчезла за дверью.
Епистимія Сидоровна смотрѣла на все это съ видимымъ неодобреніемъ и, когда дверь за Зоей плотно закрылась, придвинула стулъ свой ближе къ Аглаѣ и, понизивъ голосъ, спросила:
– Что это, Аглаечка, какъ много Зоинька позволяетъ себѣ на счетъ Симеона Викторовича? Нехорошо такъ то – при горничной. Каковъ ни есть, все старшій брать и дому хозяинъ.
Аглая вздохнула, съ грустью на прекрасномъ лицѣ, досадливо сдвинувъ соболиныя брови надъ яркими, темными глазами.
– Утомилъ онъ насъ, Епистимія Сидоровна. Ужасъ, до чего надоѣлъ. Мнѣ то легко. Мой характеръ спокойный, y меня сердце смѣхомъ расходится. A Зойка – ракета.
Епистимія закачала головою и продолжала:
– Соръ то въ избѣ бы оставлять, голубушка, на улицу не выносить.
Аглая прервала ее.
– Да ужъ слишкомъ много накопилось его, Епистимія Сидоровна. Въ самомъ дѣлѣ, того и жди, что y Симеона съ братьями дѣло до кулаковъ дойдетъ.
Епистимія зорко взглянула ей въ глаза.
– Ужели такъ остро подступило? – спросила она, не скрывая въ звукѣ голоса особеннаго, расчетливаго любопытства.
Аглая, подтверждая, кивнула подбородкомъ
– Особенно съ Викторомъ, – сказала она. – Съ Модестомъ Симеонъ какъ то все-таки осторожнѣе. A Мотя – Божій человѣкъ.
– Его обидѣть – это ужъ царемъ Иродомъ надо быть! – согласилась Епистимія.
– Да онъ и не понимаетъ, когда его обижаютъ! – вздохнула Аглая.
Прошло молчаніе, во время котораго только плескала вода за стѣною, выскакивали задушенными звуками взвизги и смѣхъ Зои и глухіе неразборчивые отвѣты недовольной Анюты… Епистимія заговорила, будто надумалась – каждымъ словомъ, какъ носкомъ башмака, передъ собою почву пробуя, съ кочки на кочку по болоту ступая.
– Жалостно это видѣть, Аглаечка, когда хорошая господская семья вразбродъ ползетъ.
Аглая пожала плечами.
– A только и остается, что раздѣлиться, – сказала она. – Раздѣлиться и каждому жить своею жизнью, за свой страхъ.
– Что жъ? – подумавъ, согласилась Епистимія. – И то дѣло не худое. Теперь вы всѣ имѣете свой достатокъ. Отъ дядюшки – кому хлѣба кусокъ, кому сѣна клокъ.
На бѣломъ стройномъ лбу Аглаи мелькнула, какъ зарница, морщинка, выдавшая уже привычное, не въ первый разъ пришедшее, раздраженіе не охочаго раздражаться, кроткаго человѣка, доведеннаго до того, что даже онъ начинаетъ терять терпѣніе.
– Такъ – тянетъ онъ, Симеонтій нашъ, – сказала она съ откровенною досадою. – Тянетъ, не выдѣляетъ.
– Аглаечка, да вѣдь до совершеннолѣтія нельзя!
Но Аглая уже оживленно и все съ большею досадою говорила:
– Я полнаго выдѣла и не прошу. Я на дядины деньги не разсчитывала. Они съ облака упали. Жизнь свою загадывала безъ нихъ. Стало быть, могу ждать ихъ, сколько Симеонъ пожелаетъ. A просто – пусть изъ дома отпустить, на свою волю, – вонъ, какъ Викторъ живетъ.
Епистимія неодобрительно качала головою.
– Обидно ему, Аглаечка, – заступилась она. – Вы барышня. Вамъ въ меблированныя комнаты съѣхать, – люди скажутъ: видно, братъ то – сахаръ. Выжилъ сестру изъ дома въ номера.
– То то и есть! – прервала ее Аглая съ прежнимъ раздраженіемъ. – Если бы Симеонъ любилъ насъ хоть немного, все ничего: отъ любящаго человѣка и несправедливость можно стерпѣть. Но вѣдь нѣтъ въ немъ къ намъ никакихъ чувствъ, кромѣ сарай-бермятовской амбиціи.
– Смолоду таковъ, Аглаечка! – вздохнула Епистимія. – Ожесточилъ сердце, какъ ястребъ. Такъ ястребомъ и живетъ. Либо добычу рветъ, либо собою гордится, красуется, хвастаетъ, клювомъ перышко къ перышку кладетъ.
Аглая говорила:
– Вы вотъ о Зоѣ замѣчаніе сдѣлали. Развѣ я не согласна? Сама вижу, что Зоя никуда негодно себя ведетъ, а, въ томъ числѣ, и къ Симеону относится со всѣмъ неприлично. Но, вѣдь, невозможно, Епистимія Сидоровна! Никакими убѣжденіями нельзя заставить дѣвочку любить и уважать человѣка, который словно поклялся нарочно дѣлать все, чтобы показать себя не стоющимъ ни любви, ни уваженія. Вотъ – теперь пилитъ Зою за платье. A кто просилъ дарить? Въ средѣ нашихъ знакомыхъ, молодежи, намъ и въ ситцахъ, рады. Нѣтъ, нельзя: сестры Симеона Сарай-Бермятова должны одѣваться y мадамъ Эпервье.
– Что хотите, Аглаечка, – опять заступилась Епистимія, – но ужъ это то ему не въ укоръ. Напротивъ, довольно благородно съ его стороны, что сестеръ куколками выряжаетъ.
– Да дорого мы платимъ за это благородство, Епистимія Сидоровна! вѣдь только и слышимъ по цѣлымъ днямъ: сестры Симеона Сарай-Бермятова должны! Сестрамъ Симеона Сарай-Бермятова нельзя! Словно мы сами то по себѣ ужъ и не существуемъ. Словно изъ всѣхъ Сарай-Бермятовыхъ, мы одного Симеона сестры и другихъ братьевъ y насъ нѣтъ.
Епистимія внимательно приглядѣлась къ ней и, съ искусственною растяжкою вздохнула.
– Охъ-охъ-охъ! Во всѣхъ семьяхъ это обыкновенное, Аглаечка. Роднымъ врозь скучно, a вмѣстѣ тошно.
Но Аглая, возбужденная, говорила, торопливо перебирая тонкими пальцами наволочку на покинутой Зоей подушкѣ:
– Ты меня знаешь. Я на твоихъ глазахъ росла. Въ бѣдности. Готовилась не къ богатству, a къ трудовой жизни. Много ли мнѣ надо? Я на тридцать рублей въ мѣсяцъ буду королевой себя чувствовать. Я молодая, сильная, здоровая, – мнѣ работать хочется.
– Вы, Аглаечка, и теперь много трудитесь. Вами домъ держится.
Аглая пренебрежительно отмахнулась.
– Какой это трудъ. Такъ – время суетой наполняю, чтобы тоска не брала.
Епистимія, не сводя съ нея глубокихъ синихъ очей своихъ, заговорила вкрадчиво, примирительно:
– Ну вотъ, братецъ надумается, женится, – станете на свои ножки, попробуете своего хлѣба.
Аглая согласно склонила пышноволосую, темную голову.
– Въ этомъ то я увѣрена, что, какъ только онъ женится, всѣмъ намъ укажетъ двери. Онъ объ аристократкѣ мечтаетъ. На что мы ему тогда?
Епистимія подвинулась къ ней еще ближе и, не безъ волненія, зашептала, положивъ ей на колѣно худую свою, испещренную синими жилами, и все-таки еще красивую, съ длинными, цѣпкими пальцами, руку:
– Если разойдетесь съ братомъ, то насъ не забудьте, Аглаечка. Не обойдите нашей хаты. Люди мы простые, званія ничтожнаго, но живемъ, слава Богу, чистенько. Достатками не хвалимся, a крыша надъ головою есть и хлѣбца жуемъ вволю, да еще и съ маслицемъ. Безвременье ли переждать, бѣду ли перебѣдовать, – ничѣмъ вамъ въ чужіе люди итти, – y насъ для васъ квартирка всегда готова.
Аглая, съ мягкою растроганною улыбкою, положила свою руку на ея.
– Спасибо, Епистимія Сидоровна. Я знаю, что въ твоей семьѣ я – какъ y родныхъ.
– Улелѣемъ васъ, какъ младенца въ люлькѣ! Слава Богу! – кашлянувъ, сказала Епистимія и опустила синіе глаза свои. – Не привыкать стать, – природная ваша служанка.
Аглая, какъ всегда, смутилась при этомъ напоминаніи, разрушавшемъ давно установленное равенство.
– Э! Что ты, Епистимія Сидоровна! Когда это было! Пора забыть.
– Пора, такъ пора, – подумала Епистимія. – A ну-ка, если ты такая добрая, попробуемъ…
И, съ опущенными глазами, медленно гладя руку Аглаи, продолжала искреннимъ, проникновеннымъ голосомъ.
– A ужъ Гриша мой на васъ, Аглаечка, какъ на богиню свою, взираетъ. Вы для него на свѣтѣ – самый первый и главный человѣкъ. Только что мать обидѣть боится, a то бы предъ портретомъ вашимъ свѣчи ставилъ и лампаду жегъ.
– Онъ славный, твой Гриша, – равнодушно согласилась Аглая. – Своимъ хорошимъ отношеніемъ онъ чисто меня трогаетъ.
Тогда Епистимія оставила ея руку, отодвинулась вмѣстѣ со стуломъ, сложила костлявыя руки свои на колѣняхъ и, отчаянно хрустнувъ пальцами, сказала, – будто въ воду прыгнула, – рѣшительно, почти рѣзко:
– Аглая Викторовна, позвольте говорить откровенно.
Аглая подняла на нее удивленные темные глаза.
– Все, что тебѣ угодно, – сказала она.
A Епистимія протяжно и вѣско говорила, какъ рубила:
– Влюбленъ онъ въ васъ безъ ума и памяти, Гришутка мой бѣдный. Вотъ оно что.
И, зорко наблюдая за облившимся красною зарею лицомъ Аглаи, прочла въ немъ не только изумленіе, a почти испугъ… Аглая молчала нѣсколько секундъ, словно стараясь понять что то слишкомъ чуждое, и, наконецъ, произнесла голосомъ и укоряющимъ, и извиняющимся, голосомъ самообороны, отстраняющей дурную шутку:
– Ой! Что это, Епистимія? Зачѣмъ? Съ какой стати? Не надо!
Слишкомъ искренне и просто это вырвалось, чтобы не понять…
– Провалилось дѣло! Рано! Поторопилась ты, дѣвка! – молніей пробѣжало въ умѣ Епистиміи. Слѣдующей мыслью было – въ самомъ дѣлѣ, перевести все сказанное въ шутку, разсмѣяться самымъ веселымъ и беззаботнымъ голосомъ. Но какой то особый инстинктъ отбросилъ ее отъ этого намѣренія въ сторону, и она, серьезная, возбужденная, съ широкими глазами, принявшими цвѣтъ и блескъ морской воды, лепетала, съ каждымъ словомъ касаясь колѣнъ Аглаи дрожащими пальцами:
– Извините, Аглаечка, извините! Позвольте говорить.
Аглая, пожимая плечами, говорила мягко, извинительно, стараясь сгладить положеніе – острое и колкое:
– Это братья, въ шутку, дурачатся… Модестъ, Иванъ… дразнятъ меня…
A Епистимія торопилась:
– Аглаечка, развѣ же я не понимаю, что подобное съ его стороны – одно безуміе? Аглаечка, я же не дура! Позвольте говорить!
Аглая сложила руки на колѣняхъ движеніемъ вниманія и недовольства.
– Да, какъ же мы будемъ говорить, – сказала она, – если ты такъ вотъ сразу за племянника въ любви мнѣ объясняешься? Вѣдь это же отвѣта требуетъ. Я Гришу хорошимъ человѣкомъ считаю, мнѣ жаль сдѣлать ему больно. Зачѣмъ же ты и его, и меня въ такое положеніе ставишь, что я должна его обидѣть?
Епистимія на каждое слово ея согласно мотала головою и касалась платья пальцами.
– Аглаечка, душа моя, все понимаю. Хорошо знаю, что любовь Гришина – дерзкая и безнадежная. Когда же я не знала? Дуракъ онъ. Истинно подтверждаю, что дуракъ оказался. Не за свой кусъ берется, рубитъ дерево не по топору. А, все-таки, голубчикъ мой! ангельчикъ! собинка вы моя! Ну, позвольте умолять васъ! ну, прикажите ручки ваши цѣловать!..
Она сползла со стула и повалилась Аглаѣ въ ноги, стукнувъ лбомъ въ носокъ ея ботинка. Аглая вскочила, испуганная, смущенная, пристыженная.
– Встань, Епистимія Сидоровна! Какъ можно? Встань!
Но Епистимія ползала за нею на колѣняхъ, ловя ее за платье, обращая къ ней лицо съ настойчивыми, нестерпимо сіявшими сквозь хлынувшія слезы, синими глазами.
– Солнышко вы мое! Если заговоритъ онъ съ вами о любви своей, – радостная вы моя! – не обезкураживайте вы парня моего! не убивайте!
Аглая, растерянная, взяла ее за плечи и старалась поднять.
– Но что же я могу, Епистимія? Ну, что я могу? повторяла она. Да встань же ты, сдѣлай мнѣ милость. Вѣдь я же не могу такъ… мнѣ стыдно…
Епистимія поднялась:
– Голубушка! – заговорила она, всхлипывая, съ по краснѣвшимъ носомъ, странною полосою обозначившимся на зеленомъ ея лицѣ. – Голубушка вы моя! Вѣдь все это, – что онъ науку свою предпринялъ, учится, къ экзамену готовится, – все это въ одной мечтѣ старается: буду образованный, стану всѣмъ господамъ равенъ, барышнямъ пара, Аглаѣ Викторовнѣ женихъ.
Аглая смотрѣла на нее внимательными, участливыми глазами и качала головою.
– Мнѣ жаль его, Епистимія. Мнѣ очень жаль его. Но ты сама говоришь, – и ты права, – это безуміе! Между нами нѣтъ ничего общаго. Нелѣпо! Смѣшно!
– Знаю! – даже восторженно какъ то воскликнула Епистимія. – Очень знаю! Матушка! Развѣ я васъ о согласіи прошу? Невозможно! Неровня! Но если y парня такая фантазія, что онъ по васъ съ ума сошелъ?
Аглая невольно улыбнулась.
– Не могу же я за всѣхъ, y кого ко мнѣ фантазія, замужъ итти!
Епистимія поймала ея улыбку и въ тотъ же мигъ ею воспользовалась.
– Вы погубили, вы и помогите, – съ глубокою ласкою сказала она, притягивая дѣвушку къ себѣ за руку и заставляя ее опять сѣсть на кровать, и сама сѣла рядомъ съ нею, обнимая ее за талію.
– Право, не вижу, чѣмъ я помочь въ состояніи.
– Да, вотъ, только тѣмъ, чего прошу. Не отказывайте на отрѣзъ.
– Ты странный человѣкъ, Епистимія Сидоровна. Какъ же я могу не отказать, если этого не можетъ быть, если я не согласна?
– Барышня, милая, не уговариваю я васъ соглашаться. Откажите. Богъ съ вами! Откажите, да не на отрѣзъ. Обѣщайте подумать. Срокъ для отвѣта положите.
Аглая задумалась.
– Когда нибудь отвѣтить надо же будетъ, – нерѣшительно сказала она. Но и этого было достаточно ободрившейся Епистиміи, чтобы убѣдительно впиться въ нее не только словомъ, но и пальцами:
– Дѣтинька моя! Если вы его хоть полусловомъ поманите, – онъ три года ждать радъ будетъ.
– И три года пройдутъ.
Но Епистимія, пожимая ее костлявымъ своимъ объятіемъ, похлопывая по колѣну костлявою рукою, говорила съ нервнымъ, лукавымъ смѣшкомъ сквозь слезы:
– Мнѣ лишь бы сейчасъ-то его уберечь, a въ теченіи времени, будьте спокойны: образуется. Всѣ силы старанія употреблю, чтобы его фантазію освѣжить и возвратить парня къ разсудку. Тоже имѣю надъ нимъ властишку-то. Только теперь то, сразу то въ омутъ его не толкайте.
Аглая встала. Ей и хотѣлось сдѣлать что нибудь пріятное для Епистиміи, которая всегда была къ ней отличительно ласкова и добра предъ всѣми другими Сарай-Бермятовыми, и дико было, не слагалось въ ея умѣ требуемое обѣщаніе.
– Ужасно странно, Епистимія Сидоровна! произнесла она, еще не зная, въ какую форму облечь свой отказъ, и въ смущеніи перебирая бездѣлушки на Зоиномъ комодѣ. A Епистимія, оставшись сидѣть на кровати, со сложенными въ мольбу руками, смотрѣла на Аглаю снизу вверхъ чарующими синими глазами и говорила съ глубокою, твердою силою искренности и убѣжденія:
– Барышня милая, пожалѣйте! Вѣдь – что я въ него труда и заботъ положила, чтобы изъ нашей тины его поднять и въ люди вывести! Мать то только что выносила его, да родила, a то – все я. Пуще роженаго онъ мнѣ дорогъ. Теперь онъ на перекресткѣ стоитъ. Весь отъ васъ зависитъ. Пожалѣете, – человѣкомъ будетъ, оттолкнете, – чорту баранъ. Что я буду дѣлать безъ него? Ну – что? Свѣта, жизни должна рѣшиться!
Аглая, тронутая, хорошо знала, что это правда, и ей еще больше хотѣлось помочь Епистиміи, и еще больше она недоумѣвала.
– Что же я должна сказать ему? Я, право, не знаю.
Епистимія подошла къ ней, ласковая, льстивая, гибкая.
– Мнѣ ли дурѣ учить васъ? Вы барышня образованная. У васъ мысли тонкія, слова жемчужныя.
Аглая отрицательно качнула головой.
– Какъ ни скажу, все будетъ обманъ.
– Лишь бы время протянуть! – съ мольбою вскрикнула Епистимія, хватая ее за плечо костяшками своими.
Аглая высвободилась.
– Я не умѣю лгать, – сказала она съ искренностью. – Когда приходится, теряюсь, бываю глупая. Братья сразу замѣчаютъ.
Епистимія отошла.
– Братья въ васъ не влюблены, – возразила она, – a Григорій слѣпой отъ любви ходить.
– Грѣшно человѣка въ лучшемъ чувствѣ его морочить.
– Нѣтъ, – строго возразила Епистимія. – Если ложь во спасеніе, то не грѣхъ, a доброе дѣло. Грѣхъ – чело вѣка въ отчаянность ввести.
Аглая долго молчала. Прислонясь къ комоду и положивъ руки на него, она, въ своемъ темнозеленомъ, почти черномъ платьѣ, казалась распятою. Епистимія издали ловила ея взглядъ, но Аглая упорно смотрѣла на коврикъ подъ ногами своими, и только видѣла Епистимія, что волненіе быстро краситъ ее румянцемъ, такъ что даже шея y нея порозовѣла…
– Да, этого я на себя не возьму, – произнесла она, наконецъ, голосомъ, въ которомъ тепло дрожала искренность самосознанія, – этого я никакъ не возьму на себя, чтобы изъ-за меня человѣкъ жизнь свою испортилъ.
Епистимія въ эти слова такъ и вцѣпилась, торжествующая, расцвѣтшая.
– Кабы только испортилъ, родная! – возбужденно подхватила она. – Кабы только испортилъ! Потеряетъ онъ себя, Аглаечка! Вѣрьте моему слову: вотъ, какъ самый послѣдній оглашенный, себя потеряетъ!
Аглая, поднявъ свои длинныя черныя рѣсницы, освѣтивъ ее задумчивыми, ласковыми глазами, повторила рѣшительно и твердо:
– Быть причиною того, чтобы чья-нибудь жизнь разрушилась, этого я и вообразить для себя не умѣю. Съ такимъ пятномъ на совѣсти – жить нельзя…
Синіе глаза побѣдно сверкнули, увядшія губы Епистиміи сжались въ важную складку, и все лицо приняло такое же значительное выраженіе, какъ тѣ слова, которыя она про себя подбирала, чтобы сказать ихъ Аглаѣ…
Но въ скрипнувшей изъ корридора двери показалось курносое лицо Марѳутки и пропищало, что архитекторъ отъ барина Симеона Викторовича уѣхалъ, и баринъ Симеонъ Викторовичъ приказываетъ тетенькѣ Епистиміѣ, чтобы немедленно шла къ нему… Глядя на Аглаю, Епистимія не могла не замѣтить, что она, какъ лучомъ, освѣтилась радостью прервать тяжелый разговоръ… И эта нескрываемая радость заставила ее придержать языкъ и замолчать то важное, что на немъ уже висѣло.
– Не время, – подумала она. – Не поспѣло яблочко. Сорвешь – погубишь, укусишь – оскомину набьешь…
И, накинувъ на острыя плечи сѣрый платокъ свой, она только низко поклонилась Аглаѣ:
– Ужъ я пойду, Аглая Викторовна, a то Симеонъ Викторовичъ будутъ сердиться… Очень много вами благодарна… Вѣкъ не забуду вашей ласки, какъ вы меня пріободрили… A разговоръ этотъ нашъ позвольте считать между нами неоконченнымъ, и, когда y васъ время будетъ, разрѣшите мнѣ договорить…
Аглая отвѣтила ей только нерѣшительнымъ и неохотнымъ склоненіемъ головы…
– И ужъ вы мнѣ позвольте надѣяться, – продолжала Епистимія, – что я передъ вами говорила – все равно, какъ попу на духу… чтобы – сдѣлайте милость – сберечь это въ секретѣ, между нами двоими: чтобы ни Зоинькѣ, ни братцамъ…
– Въ этомъ можешь быть совершенно увѣрена, – сказала Аглая. – Ты говорила, я слышала. Больше никто не будетъ знать.
Епистимія еще разъ поклонилась ей и вышла.
– Первую пѣсенку, зардѣвшись, спѣли, – хмуро думала она, идя корридоромъ къ кабинету Симеона. – Ну, да и за то спасибо. Я много хуже ждала… Теперь держись, Епистимія Сидоровна! Съ малиновкою было легко, – каково-то будетъ съ лютымъ сѣрымъ волкомъ?








