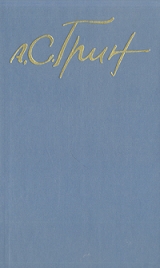
Текст книги "Том 5. Романы 1928-1930"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
Даже первый месяц брака не дал счастья молодой женщине, так горячо любившей своего мужа, что она не замечала его обдуманных действий, подготовляющих разрыв. Лишь первые дни брака Ван-Конет был внимателен к своей жене; с переездом в Покет он перестал стесняться и начал вести ту обычную для него жизнь, к которой привык. Он был рассеян, резок и насмешлив, как взрослый, быстро разочаровавшийся в игрушке, взятой им из прихоти для недолгой забавы. В этот день Консуэло была грубо оскорблена Ван-Конетом, попрекнувшим жену ее незнатным происхождением. Чтобы хотя немного рассеяться, молодая женщина отправилась на концерт одна, где, слушая взволновавшую и еще более расстроившую ее музыку, в задумчивости покинула концертный зал. Впервые так тяжко не совпадали выраженные высоким искусством чувства с ее горьким наивным опытом. Грустная, чувствуя желание остаться одной, она, мало зная город, медленно шла по бульвару не в ту сторону, куда надо было идти, и ее остановил Стомадор.
Мельком взглянув на него, Консуэло проронила несколько испанских слов и хотела пройти дальше, но Стомадор так бережно, хотя пылко, схватил ее руку, что она остановилась, не решаясь сердиться.
– Не уходите, не выслушав, – говорил Стомадор, растопырив руки, как будто ловил ее. – Сеньора, приговорен к смертной казни лучший мой друг, Джемс Гравелот, и на рассвете его повесят. Сеньора, помогите мне сказать такие слова, которые убедят вас! Идите к нему со мной, выслушайте и проводите его! Ваше сердце поймет это последнее желание, для которого слишком недостоин и груб мой язык, чтобы я мог его выразить!
Чувствуя серьезность нападения, видя расстроенное лицо, беспорядочную одежду, уже слегка зараженная неистовым волнением старого человека, Консуэло произнесла:
– Да простит бог его грешную душу, если это так, как вы говорите, добрый человек. Куда же вы зовете меня?
– В тюрьму, сеньора. Это не преступник, хотя и обвинен в перестрелке с таможней. Никто не верит в его преступность, так как его погубил Ван-Конет, сын губернатора. Гравелот ударил этого негодяя за подлый поступок. Месть, страх потерять выгодную невесту сгубили Гравелота. Но нет времени рассказывать все. Я вижу. вы сжалились, и ваша прекрасная душа бледнеет, как ваше лицо, слыша о преступлении. Вот его последнее желание, и судите, может ли так сказать черная душа: «Стомадор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать, если молода, – станет сестрой, если ребенок, – станет моей дочерью». Судите же, чего не получил умирающий и как жестоко отказать ему, потому что он болен, неподвижен и готовится умереть!
Эта речь, полная безыскусственного страдания, страшное обвинение ее мужа, отчего дрогнуло уже нечто непоправимое в душе тоскующей молодой женщины, отвели все колебания Консуэло. Она решилась.
– Я не откажу вам, – сказала Консуэло. – Есть причина для этого, и она довольно мрачна, чтоб я пыталась ее объяснить. Идемте. Ведите меня. Как мы пройдем?
– О, извините! Только через подкоп. Бегство не удалось, – ответил ликующий Стомадор, готовый из благодарности нести на руках это милое существо, так отважно решающееся подвергнуть себя опасности. – Верьте или нет, как хотите, но, по крайней мере, двадцать обращений было с моей стороны, и все они не имели успеха. И я не жалею, – прибавил он, – так как мне суждено было… Вы понимаете, что это правда, сеньора.
Несмотря на душевный мрак, более напоминающий смерть, чем лихорадочное возбуждение Давенанта, Консуэло не могла удержаться от улыбки, слушая наивную лесть и многое другое, что, поспешно шагая рядом с ней, говорил Стомадор, пока минут через пятнадцать они не проскользнули в дверь лавочного двора. Добросовестность Стомадора была теперь вполне ясна Консуэло, поэтому, хотя и с стеснением, вызываемым необычностью опасного происшествия, она все же храбро заглянула в слабо освещенную фонарем узкую шахту, сказав:
– Я вся перемажусь. Дайте мне завернуться во что-нибудь.
За то время, что они шли, из разговора со Стомадором стало ей вполне грубо и мерзко ясно сердце ее мужа, как будто открылись больные внутренности цветущего на вид тела, полные язв. И она хотела выслушать приговор свой от приговоренного, неведомо для себя распутавшего грязную ложь.
Быстрее кошки, уносящей скачком мышь, Стомадор кинулся в свою комнату, возвратясь с простыней, довольно чистой. Закутавшись с головой, Консуэло увидела выглянувшее снизу лицо Тергенса. Ее охватил глубокий интерес к предприятию, мрачность и трепет которого чем-то отвечали ее страданию.
– Еще все тихо, – с облегчением прошептал Стомадор. – Ночь милостива к Джемсу… Но обдумано же все действительно блестяще!
Молоденькая женщина с лицом самой совести казалась Стомадору доверчивой девочкой. Он парил около нее, бережно поддерживая при спуске.
– Клянусь терновым венцом! Вы – настоящие мужчины! – произнесла Консуэло, заглянув в жуткий тоннель, мрачно озаренный звездой фонаря. Действительно, можно было восхититься этой работой. – Хоть это утешение мне, – добавила она, оставив лавочника в недоумении насчет смысла своего замечания.
Между тем само положение тюрьмы против закоулка двора указывало истину слов ее расстроенного проводника. Теперь Консуэло считала прямой обязанностью своей загладить чем-нибудь зло, нанесенное ее мужем; она торопилась и пробиралась согнувшись. Ботредж, пораженный ее видом, молчал, прижавшись к стене прохода, чтобы пропустить женщину. Она наступила ему на руку, но он даже не пошевелился. Тергенс пополз вперед и сел у второго выхода, протянув ноги. Консуэло и лавочник перешагнули через его ноги с большим удобством, чем минуя длинное туловище Ботреджа. На счастье всех действующих лиц тюремной драмы, ветер дул им в лицо. Карабкаясь по ступенькам деревянной лестницы, Консуэло выбралась наверх. Бросив простыню в отверстие, она неслышно прошла за Стомадором те десять шагов, которые отделяли подкоп от двери лазарета, и, прижимаясь к стене угла, скользнула в яркое помещение. Из всех манипуляций прохода к двери и обратно эти два шага под прикрытием узкой дверной плоскости были острейшим испытанием риска. Грузный Стомадор, как и первый раз, лег у двери на бок, подтянувшись затем на руках. Консуэло прижималась к стене спиной, расставив руки и откинув голову. Такие же предосторожности принимались всеми, не исключая Факрегеда, и если принять во внимание, что за время действия было всего тринадцать следовании разных людей из дверей и в двери лазарета, причем никто не зашумел, не споткнулся, то станет ясным, какое напряжение потрачено было на этом крошечном участке тайной борьбы.
К моменту ее появления Давенант уже забыл, кто может придти. Его бессвязная речь, коснувшись отца, бегства, Ван-Конета, странной тактики адвоката, становилась затрудненной. Когда он умолкал, Галеран говорил с ним, укрепляя его, как мог, соображениями о возможности отсрочки исполнения приговора. Уже он хотел проститься и уйти, не веря в поиски Стомадора и сознавая, что опасность растет, как Давенант сказал:
– Отдайте серебряного оленя Роэне и Элли Футроз. Не знаю, когда это было
– сейчас или в прошлую ночь, казалось мне, что я видел на столе свечу, горящую днем. В окно врывался ветер, но пламя свечи не шевелилось, не гасло, лишь быстро таяла эта свеча…
Факрегед открыл дверь, пропустив Стомадора и молодую женщину, с ужасом взглянувшую на распростертого человека. Его измученное и ясное лицо еще не успело потерять свое, далекое всему, выражение. Лекан, которого Стомадор огорошил при входе заявлением: «Это племянница начальника тюрьмы!» – силой тащил теперь за рукав Факрегеда, чтобы получить объяснение происходящего и отпроситься бежать. Они удалились.
– Это я… это я, – твердил Стомадор. – Я нашел эту фею, а не Ботредж… это божество… это утешение, этого рыцаря-девочку. Она девочка. Я, может быть, раз тридцать останавливал всяких подходящих особ!
Упавшее было настроение Галерана поднялось на небывалую высоту. В эту ночь все лучшее человеческих сердец раскрывалось перед ним и невозможное становилось простым.
– Вы подвергаетесь величайшей опасности, – сказал Галеран молодой женщине, догадываясь о ее положении в жизни с одного взгляда на нее. – Если нас всех накроют, не миновать боя, и, хотя мы вас не дадим тронуть, риск все же огромен.
– Для меня это не так страшно, – ответила Консуэло, с гордым видом человека, знающего себя. – Могут быть только неприятности, но я на это пошла.
«Кто же она?» – думали все, чувствуя, что Консуэло не бодрится, а говорит правду. В камере повеяло неясной надеждой. Давенант глубоко вздохнул. Темная вода временно ушла из его сознания, и, безмерно счастливый тем высшим, что выпало на его долю среди мучений и страха, он оживился.
– Сознание мое прояснилось, – заговорил Давенант. – Мой бред привел вас сюда; это был не совсем бред, – прибавил он, уже жалея существо, несущее так много отрады одним звуком своего голоса, такое настоящее – то самое, такое удивительное и прекрасное, как будто бы он сам придумал его. – О, – сказал Давенант, – я спокоен, я равен теперь самым живым среди живых. Уходите! Простите и уходите.
– Но постойте. Я еще не опомнилась, а вы меня уже гоните. Вы приговорены к смерти, несчастный человек?
– Видя вас, хочется сказать, что я приговорен к жизни. Тронутая благородным тоном этой тоскливой шутки, Консуэло заставила себя отрешиться от собственного страдания и, став у койки, склонилась, положив руку на грудь Тиррея.
– В этот момент я не совсем чужой вам человек. Вы будете жить. Правда ли все то, что рассказал мне мой проводник о вашем столкновении с Ван-Конетом?
– Да – сказал Давенант, восхищенный и удивленный ее решительным и милым лицом. – Но каждый поступил бы так, как поступил я. В присутствии своей любовницы, приятелей, проезжая с попойки к ничего не подозревающей о его похождениях невесте, о чем похвалялся, публично унижая ее, тут же за столом этот человек захотел оскорбить и грубо оскорбил одну проезжавшую женщину. Немало досталось от него и мне. Я ударил его во имя любви.
Консуэло всплеснула руками и закрыла лицо. Не удержав слезы, она опустила голову, плача громко и горько, как избитый ребенок.
– Не сожалейте, не страдайте так сильно! – сказал Давенант. – Зачем я рассказал вам все это?
– Так было необходимо, – вздохнула несчастная, поднимаясь с табурета, на который села, когда Давенант начал с ней говорить. – Но я ничего не знала! Я
– Консуэло Ван-Конет, жена Георга Ван-Конета, которая вас спасет. Я ухожу. Верьте мне. Скорее проводите меня.
От ее слов стало тихо, и все оцепенели. Произошла та суматоха молчания, когда оглушение событием превосходит силой возможность немедленно отозваться на него разумным словом. Давенант громко сказал:
– Я спасен. А вы? Чем я вас утешу? Не проклинайте меня!
Все неясное, вызванное поведением Консуэло, стало на свое место, и Стомадор испугался.
– Простите … – бормотал он, – умоляю вас, не раскрывайте никому, что так стряслось, не погубите нас всех!
Консуэло только улыбнулась ему. Бросив приговоренному теплый взгляд, она торопливо вышла, провожаемая Стомадором и паническим взглядом Лекана. Давенант не смог больше ничего сказать женщине, так тяжко подвернувшейся под удар. Галеран вытащил из-под его подушки револьвер и махнул ему рукой, шепнув:
– Жди, а через полчаса потребуй врача.
Камера опустела.
Донельзя обрадованный Лекан бормотал:
– Скорей, скорей!
И, как только три человека, один за другим, исчезли в подкопе, шепнул вслед Стомадору:
– Ящик… Два ящика, подставить к этой дыре, мы засыплем ее.
Слова Лекана услышал Тергенс. Сообразив все значение такого предложения, он, когда проход опустел, приволок два ящика и поставил их один на другой так, что доска верхнего закрыла снизу отверстие.
– Что же это такое? – сказал Ботредж Тергенсу.
– Молчи. Происходит то, о чем иногда думаешь ночью, если не спишь. Тогда все меняется.
– Ты бредишь? – сказал Ботредж понурясь.
– Ну нет. Выйдем. Все там, в лавке.
С яростью, вызванной ощущением почти миновавшей опасности, Факрегед и Лекан забросали дыру землей с клумб и притоптали ее. К утру разразился проливной дождь, отчего это место меж двух кустов приняло естественный вид.
Обессилевший Факрегед вошел в камеру Давенанта, который долго смотрел на него, затем улыбнулся.
– Я спасен, – тихо произнес он.
– Что? Эта женщина спасет вас?
– Нет. Не знаю. Я спасен так, как вы понимаете, но не хотите сказать.
Он затих и начал бредить. Факрегед вымыл руки, запер Тиррея, тщательно подмел коридор и взглянул на часы. Они показывали четверть третьего.
– Как будто вся жизнь прошла, – пробормотал Факрегед.
Пока два контрабандиста устраивали заслон из ящиков, а надзиратели маскировали отверстие, Гале-ран, Консуэло и Стомадор сошлись в задней комнате лавки.
– Спасите его, – сказал Галеран заплаканной молодой женщине. – Не время углубляться в происшествие. Сядьте в мой автомобиль.
– Поймите, что я чувствую, сеньора! – проговорил Стомадор. – Я так потрясен, что уже не могу стать таким бойким, как когда встретил вас.
Молча пожав ему руку, Консуэло записала адрес Галерана, и он проводил ее на пустырь, где Груббе уже изнемог, ожидая конца.
– Груббе, – сказал Галеран, – опасность для меня миновала, но не миновала для Давенанта. Помни, что ты теперь повезешь его спасение.
– Кто он? – спросила Консуэло, усаживаясь в автомобиль.
– Все будет вам известно, – сказал Галеран, – пока я только назову вам его имя Тиррей Давенант. Один из самых лучших людей. Пожалуйста, известите меня.
Консуэло мгновенно подумала.
– Все решится до рассвета, – сказала она и, кивнув на прощание, дала Груббе свой адрес.
Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привезти ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стомадора.
– Так вот что произошло, – сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы. – Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа, это уж так.
Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стомадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горла бутылок ударами одна о другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания.
– Вставайте, – сказал Ботредж. – Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется, – убежим.
Глава XVIДом, купленный Ван-Конетом в Покете, еще заканчивался отделкой и меблировкой Супруги занимали три роскошных номера гостиницы «Сан-Риоль», соединенных в одно помещение с отдельным выходом.
Георг Ван-Конет вернулся с частного делового совещания около часу ночи. Утверждение его председателем Акционерного общества должно было состояться на днях.
Слуги сказали ему, что Консуэло еще не возвратилась домой. Скорее заинтересованный, чем встревоженный таким долгим отсутствием жены, зевая и бормоча:
«Ей пора завести любовника и объявить о том мне», – Ван-Конет уселся в гостиной, очень довольный движением дела с председательским веслом, стал курить и вспоминать Лауру Мульдвей, сказавшую вчера, что изумрудный браслет стоимостью пять тысяч фунтов у ювелира Гаррика нравится ей «до сумасшествия».
Небрежная, улыбающаяся холодность этой женщины с всегда ясным лицом раздражала и пленяла Ван-Конета, уставшего от любви жены, не знающей ничего, кроме преданности, чести и искренности.
Ван-Конет был стеснен в деньгах. Приданое Консуэло почти целиком разошлось на приобретение акций, уплату карточных долгов, подарки Лауре, Сногдену; солидная его часть покрыла растраты отца, а также выкуп заложенного имения.
Он задумался, задумался светло, покойно, как баловень жизни, уверенный, что удача не оставит его.
«Исчезла жена», – подумал, усмехаясь, Ван-Конет, когда часы пробили два часа ночи.
В это время за дверью полуосвещенной соседней комнаты послышались легкие, быстрые, – такие быстрые шаги, что муж с беспокойством взглянул по направлению звуков. Консуэло вошла как была – в черных кружевах. Ее вид, утомление, бледность, заплаканное, осунувшееся лицо предвещали несчастье или удар.
– Что с вами? – сказал Ван-Конет невольно значительнее, чем хотел.
Он встал. Еще яснее почувствовал он беду.
– Георг, – тихо ответила Консуэло, смотря на него со страхом, подавляя вздох приложенной к сердцу рукой и вся трепеща от боли, – идите, спасите человека, в этом и ваше спасение.
– Что произошло? Откуда вы? Где вы были?
– Каждая минута дорога. Ответьте: месяц назад гостиница «Суша и море» ничем не врезалась в вашу память?
Ван-Конет испуганно взглянул на жену, повел бровью и бросился в кресло, рассматривая близко поднесенные к глазам концы пальцев.
– Я не посещаю трактиров, – сказал он. – Прежде чем я узнаю причину вашего поведения, я должен объяснить вам, что моя жена не должна исчезать, как горничная, без экипажа, маскарадным приемом.
– Не браните меня. Вы знаете, как я расстроилась сегодня от ваших жестоких слов. Я была на концерте, чтобы развеселиться. И вот что ждало меня: произошла встреча, после которой мне уже не жить с вами. Спасайте себя, Георг. Спасайте прежде всего вашу жертву. Утром должны казнить человека, имя которого Джемс Гравелот… Что же… Ведь я вижу ваше лицо. Так это все – правда?
– Что правда? – крикнул обозлившийся Ван-Конет. – Дал ли я зуботычину трактирщику? Да, я дал ее. Еще что принесли вы с концерта?
– Ну, вот как я скажу, – ответила Консуэло, у которой уже не осталось ни малейших сомнений. – Спорить и кричать я не буду. В тот день, когда вы были у меня такой мрачный, я вас так сильно любила и жалела, вы оказались подлецом и преступником. Я не жена вам теперь.
– Хорошо ли вы сделали, играя роль сыщика? Подумайте, как вы поступили! Как вы узнали?
– Никогда не скажу. Я ставлю условие: если немедленно вы не отправитесь к генералу Фельтону, от которого зависит отмена приговора, и не признаетесь во всем, если надо, умоляя его на коленях о пощаде, – завтра весь Покет и Гертон будет знать, почему я бросила вас. Вам будут плевать в лицо.
Ван-Конет вскочил, подняв сжатые кулаки. Его ноги ныли от страха.
– Не позже четырех часов, – сказала Консуэло, улыбаясь ему с мертвым лицом.
Ван-Конет опустил руки, закрыл глаза и оцепенел. Хорошо зная жену, он не сомневался, что она сделает так, как говорит. Ничего другого, кроме встречи Консуэло с каким-то человеком, все рассказавшим ей, Ван-Конет придумать не мог, и его нельзя за это обвинить в слабоумии, так как догадаться о сообщении с тюрьмой через подкоп мог бы разве лишь ясновидящий.
– Не напрасно я ждал от вас чего-нибудь в этом роде, – сказал Ван-Конет, глядя на жену с такой ненавистью, что она отвернулась. – Я все время ждал.
– Почему?
– В вас всегда был неприятный оттенок бестактной резвости, объясняемый вашим происхождением не очень высокого рода.
– Низким происхождением?! Я была ваша жена. Нет ближе родства, чем это. Разве любовь не равняет всех? Низкой души тот, кто говорит так, как вы. Меня нельзя оскорбить происхождением, я – человек, женщина, я могу любить и умереть от любви. Но вы – ничтожны. Вы – корыстный трус, мучитель и убийца. Вы – первостатейный подлец. Мне стыдно, что я обнимала вас!
Ван-Конет растерялся. Его внутреннее сопротивление гневу и горю жены было сломлено этой так пылко брошенной правдой о себе, чему не может противостоять никто. Он стал перед ней и схватил ее руки.
– Консуэло! Опомнитесь! Ведь вы любили меня!
– Да, я вас любила, – сказала молодая женщина, отнимая руки. – Вы это знаете. Однако сразу после свадьбы вы стали холодны, нетерпеливы со мной, и я часто горевала, сидя одна у себя. Вы взяли тон покровительства и вынужденного терпения. Вот! Я не люблю покровительства. Знайте: просто говорится в гневе, но тяжело на сердце, когда любовь вырвана так страшно.
Она, мертвая, в крови и грязи у ног ваших. Мне было двадцать лет, стало тридцать. Сознайтесь во всем. Имейте мужество сказать правду.
– Если хотите, – да, это все правда.
– Ну, вот… Не знаю, откуда еще берутся силы говорить с вами.
– Так как мы расходимся, – продолжал Ван-Конет, ослепляемый жаждой мести за оскорбления и желавший кончить все сразу, – я могу сделать вам остальные признания. Я вас никогда не любил. Я продолжаю отношения с Лаурой Мульдвей, и я рад, что развязываюсь с вами так скоро. Довольны ли вы?
– Довольна?.. О, довольно! Ни слова больше об этом!
– Я могу также…
– Нет, прошу вас! Что же это со мной? Должно быть, я очень грешна. Так ступайте. Я не пощажу вас.
– Да. Я вынужден, – сказал Ван-Конет. – Я буду спасать себя. Ждите меня.
– Торопитесь, этот человек опасно болен.
О! Мы вылечим его, и я надеюсь получить вашу благодарность, моя милая.
Несмотря на охвативший его страх, Ван-Конет очень хорошо знал, что делать. Спастись он мог только отчаянным припадком раскаяния перед Фельтоном, сосредоточившим в своих руках высшую военную власть округа. Он не раскаивался, но мог притвориться очень искусно помешавшимся от отчаяния и раскаяния. Медлить ему даже не приходило на ум, тем более не помышлял он обмануть жену, зная, что будет опозорен навсегда, если не выполнит поставленного ему условия. Сказав: «Ждите. Я начинаю действовать», – сын губернатора бросился в свой кабинет и соединил телефон с тюрьмой.
Уже осветились окна квартиры начальника тюрьмы, а также канцелярии.
– Это вы, Топпер? – крикнул Ван-Конет начальнику, слушавшему его. Он был знаком с ним по встречам за игрой у прокурора Херна. – Ван-Конет, бодрствующий по неопределенной причине. Сегодня у вас большой день?!
– Да, – сдержанно ответил Топпер, не любивший развязного тона в отношении смертных приговоров. – Признаюсь, я очень занят. Что вы хотели?
– Чертовски жаль, что я досаждаю вам. Меня интересует один из шайки – Гравелот. Он тоже назначен на сегодня?
– Едва ли, так как с ним плохо. Он почти без сознания, врач полчаса назад осмотрел его, и, по-видимому, он умрет сам от заражения крови. Его мы оставляем, а прочих увезут в четыре часа.
«Положительно, мне везет», – размышлял Ван-Конет, возвращаясь к жене, с внезапной мыслью, настолько гнусной, что даже его дыхание зашлось, когда он взглянул на дело со стороны. Соблазн пересилил.
– Консуэлита, – сказал Ван-Конет женщине, ставшей его жертвой, – я еду к Фельтону. Ручаюсь, что я выполню ваше желание. Сможете ли вы подарить мне пятнадцать тысяч фунтов?
– Чек будет готов, как только вы известите меня, – ответила Консуэло без колебания, уже не мучаясь этой новой низостью, но так внимательно рассматривая мужа, что он слегка покраснел.
– Боже мой! Я совсем без денег, – сказал Ван-Конет. – Это просьба, не ультиматум. Вы великодушны, а я не хочу, чтобы вы считали меня корыстным. Я вас застану?
– Нет.
– Куда же вы отправляетесь?
– Это – мое дело. А пока избавьте меня от своего присутствия.
– Болтайте, что хотите, – сказал, уходя, Ван-Конет, – это наш последний разговор.
Генерал Фельтон, с которым должен был говорить Ван-Конет, занимал небольшой одноэтажный дом, стоявший недалеко от гостиницы «Сан-Риоль». Фельтон еще не спал, когда ему доложили о неожиданном посещении Ван-Конета. Фельтону редко удавалось лечь раньше пяти утра, по множеству важных военных дел.
Генерал был человек среднего роста, державшийся очень прямо благодаря неестественно приподнятому правому плечу, раздробленному в сражении при Ингальт-Гаузе. Седые, гладко причесанные назад волосы Фельтона искусно скрывали лысину. В некрасивом, нервном лице генерала светился обширный, несколько капризный ум баловня войны, прозревающий мельчайшие оттенки сложных схем, но могущий ошибаться в простом умножении.
– Нельзя ли отложить свидание с ним до завтра? – сказал Фельтон адъютанту.
Адъютант вышел и скоро вернулся.
– Ван-Конет просит немедленной аудиенции по бесконечно важному делу. Оно секретно.
– Что делать! Пригласите его.
Когда появился Ван-Конет, никого, кроме генерала, в комнате не было. Удивленный расстроенным видом молодого человека, с которым был немного знаком, Фельтон добродушно протянул ему руку, но, отчаянно тряхнув сложенными руками, Ван-Конет бросился перед ним на колени и, рыдая, воскликнул:
– Спасите! Спасите меня, генерал! Моя жизнь и смерть в ваших руках!
– Встаньте, черт возьми! – процедил Фельтон, бросаясь к нему и силой заставляя встать. – Что вы наделали?
– Генерал, пощадите жизнь невинного, погубленного мной, – заговорил Ван-Конет с искренней страстью человека, действующего ввиду опасности очертя голову, под наитием расчета и страха. – Утром будет повешен Джемс Гравелот, обвиняемый в вооруженном сопротивлении береговой страже. Он не контрабандист. Я приказал подбросить ему, в его гостиницу на Тахенбакском шоссе, мнимую контрабанду ради того, чтобы путем ареста Гравелота избежать поединка и отомстить за удар, который он мне нанес, когда в этой гостинице я гнусно оскорбил какую-то проезжую женщину.
– Недурно! – сказал Фельтон, смешавшись и краснея от такого признания.
Пораженный отчаянием негодяя, он несколько мгновений молча рассматривал Ван-Конета, закрывшего руками лицо.
– Что же… Все это правда?
– Да, позорная правда.
– Как вы могли так низко пасть?
– Не знаю… я пил… пил сильно… я погряз в разврате, в игре… Моя воля исчезла. Я кинулся к вам под влиянием моей жены. Она сумела заставить меня почувствовать ужас моего поведения. Если Гравелот будет повешен, я не снесу этого. Мое завещание готово, и я…
– Да, такой выход был бы неизбежен, – перебил Фельтон. – Ну, расскажите подробно.
Находя неописуемое удовольствие в самооплевывании, Ван-Конет, хорошо помнивший проповеди Сногдена о сверхчеловеческой яркости «душевных обнажений», так изумительно точно рассказал неприглядную историю с Гравелотом, что Фельтон стал печален.
– Откровенно скажу вам, – произнес Фельтон, – что мне вас ничуть не жаль. Другое дело – этот Гравелот. Вот что: если ваше раскаяние искренне, если вы измучены своим позором и готовы умереть ради спасения невинного, даете ли вы мне слово бросить тот образ жизни, какой привел вас к преступлению?
– Да, – сказал Ван-Конет, поднимая голову. – Одна эта ночь переродила меня. Скройте мой грех. О генерал, если бы я мог открыть вам мое сердце, вы содрогнулись бы от сострадания к падшему!
– Попробую верить. Но, должен признаться, вид ваш для меня нестерпим. Извините эту резкость старика, привыкшего объясняться коротко. Успокойте вашу жену. Дело Гравелота, а заодно всех остальных, будет пересмотрено. Я выпущу Гравелота под личное ваше поручительство. Его не будут очень искать.
– Генерал! – вскричал Ван-Конет. – Какими хотите муками я отплачу вам за это великодушие, дающее мне право дышать!
– Ах, – сказал несколько смягченный его ликованием Фельтон. – Все это не то. Жизнь, если хотите, полна мерзостей. Держите руки чистыми, милый мой.
Затем он выпроводил посетителя и, просмотрев дело контрабандистов, отдал адъютанту соответствующие приказания, немедленно протелефонированные в тюрьму, Херну и в канцелярию военного суда. Предлогом пересмотра дела явилось новое обстоятельство, сообщенное Ван-Конетом: участие Вагнера, которого следовало теперь разыскать.
Исполнив все формальности по выдаче поручительства за освобождаемого до нового суда Давенанта, Ван-Конет приехал домой и узнал от слуг, что его жена уже выехала, взяв один саквояж, и не сказала ничего о том, куда едет. Впрочем, на столе в кабинете брошенного мужа лежал запечатанный конверт с цифрой телефона на нем. Вскрыв конверт, Ван-Конет увидел чек.
Утомленно вздохнув, он соединил телефон с квартирой Лауры Мульдвей, Она спала и заявила об этом тоном сурового выговора.
– Что до того? – возразил Ван-Конет. – Изумрудный браслет – ваш, дорогая, и вы завтра его получите. Консуэло больше нет здесь. Она уехала навсегда.
– О! Важные новости. Отчего же вы раньше не разбудили меня?
– Не существенно. Но браслет?!
– Браслет прелестен. Я жду.
– Спокойной ночи, утром я буду у вас. Ван-Конет оставил ее и позвонил Консуэло. Она ждала в гостинице, где жил Галеран, заняв там перед отъездом домой небольшой номер.
– Где вы находитесь? – насмешливо спросил Ван-Конет, услышав ее тревожный голос. – Не есть ли это телефон рая?
– Говорите же, говорите скорей! – воскликнула Консуэло. – Вам удалось?
– Конечно. Генерал был очень любезен.
– Тогда мне больше ничего не нужно от вас.
– Я взял Гравелота под свое поручительство. Необходимые документы, вероятно, уже в тюрьме. Вы можете, Консуэлита, заполучить вашего умирающего.
– Прощай, жестокий человек! – сказала Консуэло. – Пусть ты найдешь сердце, способное изменить тебя.
– Благодарю за чек, – грубо сказал Ван-Конет. – У вас еще остались деньги. Муж будет.
С этим он отошел от телефона, а Консуэло, сев в автомобиль Груббе, ждавшего ее решений, отправилась к Стомадору. Только один Галеран ждал ее возле лавки. Стомадор и контрабандисты сидели на пустыре, за двором.
– Спасен! – сказал им Галеран. – Я увезу его. Дело пересмотрится. Гравелот сегодня будет на свободе, под поручительством своего врага, Ван-Конета.
– Так не напрасно работали, – сказал потрясенный Ботредж. – Тергенс, ведь ваш брат тоже спасется. Одно из другого вытекает. Это уж так.
– Понятно, – ответил Тергенс. – Вот всем стало хорошо.
– Вам нечего бежать, – заметил Стомадор, – а я готов, я уже собрался. Никак не выходит мне сидеть на одном месте. Передайте Гравелоту, что я согрел свою старую кровь вокруг его несчастья. А где же та, золотая … чудесная, которую я поймал?
– Вот она, – сказал Галеран, увидев силуэт Консуэло, идущей от автомобиля.
– Благодарим вас, – произнес Тергенс, кланяясь бледной тихой женщине, – узнали мы за одну ночь столько, сколько за всю жизнь не узнаешь!
– Прощайте, мужественные люди, – сказала всем Консуэло, – я не забуду вас.
Она поцеловала их низко опущенные хмельные головы и вернулась сесть в экипаж. Галеран отдал полторы тысячи фунтов Стомадору и по двести – контрабандистам. Они взяли деньги, но хмуро, с стеснением. Для надзирателей Галеран прибавил Ботреджу триста фунтов: двести Факрегеду и сто Лекану.
Затем все попрощались с Галераном и исчезли, растаяли в темноте. Брошенная лавка осталась без присмотра, на произвол судьбы. Галеран и Консуэло уехали ждать наступления дня, чтобы часов около восьми утра вызвать санитарную карету Французской больницы, а с ней – лучшего хирурга Покета, врача Кресса.








