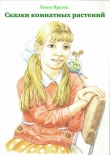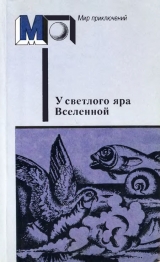
Текст книги "У светлого яра Вселенной(сб.)"
Автор книги: Александр Беляев
Соавторы: Иван Ефремов,Алексей Толстой,Владимир Одоевский,Валерий Брюсов,Константин Циолковский,Николай Морозов,Александр Богданов,Дмитрий Зиберов,Василий Левшин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
Потом, не стоит приуменьшать значение нашей науки. Ее «завтрашний день» дальше, чем у других отраслей знания, она сделается необходимой позже других, но сделается, когда мы сможем вплотную взяться за человека. Наш организм – это исторически сложившаяся сложнейшая комбинация эволюционных наслоений от рыбы до высшего млекопитающего. И понять биологию человека по-настоящему без изучения всей эволюционной лестницы нельзя. А от этого целиком зависит медицина будущего, сохранение человека как вида и еще многое другое. Сейчас эти вопросы еще далеки от нас, но приближаются с каждым днем. И мы готовим для них точную основу знания. Бросить наше дело нельзя еще и потому, что человеку, строящему будущее, необходим общий подъем культуры, знания и широкий кругозор. Наука имеет свои законы развития, не всегда совпадающие с практическими требованиями сегодняшнего дня. И ученый не может быть врагом современности, но и не может быть тольков современности. Он должен быть впереди, иначе он будет только чиновником. Без современности – фантазер, без будущего – тупица. А ведь еще Петр Великий это хорошо понимал. Вспомните его указ о непременном сборе ископаемых костей – это в те-то тяжелые времена, в бедной и бескультурной стране!
Давыдов потушил папиросу и по рассеянности бросил ее на пол. Аспиранты этого не заметили. Женя перегнулась боком через стол, глядя на Давыдова. Тамара стояла с победно поднятой головой, а Михаил хмуро опустил глаза.
– Теперь о другой стороне вашего вопроса, – продолжал Давыдов. – Тут тоже не следует преувеличивать. Сила атомного оружия, безусловно, очень велика, но отнюдь не абсолютна. Говорить о гибели цивилизации и безразлично опускать руки нельзя – так поступают многие интеллигенты на Западе, пытаясь оправдать свое бездействие. И без того сейчас там культура сильно отстает от техники. Люди приобретают все большую власть над природой, забывая о необходимости воспитания и переделки самого человека, часто недалеко ушедшего от своих предков по уровню общественного сознания. А вы, советская молодежь, хотите быть бойцами за культуру, за будущее счастье человечества. Тогда верьте в могущество нашей страны и, не колеблясь, идите по выбранному пути! Возможно, что впереди, вряд ли очень скоро, – новая грозная война, решающая схватка старого с новым. Делая наше дело, мы будем бороться за нашу культуру. Благородная задача – отстоять ее от варварства, вооруженного последним словом техники! Потом, представляете ли вы как следует, что такое атомная энергия сейчас? Большая часть элементов из числа всех девяноста двух обладает весьма и весьма устойчивыми ядрами. Чтобы разбить их, нужно приложить энергию, большую, чем мы получим от их распада. И это не случайно. За миллиарды лет формирования вещества нашей планеты, как и других планет, в процессах изменения звездного вещества произошел как бы отбор – все неустойчивое распалось, перегорело, так сказать, перешло в устойчивые формы. Менее стойки по отношению к распаду – элементы начала менделеевской таблицы, вплоть до кислорода, особенно литий, бериллий, бор, углерод. Но атомная машина, работающая на этих элементах, будет действовать только в условиях колоссальных масс вещества, чудовищных температур и давлений. В звездах именно эти элементы и составляют основу их энергетики. Мы пока еще не можем их использовать и, по-моему, не скоро сможем – нужны особые количественные условия для их цепных реакций. Сейчас мы подошли к использованию цепных реакций в элементах самого конца менделеевской таблицы, самых тяжелых по своим атомным весам. Это тоже не случайно – самые тяжелые элементы очень богаты нейтронами и легко распадаются, осуществляя цепную нейтронную реакцию – единственную, которую мы можем технически использовать в настоящий момент. И этот распад отнюдь не следует представлять как полный распад всего атома полностью. Атом тяжелого элемента как бы раскалывается на две части, каждая из которых дает устойчивые элементы середины менделеевской таблицы. При этом освобождается частично энергия, которая и есть энергия атомной бомбы. Тут еще очень далеко до полного распада и не менее далеко до цепной реакции с устойчивыми элементами.
Пока наше овладение атомной энергией сводится к овладению, еще далеко не полному, способностью самого тяжелого элемента, урана – последнего в таблице, – распадаться на два более легких элемента. Это еще не есть овладение энергией любого вещества так, как вам представляется. Уран по своему положению в таблице находится на самом пределе естественных устойчивых элементов. Вы знаете, что можно повысить атомный вес урана и получить искусственные элементы, выходящие уже за пределы таблицы, – нептуний и плутоний, девяносто третий и девяносто четвертый искусственные элементы. Уран можно превращать и дальше, создавая элементы девяносто пятый и девяносто шестой – америций и кюрий, и так далее – до сотого или больше номера.
Все они неустойчивы, подвергаются полураспаду. Энергия полураспада плутония и составляет взрывную силу атомных бомб, так же как и энергия неустойчивой формы урана – так называемого изотопа двести тридцать пять. Несомненно, в космических процессах превращения материи ранее существовали элементы более тяжелые, чем уран, но впоследствии они перешли в устойчивые формы основных девяноста двух. Поэтому уран мы можем рассматривать как остаток этих сверхтяжелых элементов, уцелевший вследствие своего рассеянного состояния, вдобавок встречающийся в верхних зонах земной коры, где он устойчив в условиях сравнительно небольших температур и давлений. Уран и, вероятно, второй близкий к нему тяжелый элемент, торий, надолго останутся основой атомной энергии, ибо между использованием способности урана к полураспаду и использованием энергии вещества других элементов лежит глубокая пропасть, которую мы вряд ли скоро перейдем. Но уран и торий – крайне редкие элементы, запасы их в мире очень незначительны. Отсюда следует, что пока накопление запасов взрывчатого вещества для атомных бомб и ракет весьма ограниченно…
– Вас к телефону, Илья Андреевич, – вызов с междугородной! – послышался голос из-за двери.
– Сейчас, сейчас! – Давыдов с мучительным выражением наморщил лоб. – Ну, вот то, что я хотел вам рассказать об атомной энергии… Урана немного, его запасы могут быть израсходованы очень быстро. Поэтому, глядя в будущее, мы должны изыскать крупные запасы этого драгоценного вещества. И мы… – Профессор вдруг умолк, поглаживая виски и глядя остановившимся взором поверх голов своих собеседников. – Крупные запасы урана… огарки формирования планеты, – тихо забормотал Давыдов. – Эх, черт и трижды черт! Так…
Профессор словно поперхнулся и быстро вышел из аспирантской комнаты.
– Что это случилось с Ильей Андреевичем? – воскликнула Тамара, нарушая общее недоуменное молчание. – Я могу поклясться, что он чуть было не сказал черного слова!
– Что ты выдумываешь, Тамара! – негодующе возразила Женя. – Просто его перебили с этим несчастным телефоном. И все нам испортили… Так интересно он говорил.
– Уверяю тебя, что с ним что-то произошло. Тебе из-за шкафа не было видно. Он изменился в лице, будто привидение увидел.
– Верно, верно, Том, – поддержал Михаил, – я тоже заметил. Может быть, ему пришла в голову интересная мысль?
Догадка Михаила была правильной. Давыдов шагал по коридору, и все его мысли сосредоточились вокруг внезапно возникшей догадки. Ученый перенесся на два года назад, когда под впечатлением страшной волны, разрушившей остров, он всматривался с борта парохода в глубину океана и в мозгу его формировалась еще робкая идея о силах, вызывающих движения земной коры. С тех пор он непрерывно подбирал факты и размышлял, постепенно переходя от этих явлений современности к гораздо более крупным во времени и пространстве горообразовательным процессам прошлого. И теперь разве не сама судьба дает ему в руки доказательство правильности его предположения?
Давыдов взял трубку. Ответа не было, но он механически продолжал прижимать трубку к уху, думая о своем. Двадцать лет мучила Давыдова загадка «полей смерти» динозавров в Средней Азии. Вдоль подножия Тянь-Шаня тянутся гигантские скопления костей огромных ящеров. Миллионы особей самого различного возраста погребены в этих скоплениях. Но раньше они были еще гораздо больше, так как мы имеем дело лишь с остаточными местонахождениями, размытыми в третичное время при дальнейшем поднятии гор. Что могло вызвать такую массовую гибель именно в этом месте? Не вымирание же вдруг от каких-то неизвестных причин! Нет, массовая гибель динозавров совпала по времени с началом великой альпийской эпохи горообразования, поднявшей хребты: Тянь-Шань, Гималаи, Кавказ и Альпы. Совпала и в пространстве, территориально. Тогда, семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, эти хребты медленно вспучивались рядами параллельных складок – совсем так, как это происходит сейчас на Тихом океане. Разница была только в том, что тянь-шаньские складки мелового периода образовывались не в океане, а на суше, по окраине моря, и эта область была населена наземными животными. Кроме того, в меловую эпоху складкообразование имело гораздо больший масштаб, чем теперь. Одни и те же процессы образования гор тогда и теперь обязаны силам уранового распада в глубинах земной коры или, вернее, распада сверхтяжелых элементов вообще. Если это предположение верно, то нет ничего невероятного, что энергия цепных реакций в некоторых областях в какие-то моменты прорывалась наружу, хотя бы в виде мощного излучения. Образовался обширный район, в течение тысячелетий смертельный для живого населения, и здесь животные гибли миллионами, снова и снова передвигаясь сюда из безопасных областей.
Ничто, разумеется, не могло предупредить безмозглых ящеров о неизбежной гибели. Более мелкие остатки не сохранились в процессах перемыва, а прочные, огромные кости динозавров и сейчас удивляют нас своими непомерными количествами. Такое совпадение не случайно!..

«А что, если не случайно и другое совпадение? Почему мы нашли следы звездных пришельцев тоже в области горных поднятий того времени?
Мощное излучение, губительное для динозавров, разумеется, можно уловить прибором. Тогда, если «они» бродили там, где тысячелетия спустя началась массовая гибель динозавров, значит «они» искали источники атомной энергии… Может быть, для возвращения обратно, на свою планету… Но если это так, то – черт возьми! – два важнейших следствия: нам нужно искать следы звездных пришельцев, этих небесных гостей Земли, именно здесь, вдоль Тянь-Шаня и Гималаев – самых молодых горообразовательных зон Земли. Именно там, где мы их и ищем! И второе – если горообразовательные процессы и вулканизм возникают потому, что в земной коре время от времени создаются концентрации урана или других сверхтяжелых элементов, вступающих в цепную реакцию, то можно ожидать нахождения остатков этих концентраций на доступных нам глубинах земной коры в соответствующих географических районах… Вот если бы удалось найти еще раз следы небесных гостей в областях горообразования, у меня была бы уже уверенность в том, что…»
– Говорите! – неожиданно раздался в трубке голос. – Соединяю с Алма-Атой!
Давыдов вздрогнул, ход мыслей разом остановился. Алма-Ата могла сообщить важные новости со строительства каналов.
Далекий, но отчетливый голос назвал его имя. Давыдов узнал ученого секретаря Геологического института.
– Илья Андреевич, утром звонил Старожилов со строительства номер пять. Там обнаружены скелеты динозавров, не то поврежденные, не то неповрежденные, я не разобрал из-за плохой слышимости. Старожилов просил меня связаться с вами. Он считает ваш приезд необходимым. Что ему передать?
– Передайте, что вылечу с завтрашним самолетом! – быстро сказал Давыдов.
– У меня еще к вам два дела, – продолжал секретарь, – но поскольку вы будете у нас, на месте поговорим. Значит, ждем. Привет!
– Преогромное спасибо! – радостно закричал в трубку Давыдов. – Привет всем… До свиданья!
Давыдов поспешил к Кольцову, попросив завхоза заказать билет в аэропорту.
Серебряная тропа к восходу
…Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна…
М. В. Ломоносов
Великий наш соотечественник, творец и провидец русской науки дал, пожалуй, исчерпывающий ответ на извечный вопрос, задававшийся многими поколениями живущих на Земле людей: ограничен ли видимый мир и существует ли предел в его познании и изучении? Конечно, во многом этот ответ космически философичен, нельзя не учитывать уровня знаний того времени, но достаточно тверд и лишен сомнения.
Сегодня интерес человека, вооруженного знаниями, историческим опытом, совершенной техникой, простирается далеко за пределы ограниченного мира наших далеких предков, в иные миры, туманности, галактики. Перспектива, как и предвидел Михаил Васильевич Ломоносов, открывается поистине беспредельная.
Прочитав этот сборник, вы, думается, не могли не заметить, что многими вопросами, на которые ученые дали ответы, люди интересовались очень давно. С незапамятных времен их мысль, освященная Разумом, вознеслась к «светлому яру Вселенной». Глядя с плодородных пашен, бурных морей и горных вершин на Солнце, Луну, Марс, Венеру, Млечный путь, кометы и звезды, люди со свойственной им любознательностью пытались понять диковинное устройство такого многообразия чудес. Родившись на Земле, они, казалось, вопреки здравому смыслу в своих мыслях устремлялись в глубины прекрасного, но неведомого голубого пространства, талантливо, с большой выдумкой изучали его. Их мысли, чувства и мечты отразились в истории, в замечательных творениях культуры, искусства и, конечно же, литературы.
В нашем «небесном» сборнике много рассказывается о Луне, Марсе, кометах. Да это и понятно. Особенно ярким и впечатляющим небосвод открывался людскому взору ночью. Всходила большая и холодная Луна, тускловато и заманчиво краснел Марс, чертили яркими вспышками хвостатые кометы. Вершились и другие таинства. Ну, например, сверкало и несло тепло Солнце, простирался Млечный путь, но все это казалось привычным, менее загадочным. И потом не будем забывать, что в светлое время человек трудился, а труд в те далекие времена был тяжелым. Отдохновение наступало под вечер, у костра, где человек предавался не только трапезе и отдыху, но и размышлениям о своем бытие и мире вокруг.
Тогда-то и привлекли внимание чудесные превращения лунного диска. Он сверкал подобно яркому волшебному шару и через некоторое время превращался в узкий серп, а затем вновь возрождался и наполнял черное небо голубым сиянием. Прошли тысячелетия, прежде чем стала понятной закономерность новолуний и от краткой меры времени – дня – был сделан шаг к более продолжительной – месяцу. Поняв периодичность смены лунных фаз, люди получили возможность измерить ход самого времени, считавшегося неуловимым и непостижимым, но дарившего жизнь, любовь, детей всему живущему на Земле. Возникшая догадка о начале и конце жизни, ее продолжении в другой, о бренности и вечности существования подтверждалась природой. Именно Луна и приучила людей знать и понимать, ценить время. И вовсе не случайно планета называется на одном из древнейших языков санскрите «мас», что означает – измеритель, а классическое латинское «мензис» – месяц – тесно связано с «мензура» – мера.
В этом и состоял секрет изначального поклонения людей красавице Луне, а не Солнцу или другой планете, либо звезде. На основе лунной меры времени появился лунный год у народов Латинской Америки. Лунным календарем пользовались народы Древней Месопотамии и Средиземноморья, Арабского Востока и Индии. Многие народные обычаи и нравы были связаны с движением Луны по небосводу. Луна стала символом вселенского круговорота. В Африке при появлении нового месяца матери показывали младенцев возрожденной Луне. Такой же обычай был у древних греков, персов, армян. В новолуние древние германцы и славяне сеяли и справляли свадьбы, покупали землю, закладывали новый дом. Во Франции даже существовал закон, по которому лес разрешалось рубить только после полнолуния, когда он наиболее сухой. Считалось, что такой лес не гниет. Под Луной устраивались пышные ритуальные праздники с плясками, пением и поклонениями. К ней проявляли знаки особого уважения. «У нас над двором краюха висит», – говорили на Руси, сравнивая Луну с хлебом. Серебряная планета волей людей превратилась в богиню Селену.
Но когда Галилей направил на Луну свой телескоп, то вместо замысловатых пятен обнаружил горные хребты, цепи и кратеры. Потом Ньютон создал теорию движения Луны. Затем на планету упал наш звездный вымпел и, наконец, человек – американский космонавт Нейл Армстронг совершил первую прогулку по лунной пыли. События разделяли многие столетия, но первой на этом трудном пути заискрилась дерзкая мечта.
История свидетельствует, что герой поэмы Гомера «Одиссея» во время своих скитаний попадает на Луну. Пожалуй, это первое в мировой литературе описание межпланетного путешествия. Серебряную тропу начали торить воображением. На Луну отправлялись с ураганом и испаряющейся на солнце росой, в упряжке из птиц и на воздушном шаре, в снаряде из пушки и с привязанными за спиной крыльями.
Классическим примером устремленного в полет к другим мирам человека стала древняя легенда о Дедале и Икаре, крылья которых, как известно, растаяли под горячими лучами солнца. Однако Луна находилась значительно ближе. Порой казалась рядом и поэтому привлекала сильнее.
В произведении древнегреческого сатирика Лукиана, жившего во II веке до нашей эры, «Икароменипп, или Заоблачный полет», есть замечательное продолжение этой легенды. Менипп не просто подражает Икару, но и рассказывает, каким образом ему удалось подняться в воздух:
«Я старательно отрезал у орла правое крыло, а у коршуна левое и привязал их крепкими ремнями к плечам. Приладив к концам крыльев две петли для рук, я стал испытывать свою силу: сначала просто подпрыгивал, помогая себе руками, затем, подобно гусям, летел над самой землей, слегка касаясь ее ногами во время полета. Однако заметив, что дело идет на лад, я решился на более смелый шаг: взойдя на Акрополь, я бросился с утеса и… долетел до самого театра».
Немало «икаров» жило и на просторах России. Одним из первых русских людей, у кого возникла мысль совершить полет «в эфире», стал «…рождением малороссийский… местечка Золотоноши» инок Софийского монастыря, а затем иеромонах-ослушник Федор Мелес. Решив воплотить в жизнь заветную мечту о полете, как полной свободе, он бежал из ссыпки в 1762 году. Спрятавшись на одном из островов сибирской реки Тобола, из таловых прутьев «делал себе для летания из унесенных мешков крылья».
Испытать их не удалось. Мастер обморозил руки и пришел с покаянием к губернатору.
Федора Мелеса пытали и выспрашивали. Он чистосердечно признался, что при попутном ветре надеялся на крыльях навестить не только родимые места, но и «царствующий город Москву и прочие великорусские города». На вопрос, где бы он ночевал, пил и ел во время полетов и кто научил его такому способу летания, Федор Мелес отвечал:
«Сделанный им к летанию способ кому будет он показывать, и за то видящие имеют его Мелеса охотно принимать и как ночлегом, так и пищею во всем не оставлять. Ко оному летанию такую практику знающих и летающих других никого нигде не видел и не знает и ни от кого не слыхал, а оный к летанию способ употребить вознамерился он Мелес со своего рассуждения по науке философической».
За попытку взлететь русского Икара тяжко наказали: «…в пяток всякия недели но сорок ударов плетьми или лозами отсчитывать ему вместо поклонений земных, которых он нести не охотник».
Как видим, это уже не легенда. Примечательно, что именно служитель культа замыслил взлететь в небо, почитавшегося священным, как и всё на нем. Мысли народной становилось тесно, воображение и мастерство взывало к действию Разума и мощной фантазии. Однако небесные явления еще продолжали вызывать у суеверных тревоги и опасения за судьбу человечества, как, например, о том свидетельствовал массовый страх столкновения Земли с кометой Галлея. И это хорошо прослеживается в событиях рассказа В. Одоевского «Два дни в жизни земного шара». Но неуемное стремление лететь вослед мысли оказалось сильнее. Желание опережать события стремительно нарастало. И вот мы уже видим смелого Нарсима – героя романа В. Левшина «Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве» на самой Луне – у светлого яра Вселенной, мимо которого течет бесконечная река звезд Млечного пути и стремительно проносятся планеты, болиды, кометы, астероиды.
Вас, наверное, привлекли оригинальность замысла и самобытность суждений героя, по существу мечтающего о мирном освоении космического пространства. Помните: «С каким бы вожделением увидели мы отходящий от нас воздушный флот! Сей флот не был бы водимый златолюбием: только отличные умы возлетели б на нем для просвещения. Берега новые сей Индии не обагрились б кровью от исходящих на оныя громоносных бурей: се было бы воинство, вооруженное едиными оптическими орудиями, перьями и бумагою».
Современно звучит, не правда ли? А ведь В. Левшин создал роман в конце XVIII века и опубликовал на страницах журнала «Собеседник любителей российского слова» в четырех номерах – с тринадцатого по шестнадцатый в 1784 году. Естественно, о научной фантастике тогда не имели никакого представления и поэтому достаточно скептически относились к подобным романам-утопиям, несмотря на их исполнение даже в духе древней литературной традиции. В данном случае – традиции «воздушных путешествий». Возможно, этим и объясняется, что читатели проявили скромный интерес к произведению. И лишь немногие обратили внимание на целенаправленную эрудицию, общественный интерес автора, заглянувшего далеко вперед.
Роман-утопия В. Левшина, как мы знаем, повествует о полете в космос. Мудрец Нарсим прибыл на Луну и столкнулся там с населяющими планету лунатистами. Они внешне похожи на землян, говорили на одном из восточных диалектов, преуспевали и жили дружно. Государство лунатистов устроено по принципу патриархальной общины, которой управляли старейшины. Но, заметьте, что, описывая спокойную и благополучную жизнь лунатистов и гармоничные их взаимоотношения друг с другом, автор намеренно сравнивает их обычаи и нравы с земными. Нередко в этих сравнениях земляне выглядят не лучшим образом.
Взор автора устремляется и в прошлое человечества. О нем рассказывает молодой лунатист Квалбоко, который, в свою очередь, был на Земле и путешествовал по ней.
Оба героя высказывают близкие по смыслу суждения о необходимости совершенствования государственного устройства, пользе просвещения монархов в целях большей заботы о благе подданных, привлекательности демократических порядков страны лунатистов, управляемой без царя.
Вспомним, что в годы «просвещенного абсолютизма» Екатерины II говорить о подобных вещах было далеко небезопасно. Тем более писать, да еще печатать в журнале, редактируемом самой императрицей и ее помощницей Екатериной Дашковой – одной из образованнейших женщин того времени, будущим президентом Российской Академии наук. Есть предположение, что публикация романа была прервана из-за боязни вызвать неудовольствие императрицы и, возможно, по цензурным соображениям.
И все же наиболее интересным для нас представляется полет «космонавта» Нарсима на Луну на фантастическом аппарате с машущими крыльями, продолжающий традицию русских икаров, только более приближенную к точному научному знанию. Конечно, до полного совпадения с ним еще очень далеко, но принципиальная дорога была верна. И вновь она сопровождалась мечтой: «В одну прекрасную ночь, – пишет В. Левшин, – сидев под окном углублен в сии мысли, взирал он с жадностью на освещенное полным блеском Луны небо. Какое множество видит он звезд! Умоначертания его пробегают по неизмеримому пространству и теряются в бесчисленном собрании миров».
Далеко не праздны размышления Нарсима. Они – о бесконечности Вселенной, о том, что в ней «есть несчетно земель, населенных тварями, противу коих вы можете почесться кротами и мошками», о мирных встречах с инопланетянами и даже об ответственности миссии первого космопроходца.
А разве не привлекает конструкция «космического аппарата» Нарсима: «Во сне обращает он взоры свои на стену, где висело у него несколько орлиных крыл. Берет из них самые большие и надежные: укрепляет края оных самым тем местом, где они отрезаны, к ящику, сделанному из легчайших буковых дощечек, посредством стальных петель с пробоями, имеющими при себе малые пружины, кои бы нагнетали крылья книзу. С каждой стороны ящика расположил он по два крыла, привязав к ним проволоку и приведши оную к рукояти. Сие средство почитал он удобным к его измерению: что и в самом деле оказалось, ибо, вынеся сию машину на открытое место и сев в неё, когда двух сторон крылья опустил с ящиком горизонтально, а двумя других начал махать, поднялся он вдруг на воздух».
Разве не похожий способ полета на Луну описывает Лукиан? Очень сродни аппарат Нарсима и устройству, прикрепленному к стае диких лебедей, доставившего на Луну и героя фантастического романа английского писателя XVII века Фрэнсиса Годвина «Человек на Луне, или необыкновенное путешествие, совершенное Домиником Гонсалесом, испанским искателем приключений, или Воздушный посол».
«Путешествие в космическое пространство» Н. Морозова совершалось на ином качественном уровне. Это тесное переплетение фантазии с попытками конкретного изучения неведомого прогнозирования. Как известно, герои летят на корабле в «бездонную эфирную глубину небесного океана», «падают» на Луну у горы Коперника, обнаруживают «низко лежащую» атмосферу, животных и даже «продукт водного разложения» – глину и песок, наконец, любуются даже цирком Платона. Но одновременно с наивными представлениями герои высказывают гипотезу о происхождении лунных кратеров, возникших, по их мнению, от ударов метеоритов… И немалую роль при этом наверняка сыграли «лунные сны» наподобие того, который видят герои повестей К. Циолковского «На Луне» и «Грезы о земле и небе». Они – своеобразные модели планеты, вполне реальная программа для космонавтов после прилунения. Между прочим, автор, считая вопрос о путешествии по Луне делом ближайшего будущего, предлагал построить и запустить «для удобства» искусственный спутник Земли «вроде Луны».
«Грезы» К. Циолковского простирались неизмеримо далеко. Луна светила лишь ярким надежным лучиком в открывающихся лабиринтах межзвездного пространства. Вот как писал о своих «грезах» сам «калужский мечтатель»:
«Несомненно, что Вселенная состоит из многих сотен миллионов солнц и многих миллиардов планет. Одно и то же вещество наполняет мир, один и тот же свет его освещает. Одинаково происхождение и образование светил и систем. Одни и те же периоды и фазы переживают миры. Вероятно, материя и миры эти по числу своему беспредельны, как беспредельно пространство и время, не имея ни начала, ни конца. Почему бы и живым существам, т. е. разумному началу, не быть везде, где есть вещество и где оно освещается видимым или невидимым светом!..
Мир существует бесконечное время, и что он выработал в беспредельные децилионы лет, то не может представить себе никакое воображение. Сколько не представляйте себе чудес, не перещеголяете, мир – давно признанная истина… Разве абсолютно нельзя надеяться, что скорость тел на земном шаре не будет со временем увеличена в десять раз? Но ведь тогда для нас откроется вся солнечная система. Она доступна будет для людей, как теперь Америка или Австралия. Уже и теперь на Земле тесно. Тогда же уничтожится теснота, потому что откроется беспредельное пространство. Тогда доступна будет энергия солнечных лучей в два миллиарда раз большая, чем какая приходится теперь на Землю».
Поистине фантастические дали открывались основоположнику современной космонавтики. Заметим, что идеи К. Э. Циолковского шли много дальше В. Левшина, тесно переплетались с прошлым и настоящим, будущим общественной, социально-исторической мысли в России, сердцевиной которой всегда была заветная народная мечта о свободной, трудолюбивой и счастливой жизни. В тщетных поисках «земли праведной» – сказочного Беловодья – простые люди устремляли свои надежды к божественному небу. Однако прогрессивные умы России были полны страстного желания объяснить, подчас не без наивности, но искренне, что это небо – Вселенную и Землю, как ее составную часть, человек может и должен еще освоить, чтобы стать счастливым. И, возможно, в тесном содружестве с «братьями по разуму» с других планет.
Примечательно, что почти одновременно с К. Э. Циолковским над темой своеобразного «космического братства», продолжая традиции русской литературы, работал его современник Валерий Яковлевич Брюсов. Почти четыре года он трудился над сравнительно небольшим произведением – романом «Гора Звезды». Можно, конечно, не согласиться с автором в определении жанра произведения. По современным понятиям это больше приключенческая повесть. Но автор, видимо, не случайно назвал это романом. И, вероятно, потому, что он оказался единственным научно-фантастическим произведением в творческом наследии талантливого русского поэта, писателя, переводчика, ученого-литературоведа. Исследователи отмечают, что в романе «сошлись многие темы будущего «большого Брюсова». Ведь он создавался в студенческие годы, то есть когда не только романтически мечталось, но и обдумывалось будущее житье. В. Брюсову оно представлялось житьем в большой литературе. И если мы внимательно вглядимся в его творчество, в сборники стихов «Шедевры», «Это – я», в прекрасные приключенческие романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы» и другие многочисленные произведения мастера, то найдем в них следы фантастической «Горы Звезды». «Раб и царица», проблески «семи земных соблазнов», мотив «хранителя тайны-жреца» и, конечно же, межпланетная экспедиция – все эти темы не просто обозначаются в романе, но и получают весьма острое социальное и психологическое развитие. Гибель «горы» и ее хозяев – латеев, любви героя и царицы Сеаты, непонимание между землянами и марсианами, взращенное на неравноправии и рабстве, вполне закономерны. Иного просто и не могло случиться. Так намечал свою программу творчества молодой Валерий Брюсов. Это помогло ему впоследствии творчески, с энтузиазмом отнестись к преобразованиям в России, начавшимся после Великого Октября. Не исключено, что, как и многие другие писатели, В. Брюсов считал шквал революции похожим на штурм неба, началом исполнения заветной мечты народа по коренному переустройству мира. Его интерес к космическому не ослабевал. В 1920 году В. Брюсов начал писать рассказ «Экспедиция на Марс», то есть на родину латеев. Однако теперь чисто романтическая фантастика уступает место строгому научному знанию. Из написанного В. Брюсовым «Предисловия редакторов» к рассказу небезынтересны такие строки: «Известно, что принципиальная проблема межпланетных сообщений была разрешена еще в начале XX века, причем первые межпланетные корабли, сконструированные в то время, получили название «ракетных» по характеру тех двигателей, которыми они были снабжены. Однако на твердую почву конструкция подобных кораблей стала лишь с того времени, когда удалось найти практическое применение внутриатомной энергии и использовать ее в качестве моторной силы».