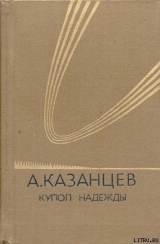
Текст книги "Купол надежды"
Автор книги: Александр Казанцев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
К шестидесятилетнему юбилею академика Николая Алексеевича Анисимова в одном из журналов был помещен очерк о нем, написанный его ближайшей сотрудницей Ниной Ивановной Окуневой.
«Видный французский ученый, член Парижской академии наук, профессор Мишель Саломак однажды сказал Николаю Алексеевичу Анисимову, что иконописцы в старину вполне могли бы писать лики святых с его предков, русских богатырей.
Думаю, что профессор Саломак не ошибался.
Дед Анисим, приходившийся Николаю Алексеевичу прадедом, тянул бечеву на волжских берегах. И когда рявкал бурлак-исполин на одном берегу, на другом отдавалось. Был он ладен с виду, кудряв, оборван, загульно пил и ошалело лез в драку по всякому поводу. С годами присмирел, а когда пошли по Волге пароходы и не нужна стала бурлацкая голытьба, подался в грузчики, да надорвался – занесся однажды в споре и взялся один тащить господский рояль в двадцать пять пудов. Сходни под ним гнулись, но он все-таки донес его до палубы, только слег после того и уже не годился в богатыри.
Сыновья, все семеро Анисимовы по отцу, бечевой уже не кормились, осели в деревне. Правда, землицы только на старшего хватило, остальные разбрелись батрачить.
Федору досталась заросшая бурьяном отцовская полоска, которую он принялся ковырять деревянной сохой. Старость деда на печку загнала, а полоску передал он сыну Алешке.
Дед Анисим давно помер, дед Федор с печи не слезал, а Алексея в германскую войну в солдаты забрили. Три дня гуляли с гармоникой и песнями. Проводили мужика, и легла полоска тяжкой ношей на бабьи да детские плечи.
Вернулся Алексей уже после революции. Принес солдатскую шинель и винтовку.
Шестилетний Коля знал, где она у отца запрятана, и мечтал хоть разок пальнут из нее. Но не до ребячьих проказ теперь стало. Отец был мужик справный и взялся налаживать запущенное за германскую войну хозяйство. И помогать ему должны были и старшие сыновья, и дочь, и Колька тоже, хоть и пятый, младшенький.
К 1919 году дело на лад пошло, да со старшим сыном Степаном отец в Красную Армию ушел. Вернулся он оттуда один и на одной ноге. Но за хозяйство взялся крепко, как «о всех четырех ногах». Благо лошаденка у них завелась. Как инвалиду гражданской войны и за сына погибшего Советская власть им выделила. Колька гарцевал без седла на коне, когда бороновал свою полоску.
Но случился в двадцатом году недород. Едва на семена собрали зерна. Отец запрятал мешки и винтовкой семейству грозил, ежели кто осмелится к ним прикоснуться.
Так и зимовали впроголодь, отощали все. Весной стали травы собирать, не дай бог хлеб еще не уродится.
И не уродился. Да еще как не уродился!
Жуткое выдалось то лето. Жара стояла на дворе, как в печи. И гарью несло. Леса горели. Пересохли. В воздухе сухим туманом висела мгла. Муть вокруг, словно через закопченное стекло глядишь на белый свет.
Речушку в овраге сперва куры могли переходить. Потом ни воды в ручье, ни кур не осталось. И дно высохло.
Отец приказал колодец углублять. Оба братишки по очереди спускались, а Колька с сестренкой вверху ведра принимали. Да только песок поднятый чуть влажным оказался, а воды – ни капли. Ушла вода – и не подкопаешься.
Пришлось Кольке на буланой их кляче воду с Волги за пятнадцать верст возить. А мальчонке – радость, мужиком себя понимал.
И за все лето ни одного дождя.
Выросла в поле не пшеница, а так – щетина одна. Почти и без колосьев вовсе. И так по всей Волге, говорят. Советская власть, конечно, помогла бы, да сама чуть жива была после гражданской войны да разрухи. И с Врангелем только-только рассчитались в Крыму, царское отребье в море спихнули.
Хорошо помнил Коля отца, ковылявшего на деревяшке, вынужденного наклонять голову, когда в избу входил. Глаза у него, как у всех Анисимовых, незлые, голубые, словно Волга в ясный день, только очень уж пристальные. Смотрел пристально и делал все пристально. И ел тоже пристально. Не приведи бог, крошки хлебные на пол смахнуть. С размаху бил, как дед Анисим в драке. И в шапке есть не дозволял, хоть бы и в поле. Коли ешь, обнажай голову. И даже если пьешь. В знак величайшего благолепия и благодарности за еду-питье, человеку дарованное.
Но не даровали ныне ни господь, ни мать-земля ни еды, ни литья…
Наступил голод.
Ох, как помнил его Коля Анисимов! Мать в ногах у отца валялась, высохшая, жалкая, уже без слез умоляя отдать семейству запрятанные мешки. Да не соглашался отец, словно не одна нога у него, а весь он будто деревянный. На весну семена берег.
А собирали эти мешки, горько сказать как. Не косили, не жали, а по колоску обирали зернышки в мешочки. И не дай бог за щеку хоть зернышко положить, сжевать, культей своей отец зашибить мог. Ощипывали колоски, как птички небесные. Так по всей полоске и прошлись по растрескавшейся земле с жесткой щетиною. Да и собрали всего два неполных мешка. Их и запрятал отец. Только Колька один и знал куда, да помалкивал. Отца боялся. Крут он был, как дед Анисим в молодечестве.
Зря валялась у отца в ногах мать, так ничего и не выпросила. Ели лебеду, будто белену. Одурманенные ходили, шатались, падали.
Сбрую лошадиную съели, похлебку из нее сколько ден варили. На весну веревочную уздечку плести зачали. Коня отец тоже на весну берег, все боялся, как бы соседи его не прирезали, потому в ближних дворах мужики, бабы и детишки уже помирать стали.
Болтали про иные деревни невесть что, уши ссыхались. Будто и не люди там голодают, а звери окаянные. Да и у зверей, поди, такого не случается. Врут все. Не может такого у людей быть!
Покойников все больше становилось. На санках их по первому снегу мимо анисимовской избы провозили.
Что делать! Господь дождя не дал. Зря попы с хоругвями ходили, горло драли, крестными ходами дождя у неба вымаливали. Ничего не вымолили. Вот теперь панихиды и служат сразу по многим покойникам, которых и в церковь не вносят. Поп с церковных ступеней кадит на уставленную санками сельскую площадь.
Люто чувство голода. Но еще горше голодать, когда не знаешь, что детям в рот сунуть. Слюна во рту – полынь, противная, словно ржавую железку или медяшку сосешь. В голове мутит, в животе рези, то ли от пустоты, то ли оттого, что дерево грыз, кору жевал. Козы же жрут, почему человек не может?
Но человек не может.
Помер отец, помер Алексей Анисимов, так и не раскрыв тайну запрятанных мешков и винтовки. Коля ее открыл. Вместе с братьями и сестрой в овраг пошли. Винтовку обнаружили, яму раскопанную нашли, а мешков с семенным зерном не оказалось. Видать, кто-то еще, кроме Кольки, тайник тот знал. А кто – неведомо.
Страшная была зима, ох жуткая!..
Даже тараканов в избе не осталось. Все передохли… с голоду… Да и люди, как тараканы, – один за одним…
Двое старших братишек, Иван да Федор, – двойняшками были, – так вместе и померли. Гробы им Колька сколачивал, потому больше некому. Сестренка Марья невесть куда ушла, может, нищенствовать в город, может, еще куда… Только Колька с матерью и остались горевать да голодать. Коня не успели прирезать, сам сдох. А дохлого порубил кто-то и уволок…
Колька силки в лесу хотел ставить, да лес за лето так выгорел, что в нем и живности никакой не осталось, даже птицы не летали.
И тогда взяла мать Кольку за руку, намотала на него все, что от померших братьев осталось, да и пошли куда глаза глядят.
А глядели глаза на проселок к железнодорожной станции. Любыми правдами и неправдами хотела мать до самой до Москвы добраться. До людей добрых, а может, и до самого Ленина.
Как они попали в столицу, Коля как следует и не помнил. Ели что придется. Когда народ вокруг – иногда и перепадет что-нибудь, хотя таких попрошаек, как они с мамкой, на станциях шныряло видимо-невидимо, будто все, кто не помер в деревне, сюда поспешили.
Ехали и на крыше вагона, и на ступеньках, и на буферах, всяко ехали. Но доехали однако.
Только верно говорят, что беда не приходит одна.
В душном, грязном вагоне, где на заплеванную лавку залезть за высшее счастье почиталось, где люди днем и ночью, ожидая уже не поезда, а бог весть чего, вповалку лежали, смердя от безделья или слабости, мать Коли Анисимова лежала среди них, уж и не чувствуя вони, да так подняться и не смогла. Жар у нее приключился. Соседи слышали, как она про мешки все поминала да про винтовку какую-то.
Мамку забрали дядьки в белых халатах, сказали, что у нее сыпной тиф. А Колю направили в детскую колонию как беспризорника, хотя беспризорником он так и не успел стать.
В колонии кормили досыта. Мальчик чувствовал бы себя счастливым, кабы не мамка, которую куда-то увезли. Она не появлялась, не разыскивала сына.
И только восемь лет спустя рабфаковец Николай Анисимов умудрился разыскать в больничных архивах историю болезни Марии Никитишны Анисимовой, поволжской крестьянки, скончавшейся от сыпного тифа зимой 1921 года.
Рабфак Николай Анисимов закончил в 1929 году и семнадцатилетним парнем попал в университет. Был он нрава общительного, и чувствовалась у него и во взгляде, и в отношении к учению, и всякому делу какая-то пристальность. Должно, от отца перешла… А за доброту и силу прозвали его Добрыней Никитичем.
Перенесенный им голод наложил печать не только на ею воспоминания, но и на все его взгляды. Ненавидел он лукавство природы, в особенности засуху, да и вообще все, от чего зависели судьбы человека как сотни тысяч лет назад, так и теперь. И мечтал новый богатырь стать химиком, чтобы владеть землей и управлять ее капризной щедростью.
Способностями бурлацкий потомок обладал необыкновенными. Замечен он был университетскими профессорами и после окончания университета оставлен при кафедре самого профессора Зелинского.
В конце тридцатых годов защитил он диссертацию и стал кандидатом химических наук.
Грянула Великая Отечественная война, и потомок волжских богатырей ринулся добровольцем в ополчение. Но университет не отпустил его. Война велась не только на передовой линии фронта, но и в тылу, где решался вопрос: быть или не быть голоду в стране и чем армию прокормить. Тогда-то и попал Николай Алексеевич Анисимов в Ленинград, да и остался там в кольце блокады. И еще раз в жизни повидал он умирающих от голода людей, получавших в день по кусочку хлеба, но продолжавших поддерживать жизнь великого города.
Кусочек хлеба! Никто не знал дерзкого замысла молодого ученого. Он хотел спасти от голода население Ленинграда, будучи уверен, что при добавлении к имевшимся кусочкам хлеба аминокислоты лизин этого окажется достаточным для поддержания здоровья людей в осажденном городе. И Анисимов прежде всего провел опыт на самом себе. Он отказался от дополнительного пайка, на который имел право, и проверил свое состояние, употребляя имевшийся у него лизин. Но не хватило духа Анисимову довести опыт до конца. Не мог он без боли смотреть на изможденные детские лица, на санки с очень длинным, порой волочащимся по снегу грузом.
Он отдал весь запас своего лизина. Поддержал жизнь некоторых юных ленинградцев, а сам…
Самого его в бессознательном состоянии эвакуировали в последней стадии дистрофии через Ладожское озеро по «Дороге жизни».
Лишь далеко в тылу выходили молодого ученого.
Для него голод стал кровным врагом. Борьбе с ним решил он посвятить всю свою жизнь.
В Москве Анисимов сделал сообщение о поставленном на себе в Ленинграде опыте. И на своих выводах построил докторскую диссертацию.
Но он замахивался на большее. Ему казалось: мало синтезировать все двадцать аминокислот для создания полноценных питательных продуктов, они должны быть еще и приятными на вкус, обладать знакомым запахом. Тогда-то он и обратился за советом к академику Иоффе, который в научной своей юности увлекался проблемами запаха.
Статьи Анисимова о запахе привлекли к нему международное внимание. И во время Алжирского симпозиума, уже после Великой Отечественной войны, попав на плантацию роз господина Рене, он стал свидетелем разрушения асфальтового шоссе одноклеточными организмами, пригодными в пищу.
Научное предвидение подсказало ему, что наука на пороге создания искусственной пищи.
И ныне, в день своего шестидесятилетнего юбилея, маститый ученый по праву считается одним из родоначальников будущей пищевой индустрии, способной положить конец голоду, который до нашего времени остается жесточайшим врагом человечества, унося множество жизней.
Я не останавливаюсь на его общеизвестных работах последних лет, сделавших ему мировое имя. Он полон сейчас сил и энергии, и в день его юбилея хочется пожелать ему, как врагу голода, самых больших успехов в его благородном деле.
Н. И. Окунева, кандидат химических наук».
Глава четвертая. МАЛЬЧИК С НЕБА«Я начинаю эти записки вовсе не для того, чтобы опровергнуть нелепую версию о моем происхождении, высказанную моим давним другом, от которой, надо думать, он, ныне уважаемый всеми ученый, откажется. Я пишу ради освещения тех событий, в которых мне привелось участвовать, и ради людей, с которыми встречался.
Я рос самым обыкновенным деревенским мальчишкой и, если бы не мой смехотворно малый рост, ничем бы от них не отличался.
Когда мои сверстники вымахали, как бамбук у факира, а я так и остался с виду тем же мальчуганом, моя малорослость стала предметом насмешек. Это больно ранило меня.
И я стал стесняться своего роста, сделался замкнутым, застенчивым, чурался людей.
Во мне зрело болезненное желание доказать всем, это я не хуже их…
Когда началась война и я явился в военкомат, чтобы вступить в Красную Армию и защищать от фашистов Родину, меня ждал холодный душ.
– Детей мы в армию не берем, мальчик, – сказал мне старший лейтенант с тремя кубиками в петлицах.
Напрасно показывал я паспорт – мне чуть не хватало до восемнадцати лет.
Лейтенант покачал головой:
– Ростом ты, браток, не вышел. Как тебя? Толстовцев? Алексей? У нас, Алеша, и обмундирования для тебя не найдется, дорогой. Не сшили. Поживи в деревне, помогай колхозу. Мужиков замени. Армию ведь кормить надо. А там одни старики да бабы…
Я не боялся труда, но рвался в бой. И пошел пешком в город. В горвоенкомат, жаловаться на старшего лейтенанта.
Выручил меня полковник.
– Что ж, что ростом мал! Для авиации очень даже удобно. Направить добровольца в авиаполк.
Так я стал башенным стрелком.
Вражья сила надвигалась на родные места Смоленщины. Я ходил в боевые вылеты. Обстреливал немецкие самолеты не раз, но ни одного не сбил.
А вот нас сбили.
Трассирующие пули прошили кабину пилота, и летчик мой, замечательный человек, убит был наповал. Самолет потерял управление, и за хвостом его тянулся черный шлейф.
Тут я поступил по инструкции, выпрыгнул с парашютом.
Подо мной – лес, места незнакомые. Передовые позиции где-то далеко. Мы в немецкие тылы летали. И в тыл к немцам я и спускался теперь на парашюте, в Беловежскую Пущу.
Приземлился неудачно, хоть и был это мой двадцать первый прыжок, на аэродроме выучку проходил. А вот ведь, когда понадобилось, ногу подвернул. Встать не могу.
Подобрали меня какие-люди, кто в красноармейской форме, кто в штатском.
Оказалось – партизаны.
Командиром был, как полагалось говорить, «батя», хотя в бати он мало кому годился, совсем еще молодой. А начальником штаба еще моложе был – лейтенант, примкнувший к отряду вместе с выведенной им из окружения группой солдат, Генка Ревич, веселый человек.
Ногу мне подлечили.
И тут снова мой рост привлек к себе внимание.
Вызвал меня Гена Ревич и говорит:
– Слушай, Алеха! Человек ты смелый, и природа наградила тебя неоценимым даром. Я насторожился:
– Как это наградила?
– Ты не обижайся. Я рост твой имею в виду. Вот ведь какой подарок нам сделали – мальчика с неба сбросили!
– Какого мальчика? – разъярился я, готовый на лейтенанта броситься. Самое больное место задел.
– А как же! Сообрази. Ростом ты с мальчика. Ну, лицо, правда, постарше. Так мы тебя загримируем. Смекаешь? И ты в тыл к немцам пойдешь пацаном. Задание выполнять.
Тут я в первый раз в жизни обрадовался, что ростом не вышел, и на все согласился.
Волосы у меня от рождения кудрявые. В авиачасти, куда я попал, мне их оставили, боялись, что без них совсем уж ребяческий будет у меня вид. Но здесь с кудрями я вполне за деревенского мальчишку сойду. Медицинская сестра в отряде косметику понимала – из парикмахерской, – разукрасила меня веснушками, «примолодила», как, смеясь, сказала. Одежонку достали не по мне, но для деревенских ребят обычную – с чужого плеча.
В таком преображенном виде я и отправился в деревню, где гитлеровская часть квартировала.
И до чего просто прошел я вражьи заставы! Никто на меня и внимания не обращал. Иду себе и иду, сапожищами чужими пыль на дороге загребаю.
По деревне шастал как коренной ее житель. Сразу распознал, где кто стоит, какую избу занимает.
С мальчишками местными встретился, покалякал малость. Прикинулся беженцем, потерявшим родителей. Мне и поверили.
Сведения, которые я в отряд принес, пригодились. И повел я боевую группу во главе с Геной Ревичем в деревню, к той самой избе, где штаб части расположился.
Конечно, оружия для меня не нашлось. Мало его в отряде. Но я сам себя вооружил. Наполнил молотым перцем бумажный фунтик с трубкой, из веточки сделанной. И как нажмешь на него – струя перца вылетает, как трассирующая очередь. И на пистолет даже похоже.
Гена Ревич меня вперед послал. И наткнулся я сразу на часового. Здоровый такой бугай. Схватил меня за шиворот и вопит:
– Хальт! Шмуциг кнабе! Руссиш швайн!* (* Стой! Грязный мальчишка! Русская свинья!)
Тут я ему и задал перца, выпустил в глаза струю.
Гитлеровец автомат выронил, взревел и меня отпустил. Начали офицеры из избы выскакивать. Почему часовой ревет, а пальбы нет?
И все – прямо на Гену Ревича. Он их и приканчивал. А трофейное оружие – безоружным бойцам.
И только тогда ворвались наши в избу – разгромили штаб.
В деревне тревога: фашисты носятся, кто в касках, кто в кальсонах. Не знали они еще тогда про партизанскую войну. Блицкриг по нотам разыгрывали.
Наши отошли. А меня в деревне оставили – увидеть, как и что.
Наткнулись на меня разъяренные фрицы, схватили. Ну я реветь как заправский пацан. Они по-своему лопочут. Дали мне пинка…
Я к своимм пробрался.
Так и вооружался помаленьку наш отряд.
Пробыл я в нем неполных два годах, пока с регулярной армией не соединились.
А потом воевал, как и все. Теперь уже в пехоте, не в авиации. Меня в шутку звали «сыном полка». Бывали такие приставшие к частям мальчуганы.
Гены Ревича я больше не видел. Думал: или погиб он где, а если жив остался, то, может быть, Берлин брал.
Я до Берлина не дошел.
После госпиталя направили меня в тыл, а потом демобилизовали. Кто-то придумал, будто я годы себе прибавил нарочно. Все не верили, что я и впрямь взрослый.
Опять мне до смерти обидно было.
Отправился я на Смоленщину.
Добрался до родной деревни, а там – пепелище. Кое-где печки да трубы торчат. И некому рассказать…
Так один я и остался.
Пробовал в организации обращаться. Помочь не могут. Предлагают – в детдом, а моим рассказам о партизанщине не верят.
Ушел я с родной Смоленщины, поехал в Москву. И посмотрел там Великий Праздник Победы.
Толкался я в толпе на Красной площади. Радость вокруг, все обнимаются, целуются. Кто с орденами и медалями – тех качают.
А я?.. Я радовался. Мало ли подростков здесь терлось, победу праздновали. Словом, за участника Великой Отечественной войны я не сошел.
А счастлив был вместе со всеми».
Глава пятая. ТУНДРА«Но в одном месте меня все-таки признали участником Великой Отечественной войны – в Главсевморпути.
Там набор производился на далекие полярные станции. Я предъявил свои документы (они в полном порядке!). Сказал, что готов куда угодно, на любые условия.
Меня направили в Усть-Кару механиком, потому как научился я кое-чему в армии: при саперах в запасном полку был, потом на походной электростанции работал – все из-за роста. На передовую не направляли, словно там рукопашная велась и при моей малорослости мало пользы будет.
Но нет худа без добра. За время войны специальность получил. А в госпитале отлежал – это после бомбежки. Шальной осколок…
Плыли мы до Усть-Кары из Архангельска на корабле. Впервые тогда ледяные поля увидел. Вроде степь заснеженная – а плывет! Но это уже в Карском море. А в Баренцевом отчаянно качало. Все в лежку валялись, а я между ними похаживал да посматривал. Волна меня не берет.
Усть-Кара. Полярная станция на берегу зеркальной реки, в самом ее устье.
Мостки сделаны около заправочных цистерн с горючим. Летающая лодка «Каталина» перед ледовой разведкой залетает заправиться. У мостков пришвартовывалась.
Очень мне хотелось на ней полетать, службу в авиачасти припомнить.
Но… Начальник станции – тип пренеприятный, грубый. Встретил не так, как полагается встречать людей, с которыми зимовать впереди. И сострил при первых же словах: здесь, мол, не детдом, работать придется и за механика, и за метеоролога. Я ведь всегда намеки болезненно ощущаю.
Потому на зимовке ни с кем не сошелся, замкнутым, нелюдимым себя показал.
И уже овладела мной «мания самоутверждения», как я теперь оцениваю. Хотелось во что бы то ни стало людям доказать, что не в росте дело.
И я стал изобретать. Первой пробой, пожалуй, был тот фунтик с толченым перцем, который я вместо оружия в схватке с вражеским часовым применил. И начал я на полярной станции всякое придумывать. То от флюгера в дом привод сделаю, чтобы, не выходя за порог, определить, откуда и какой ветер дует, то самописцы непредусмотренные на приборы устанавливаю. И недовольство начальства вызвал. Скупердяй отчаянный попрекал меня каждой железкой или проволочкой, которые я для устройств своих брал. Я, конечно, тихий, застенчивый, пока дело до моих выдумок не доходит, а тогда становлюсь резким, ядовитым. «Злобным карлом» меня начальник обозвал после очередной стычки. От обиды сразу после дежурства в тундру я ушел.
И показалась тундра застывшим по волшебству морем с рядами округлых холмов-волн. Покрыты они были пушистыми травами. Удивительно, с какой быстротой вырастают они здесь в короткое арктическое лето, украшенные душистыми цветочками. И юркие зверьки размером с крысу безбоязненно шныряют – лемминги, пестренькие, симпатичные…
И вдруг не поверил глазам. Деревца или кустика нигде не увидишь, а тут со склона холма-волны заросли кустарника сползают. Движутся, а не колышутся.
Но сообразил я, что никакой это не кустарник. За торчащие ветки оленьи рога принял.
Стадо оленей сбегало с холма и, нырнув в ложбину, взбиралось на следующий холм. И за ним скрылось.
Олени малорослые и рога на бегу параллельно земле держат. Сами скачут, а рога будто плывут. Так животные энергию во время бега берегут: без лишней работы на поднятие рогов при каждом скачке.
Из-за холма выехали нарты, запряженные шестеркой оленей – веером. Оленевод правил длинным шестом – хореем.
Увидел меня, остановился, с нарт сошел. И не такого я уж малого роста рядом с ним оказался.
Разговорились мы со старым Ваумом из рода Пиеттамина Неанга. Душевно пригласил к себе в чум, обещал познакомить с внучкой Марией.
Быстроногая, яснолицая, узкоглазая и сразу за душу взяла, едва ее увидел.
Подружился я с этими людьми, как ни с кем прежде.
Старику трофейный немецкий радиоприемник подарил, который Гечка Ревич после первой операции против немцев мне отдал.
Марию стал учить всему, что сам знал. Даже астрономии. В ту пору член-корреспондент Академии наук СССР Гавриил Андрианович Тихон наблюдал вроде бы растения на Марсе, создав науку астроботанику. Этот Марс, красненькую звездочку, я показывал Марии на небосводе.
До зимы мы с ней ликбез прошли. На лету все схватывала, ко всему на свете жадная, любопытная. Я и рассказывал ей обо всем, даже о Древнем Риме, о восстании гладиаторов и вожде их Спартаке. Так стал я одним из первых учителей в тундре.
Начальник полярной станции злился из-за моей дружбы с оленеводами, говорил, что я заразу на станцию занесу.
Пролетело короткое арктическое лето, кончился полярный день, солнце заходить за горизонт стало. Пошли оранжевые зори.
Оленеводы собрались перегонять стада на юг, к северным отрогам Урала.
Заболел старый Ваум, не мог ехать со всеми. Вроде воспаление легких. Так по радио врач с Диксона определил.
Узнал дед, что доктор сказал, и решил здесь, в чуме, зимой помирать.
Но Мария не захотела его бросить.
Зимний чум сама, как выпал снег, сложила из снежных кирпичей. Собак и немного оленей при себе оставила.
Дельной показала себя девушкой, хотя и тихой. Во всем деда слушалась.
Подозревал я, однако, что не только из-за деда она здесь осталась…
Наши с ней занятия продолжались. На следующий курс «тундрового университета» вроде перешла, а я как бы до «профессора» дослужился. Известно, что на безрыбье и рак – рыба, а без оленей и лемминг – еда!
Осенние вьюги принесли и снег и стужу.
Зимой наладился я на лыжах к деду с Марией в гости ходить.
В тундре пурга разыгралась, носу не высунешь. А мне дома не сидится.
Начальник злорадствует:
– Вот ведь какой компанейский, скажите на милость! А мы за нелюдима посчитали. Однако выходить в пургу запрещаю!
– Старику заряженные аккумуляторы к радиоприемнику отнести надо. От мира они отрезаны. Пурга мне нипочем.
Начальник знал, что упрямства во мне вполне на великана хватит, а не то что на «Злого карла».
И пошел я, упрямый и неразумный, искать в снежной тундре чум Марии. Из-за летящего снега конца лыж не видно.
Ну и заплутал. Ветер со всех сторон дует, а откуда дул, не поймешь. Досадно так погибать. Начальник в Главсевморпуть небось радиограмму даст: «Механик станции погиб из-за своей недисциплинированности и упрямства, нарушив прямой запрет выходить в пургу из дома». А главное – Марии не увижу, не позанимаюсь больше с ней.
Но знал я со слов Ваума и Марии, как оленеводы поступают, когда застает их пурга в тундре. И закопался я, как и они, в сугроб и в воображении своем стал снег сгребать, целую гору снега со всей тундры. Мышцы напрягаю, чтобы пот на лбу выступил.
Не знаю как, но приняла Мария сигнал от меня, теперь это телепатемой бы назвали. Сердцем приняла. Запрягла собак и помчалась мне навстречу.
Собаки почуяли меня в сугробе. Нашли.
Я обессилел совсем, полтундры снега мысленно перебросал, и все согреться не могу.
Она меня откопала и отогрела. Отогрела в своем чуме. Отпаивала горячим чаем и жиром, согревала теплом своего тела. В один спальный мешок вместе с ней пришлось забраться.
Стыдился, конечно, но сил не было сопротивляться. И признаться, не только сил, но и охоты противиться…
А дед Ваум что-то там колдовал над огнем, кашлял и бормотал заклинания. Мария шепнула, что он обряд тундры совершает, чтобы нам с ней теперь вместе жить.
Вместе, вместе! Я тоже так решил. И она согласилась.
На собачьей упряжке поехали мы с Марией к полярной станции. Начальник встретил на крыльце хмуро. Узнал про наше решение и про спальный мешок и велел расписаться в амбарной книге, где учет продуктам вел и каждую подстреленную куропатку приходовал. И появилась там запись о женитьбе Алексея Толстовцева на Марии Евсюгиной из рода Пиеттамина Неанга.
– Жениться-то женились, скажите на милость! – усмехнулся он. – Только жить вам здесь вместе не придется. У меня штат укомплектован и продуктов в обрез.
Бездушный был человек. Я ему говорил, что Мария оленей сюда приведет и он их в свою амбарную книгу заприходует, но он и слышать ничего не желал:
– Олени, олени, скажите на милость! А муки для хлеба у нее нет? Вот то-то!
Но пришлось ему, как радисту, отправить мою радиограмму начальнику Управления полярных станций, Герою Советского Союза Эрнесту Теодоровичу Кренкелю. Просил я перебросить «как бы поскорее» механика Алексея Толстовцева и его жену Марию (поваром) на любую полярную зимовку, куда угодно, хоть на Марс. Так и написал: «Хоть на Марс!» Вспомнил, как Марии про марсианские каналы и воображаемые на Марсе растения рассказывал.
Кренкель был человек чуткий и шутливый. Мне потом привелось с ним повстречаться. Получил мой начальник от него радиограмму, что отправляет чету Толстовцевых на Марс зимовать, как только к берегам архипелага Франца Иосифа корабли пробиться смогут».







