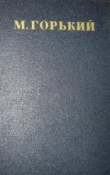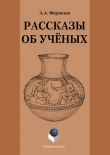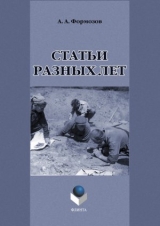
Текст книги "Статьи разных лет"
Автор книги: Александр Формозов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
К СПОРАМ О МОИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 2004–2005 ГОДОВ
«Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное зерно».
Р. Бёрнс.
Собирая с 1950 – х годов материалы о прошлом отечественной археологии, об археологии советского периода, я смог говорить в полный голос лишь в дни «Перестройки». В 1990 году я дважды выступил с докладом о переломе в развитии нашей науки на грани 1920-х – 1930-х годов – в Москве на семинаре по истории науки под руководством А.П. Огурцова в Институте философии АН СССР и на конференции «Проблемы истории отечественной археологии» в Ленинградском университете. И в той, и в другой аудитории доклад был воспринят положительно. Опубликовали его в 1993 году в журнале «Вопросы философии» (№ 2).
В Институте археологии РАН, где я служил с 1951 года, эту статью также сочли своевременной, упрекая меня в том, что я не отдал ее в свой журнал «Российская археология» (из редколлегии которого меня вывели в 1988 году).
На основе этого очерка я подготовил более пространный текст «Русские археологи до и после революции», включив его в рукопись книги «Человек и наука». На заседании отдела неолита и бронзового века Института археологии РАН, где я тогда работал, она была обсуждена. Рецензенты Н.Я. Мерперт и В.И. Гуляев высказали сомнения в целесообразности публикации книги. Но на В.И. Гуляева она произвела впечатление и, отправившись как вестник новой России читать лекции в университетах США, наряду с курсами «Марксизм и археология», «Археология Америки в марксистском освещении», он прочел и курс по истории советской археологии на основе моего очерка. Вернувшись в Москву, Гуляев сказал мне, что этот курс вызвал больший интерес, чем два других, и предложил мне издать его в США за нашими двумя подписями. Я отказался.
В 1991 году коммунистический режим пал. Чувствовалась необходимость в пересмотре исходных позиций нашей археологии. Польза работы в области истории археологии была признана новым директором Института археологии РАН В.П. Алексеевым (Его предшественник на этом посту Б.А. Рыбаков это направление объявлял ненужным). Правда, заявив о необходимости развития историографии в своей программной статье в журнале[42]42
Алексеев В.П. Древние общества. Взаимодействие со средой. Культура и история // Советская археология. – 1991.-№ 1. – С. 12.
[Закрыть] и выделив в нем не существовавший ранее раздел «Из истории науки», директор тут же вывел меня из состава редколлегии. Некоторые статьи, увидевшие свет в новом разделе, содержали явные ошибки и сомнительные утверждения (например, статьи С.Н. Бибикова о П.П. Ефименко и Г.А. Бонч-Осмоловском).
В 1992 году после смерти В.П. Алексеева я был вновь привлечен к работе в журнале, именовавшемся уже «Российская археология», но не в составе редколлегии, а как член редсовета.
Редактор журнала В.И. Гуляев и ответственный секретарь B. C. Ольховский, недавние члены КПСС, теперь готовы были поддержать человека из круга шестидесятников, воспользоваться его разработками. Благодаря этому я опубликовал в журнале серию статей по истории советской археологии[43]43
Формозов А.А. Книги об отечественных археологах // Российская археология. – 1993. – № 4; Его же. О периодизации истории отечественной археологии // Там же. – 1994. – № 4; Его же. О книге Л.С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене // Там же. – 1995. – № 3; С.В. Киселев – советский археолог 1930-х – 1950-х гг. // Там же. – 1995. – № 4; Его же. К столетнему юбилею В.И. Равдоникаса // Там же. – 1996. – № 3; Его же. Русские археологи и политические репрессии 1920-х -1940-х гг. // Там же. – 1998. – № 3; Его же. М.Е. Фосс и проблема неолитических культур // Там же. – 1999. – № 3; Его же. О Татьяне Сергеевне Пассек // Там же. – 2003. – № 3 – Примечание составителя.
[Закрыть]. Но даже тогда они проходили в печать не без сложностей. Мои оценки титулованных персон вроде П.Н. Федосеева и таких археологов, как А.Н. Бернштам и В.И. Равдоникас, требовали убрать, а когда я отказывался, снабжали статьи примечаниями, что редколлегия не разделяет взгляды автора[44]44
Российская археология. – 1995. – № 3. – С. 225.
[Закрыть].
Сомнения вызвала статья об археологах – жертвах репрессий.
В.И. Гуляев долго ее придерживал и требовал сильно сократить, ибо большинство названных мною лиц якобы никому не известно. Вроде бы журнал должен был быть заинтересован в том, чтобы сообщать именно о неизвестном, а не о том, что известно. Почему некоторые имена неизвестны? Потому, что их носили бездарности, или потому, что этим людям не дали реализовать себя?
При всех этих сложностях в связи с новыми установками в планы института включили издание двух серий: «Антология советской археологии» и «Очерки истории отечественной археологии». Инициатором первой был В.И. Гуляев, стремившийся прежде всего показать достижения советской археологии. Меня привлекли к составлению «Антологии», но я видел ее задачи в другом: переиздать забытые, но значительные старые публикации; продемонстрировать разнообразие подходов к нашему очень непростому для понимания материалу; напомнить о некоторых видных ученых, чьи заслуги перед наукой замалчивались в советские годы. Разногласия между составителями «Антологии» были доведены до сведения директора Института археологии. В.П. Алексеев заявил, что Формозова к этой работе надо допускать с большой осторожностью, а редактором трехтомника лучше назначить не его, а Н.Я. Мерперта. Так и было сделано. Каждый из составителей написал предисловие к одному из томов.
Предисловия к первому и третьему томам составлены, соответственно, Н.Я. Мерпертом и В.И. Гуляевым в целом в панегирических тонах. Мною ко второму тому – в более критических. Вряд ли случайно мне выделили период не самый спорный из сорока лет, рассмотренных в «Антологии», – предвоенные годы.
«Очерки истории отечественной археологии» я составлял единолично. Я привлек авторов из Москвы, Петербурга, Ташкента, Саратова, Кирова, Курска, Мурома; опубликовал статьи, освещавшие замалчивавшиеся ранее эпизоды из истории нашей науки.
Все книги расходились хорошо, но (скорее всего в связи с изменением настроя общества) продолжения обе серии не получили. Можно было бы подумать о четвертом томе «Антологии», завершавшейся в 1998 году на публикациях 1957 года, подготовив тома об археологах 1960-х – 1980-х годов. Можно было формировать новые выпуски «Очерков». Но где-то наверху сочли это нежелательным. В 2003 году директор Института археологии РАН P.M. Мунчаев объявил, что «Очерки» больше издаваться не будут. Этот решение он принял после беседы с академиком В.И. Молодиным[45]45
Ныне единственным историком в составе президиума ВАК РФ – Примечание составителя.
[Закрыть].
Так или иначе, разработка истории советской археологии разворачивалась. Вышло много книг и статей по этой теме, как моих, так и авторов из других городов.
Хотя начало этой работы было положено мною в Москве, дирекция Института археологии РАН без тени сомнения передала ее в другие руки. В Воронежском университете была на бумаге создана группа по изучению истории отечественной археологии. Руководителем ее числился академик А.П. Деревянко из Новосибирска, никогда историей науки не занимавшийся, а фактическим главой стал А.Д. Пряхин, опубликовавший в 1986 году «Очерки истории советской археологии», написанные в казенно-панегирическом духе, и продолжающий ту же линию поныне.
В 1995 году мой очерк «Русские археологи до и после революции» был все же издан при поддержке В.И. Гуляева, но тиражом всего 80 экземпляров, почему он до читателей почти не дошел. Любопытный эпизод: Н.Я. Мерперт передарил подаренный мной экземпляр А.И. Иванчику, а тот на основе моей брошюры читал курс истории русской археологии в Лионском и Марсельском университетах; кажется, даже издал его по-французски. Ни познакомиться со мной, ни показать мне свой текст молодой член-корреспондент РАН не счел нужным. Один археолог, эмигрировавший из Грузии в Англию, предлагал мне издать там мой очерк в его переводе, но дальше разговоров дело не пошло.
С другой стороны, мой очерк вызвал весьма резкие отклики в Новосибирске в публикациях А.П. Конопацкого и В.И. Молодина[46]46
Конопацкий А.П. Прошлого великий следопыт. Академик А.П. Окладников. Страницы биографии. – Новосибирск, 2001; Молодин В.П., Черемисин Д.Е. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. – Новосибирск, 1999. – С. 175.
[Закрыть]. Там уже были сформулированы основные претензии к моим публикациям. У меня-де преобладает негативная информация, а людям, напротив, нужна позитивная. Нельзя критиковать людей, занимавших руководящие посты, – А.П. Окладникова, Б.А. Рыбакова, Е.И. Крупнова и прочих. В развитии нашей археологии всё всегда шло хорошо– и при Сталине, и при Брежневе, и тем более сейчас. Оказав помощь в публикации моей брошюры, В.И. Гуляев остерегся стать ее редактором, назначив на этой место И.С. Каменецкого, хотя сам сделал в тексте ряд купюр (в частности, нельзя было критиковать А.П. Деревянко).
В этой ситуации я счел за благо уйти на пенсию, попытавшись перед уходом напечатать некоторые свои неопубликованные рукописи. В 1993 году я вынес на обсуждение отдела теории и методики Института археологии РАН (куда перешел в 1988 году из отдела неолита и бронзового века) две рукописи: «Русские археологи в период тоталитаризма» и «Человек и наука». Рецензентами снова стали Н.Я. Мерперт и В.И. Гуляев, и снова они возражали против публикации, хотя ряд сотрудников высказался «за».
В 2004 и 2005 годах, уже пенсионером, я издал эти книги за собственный счет, что было для меня при моей маленькой пенсии весьма нелегко. Книги быстро разошлись и вызвали интерес у читателей. Помимо этого, благодаря помощи профессора Курского медицинского университета С.П. Щавелёва, успешно занимающегося историей археологии, удалось издать в Курске еще две брошюры. Первая, названная Щавелёвым «Историография русской археологии на рубеже XX и XXI веков», представляет собой обзор книг, вышедших по данной тематике в 1997–2003 годах. Вторая – «Рассказы об ученых» – это часть книги «Человек и наука». Начало ее вышло в Москве в издательстве «Знак». В третьей, заключительной части книги содержалось пять очерков. Из них два я перенес в названные выше книги. Три оставались неизданными до сих пор и включены только в настоящий сборник.
Книги мои, затрагивавшие достаточно острые темы, неминуемо должны были вызвать возражения определенного круга лиц. Я ни в коей мере не собирался затыкать им рты. Учитывал я и то, что мои оценки расходятся с официальными оценками нынешнего руководства нашей науки. В связи с этим я издал книги без «шапки» «Институт археологии РАН» (хотя писал их, еще работая там), а как частное лицо.
Появились положительные рецензии на книги, вышедшие в Москве[47]47
Хорошкевич А.Л. Российская власть, фундаментальная наука и будущее страны (А.А. Формозов. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки) // Отечественные записки. – 2005. – № 5 (20); Алешковский П.М. // Российская газета. – 2005. – № 63. 30 марта; Быкова С.Н. // Поиск. – 2005. – № 30–31. 4 марта.
[Закрыть]. Но рецензия на книгу «Человек и наука», сданная в «Вестник РАН» доктором исторических наук В.А. Шнирельманом и уже подготовленная к печати, была изъята из номера, как мне сказали в редакции, по настоянию «влиятельного академика». В редколлегию этого издания из академиков РАН входят А.П. Деревянко и B.Л. Янин. Думаю, что речь шла скорее о первом, но не исключаю и второго.
Наконец, в 2005 году появилась подборка откликов в «Российской археологии» (№ 3). Это не было для меня неожиданностью, но поразило заявление редактора журнала Л.A. Беляева, что других откликов печатать не будут и ответить мне не дадут. Публикация в этом номере есть будто бы окончательный вердикт, спорить с которым не позволят никому. Этот же устный ответ мне письменно повторен в журнале[48]48
Российская археология. – 2006. – № 3. – С. 165.
[Закрыть].
Промолчать всё же трудно, поскольку мои исходные установки изложены сплошь и рядом в искаженном виде, а цель моих оппонентов состоит вовсе не в том, чтобы оспорить выводы двух моих книг, а в том, чтобы опорочить всю мою шестидесятилетнюю научную деятельность. Оценивается вроде бы книга «Человек и наука» (2005), но тут же затрагиваются мои публикации 2002 и 2003 годов, даже мои раскопки 1952 года. К тому же в спор вовлечены вопросы, касающиеся не только меня, но и путей всей нашей науки в прошлом, настоящем и будущем. Неудивительно, что желание поспорить с упомянутой публикацией в «Российской археологии» возникло у С.П. Щавелёва, М.О. Чудаковой и A.Л. Хорошкевич[49]49
Щавелёв С.П. Новые книги А.А. Формозова по истории и теории русской археологии (2004–2005). – Курск, 2006; Чудакова М.О. Разговорчики в струю. О чем говорили между собой советские историки и что забывают российские // Новая газета. – 2007. – № 73. 24–26 сентября. С. 20; Хорошкевич A.Л. «Антиформозовиана» и ее подтекст. Заметки источниковеда // Архив русской истории, Вып. 8. – М., 2007. – С. 681–701.
[Закрыть].
В книге «Археологи уходящего века» (Воронеж, 1999. С. 1) А.Д. Пряхин из Воронежа вопрошал: «Кто дал право Формозову говорить о коллегах в таком недопустимом тоне?» Отвечу так: Это право даёт прожитая мною долгая жизнь, вполне обычная, с успехами и поражениями, счастливыми находками и прискорбными заблуждениями. Я работал на благо науки то более, то менее удачно. Не было в этой жизни погони за деньгами, званиями, чинами; не было саморекламы, стремления угодить актуальным лозунгам или сильным мира сего. Прожив без всего этого не такую уж бесплодную жизнь, я не испытываю симпатии к тем, кто отличался именно в названных направлениях. Читатель вправе в чем-то со мной согласиться, а в чем-то не согласиться и возразить, над чем-то задуматься. Моя отстраненность от официальных кругов позволяет мне говорить о многом более прямо, чем это могут позволить себе люди, живущие в гуще жизни и остерегающиеся задеть тех или иных важных и нужных деятелей. Именно такие люди не хотели увидеть напечатанными мои книги и статьи, не хотят теперь услышать мой ответ. В демократическом обществе высказать свое мнение имеет право каждый. Затыкание рта характерно для общества тоталитарного типа.
Открывает подборку откликов на мои книги письмо профессора Кемеровского университета Я.А. Шера. Предварительно, в апреле 2005 года он отправил свой текст мне, а кроме того – главе издательства «Знак» А.Д. Кошелеву, Л.C. Клейну, В.И. Гуляеву и другим адресатам. Поступило это письмо и в «Российскую археологию». Там решили его опубликовать[50]50
Шер Я.А. О некоторых особенностях освещения новейшей истории российской археологии // Российская археология. – 2006. – № 3. – С. 165–169.
[Закрыть].
Я.А. Шер, как и все прочие, вправе со мной спорить, но позиция журнала мне непонятна. В 1972 году Шер был уволен из Института археологии, и вовсе не в ходе антисемитской кампании, как он утверждает, а после полного провала его отчетного доклада на ученом совете Института. Доклад показал, что, возглавив после увольнения С.И. Руденко лабораторию новых методов в Ленинградском отделении Институт археологии, Шер ее и развалил. Тогда члены ученого совета P.M. Мунчаев и Е.Н. Черных рьяно настаивали на увольнении Шера. Теперь столь же активно ратовали за публикацию его критики моих книг.
После неудачной попытки закрепиться в Эрмитаже, Шер уехал в Сибирь. Вопрос о восстановлении его на работе в Ленинграде не стоит. Сколько я понимаю, Шер намеревался опубликовать свое письмо в журнале «Археология, антропология и этнография Евразии» в Новосибирске. Но редактор этого журнала А.П. Деревянко счел, что опровергнуть публикации Формозова и заклеймить его следует в более читаемом журнале «Российская археология» силами москвичей. Как академик-секретарь всего гуманитарного отделения РАН и член редколлегии журнала Деревянко настоял на этом. Подбор откликов и подготовку их к печати охотно взял на себя Е.Н. Черных. За это, в частности, он был отблагодарен избранием в члены-корреспонденты РАН по специальности «История науки и техники», хотя историей науки никогда не занимался.
Подбор оппонентов специфичен. Д.Г. Савинов и М.М. Герасимова до того в «Российской археологии» никогда не печатались. Реноме Савинова, снятого с должности заведующего кафедрой археологии Санкт-Петербургского университета, не менее сомнительно, чем Шера. Герасимова не археолог. Но требовался не профессиональный разговор, а нечто другое.
Письмо Шера подтверждает мои слова из книги «Человек и наука» (с. 166): спорить у нас не умеют, действуют по принципу – ты меня задел, получай в ответ… Шеру было неприятно то, что я написал о нем в этой книге, и он постарался дать ответ, который бы было неприятно прочесть мне. Казалось бы, мы квиты. Но странно, что журнал, где я печатался с первого номера (1957), состоял членом редколлегии и редсовета немало лет, явно взял не мою сторону, а сторону Шера.
Правда, подобное уже бывало. В 1988 году в «Российской археологии» напечатали статью сотрудника Национальной академии наук Украины Ю.Г. Колосова по поводу конфликта вокруг палеолитической стоянки Староселье в Крыму. Колосов писал, что я присвоил чужое открытие и довел первооткрывателя до самоубийства. Я пытался опровергнуть эту клевету, но тогдашний редактор «Российской археологии» В.И. Гуляев не дал мне этого сделать. Ответ напечатали после смерти Колосова на Украине.
Начав с обращения «Многоуважаемый Александр Александрович» и заверяя, что ценит мои труды по историографии XVIII века (таковых у меня как раз нет), с каждой строчкой своего письма Шер приходит во всё большее раздражение. Чем дальше, тем чаще появляются грубости, оскорбления и открытая клевета. Журнал всё это спокойно печатает.
Достается не только мне, но и моему покойному отцу. Я упомянул, что свои жизненные установки воспринял от отца – профессора Московского университета. Эта фраза послужила поводом для издевок над «сыном профессора» в публикациях Л.С. Клейна и Я.А. Шера. Сам Клейн находил нужным рассказывать в печати о собственном отце. О том, как тот служил сперва в Белой армии, а потом в Красной; публично по-русски говорил одно, а дома на идише другое. Вероятно, на сына это оказало какое-то влияние. Клейн придумал определение «сын профессора» в своем ответе на мою рецензию на его «Феномен советской археологии» в немецком издании «Феномена». Шер радостно подхватил эту кличку. Позиции этих двух авторов и во многом другом совпадают.
Шер соглашается с тем, что я прав, когда говорю о «критике источников в археологии и об общих принципах археологического исследования». Но, по его утверждению, всё это было сказано задолго до меня Клейном, Б.И. Маршаком и самим Шером, тогда как я даже не сослался на этих классиков. Я знаком с их публикациями. Выражая неудовлетворенность современным состоянием археологии, упомянутые авторы призывают прежде всего к созданию строго понятийного аппарата, нового языка для археологии. Я же говорил о воцарившемся у нас безответственном отношении к нашим источникам. Это разные вещи.
Выходили книги и статьи, где в каждой строчке фигурировали «парадигмы», «секвенции», «симулякры» и т. д., но науку они не обогатили. Новые термины мирно уживаются с тем же недопустимым потребительским отношением к источникам, передергиванием фактов в угоду отнюдь не научным требованиям. Об этом я и говорил.
Но что же возмущает Шера, если в главном мы согласны? Прежде всего то, что я написал о нем самом в очерке «Как мы спорим». Рассказывая о дискуссии по поводу датировки наскальных изображений в Сибири, я кратко характеризовал участников дискуссии и тех, кто мог бы принять в ней участие, но уклонился. Упомянуто здесь и о Шере (С. 192–193, 203). Из сказанного ясно, что я считаю его вполне компетентным для того, чтобы включиться в обсуждение проблемы, но занявшим позицию, кажущуюся мне сомнительной.
Шер ждал другого. Я должен был написать его подробную биографию, притом панегирическую и основанную на изучении документов его личного архива.
Шер утверждает, что мы общались дважды: в 1968 или 1969 году в Ленинграде, когда я просил показать мне копии, снятые с енисейских писаниц, что мне было разрешено; и второй раз в Москве. В действительности я не встречался с Шером ни разу. Ни в 1968, ни в 1969 годах я в Ленинграде не был. Следов знакомства с материалами Шера в моих работах нет. Шер написал рецензию на мою книгу «Очерки по первобытном искусству», вышедшую в 1969 году. Он считает, что «пользуясь своим положением члена редколлегии „Советской археологии“», я добился отклонения рецензии. До 1979 года я не был членом редколлегии. Это легко проверить. Думаю, что рецензия в журнал не поступала. Мне бы о ней сказали. Рецензия обсуждалась не в Москве, а в Ленинграде и там советовали ее не печатать. Шер отдал свой текст в Новосибирск в журнал «Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук». Он был там набран, но потом снят из номера. Кто же теперь не проверяет по документам приводимые в печати утверждения?
Дальнейшее в то же духе. Я отметил, что Шер начинал как любитель, а затем окончил Киргизский пединститут. Шер возмущен. Он-де «работал в сельской школе, но еще со студенческих лет не пропустил ни одного лета без раскопок под руководством весьма квалифицированных археологов А.К. Кибирова, П.Н. Кожемяко, Л.П. Зяблина». Киргизский же пединститут был потом преобразован в университет, так что образование у Шера ничем не хуже, чем у меня, окончившего кафедру археологии МГУ. Не вижу противоречия моих слов со справкой Шера, не вижу ничего зазорного в том, что кто-то начинает свое знакомство с археологией как любитель. В 1940-х годах, собирая кремни и черепки в песках Приаралья, я начинал, конечно, как любитель, а не как профессионал. В высокой квалификации перечисленных Шером лиц можно усомниться. Печатные труды их или вовсе не известны, или очень слабы.
Далее отмечено, что после увольнения из Академии наук, Шер «десять лет заведовал созданным им… впервые в СССР отделом музейной информатики в Эрмитаже». Следов этой работы нет. Б.Б. Пиотровский хотел помочь потерявшему службу коллеге, но достаточно скоро убедился в бесплодности его деятельности. По приглашению А.И. Мартынова Шер переехал в Кемерово. Про это я и говорил. Пребывание Шера в Эрмитаже с обсуждением возраста сибирских наскальных изображений никак не связано.
Итак, главная вина Формозова в том, что он исказил биографию Я.А. Шера. То, что я давал нелицеприятные оценки не только его позиции, но и позиций людей, мне близких (В.Н. Чернецов, А.Д. Столяр, Л.Р. Кызласов, Ю.А. Савватеев и других), Шер во внимание не принял. Приписаны мне и другие прегрешения.
«Вряд ли правдолюб Формозов не знает, почему я не поехал в 1966 году на конгресс в Рим и почему В.Б. Ковалевская, И.С. Каменецкий и я не поехали в 1966 году на симпозиум в Марсель». Нет, я ничего про это не знаю, поскольку не имел ни малейшего отношения к иностранному отделу Академии наук СССР. Я и сам не раз получал приглашения на зарубежные конференции и тоже никуда не ездил. Кому можно, а кому нельзя участвовать в конгрессах, решалось в ЦК КПСС – организации, активным членом которой был Я.А. Шер, но в которой я никогда не состоял.
Нет оснований утверждать, что мое отсутствие на зарубежных конгрессах объясняется глубоким возмущением всех иностранных ученых моим письмом в журнале «Current anthropology», где я якобы писал, будто «мне за державу обидно». Эту фразу из хорошего фильма «Белое солнце пустыни» я не цитировал никогда, но ничего дурного в ней не вижу.
Подтекст же заявления Шера таков: в 1993 году американский археолог Э. Маркс приступил без согласования со мной к раскопкам открытой и исследованной мной палеолитической стоянки Староселье. Я выразил по этому поводу свое недоумение в печати. Тогда американские и пригласившие их в Крым украинские археологи развернули кампанию по моей дискредитации. Шер, как и Клейн (которым за державу нисколько не обидно), убеждены в том, что в любой ситуации правы всегда американцы, а Формозову следует перед американцами поскорее извиниться. Не понимаю, за что.
Э. Маркс нашел в пещере два мусульманских погребения и сделал вывод, что обнаруженное мной в 1953 году детское захоронение тоже позднее. Палеолитический возраст этого захоронения был признан вызванной мной комиссией, очень авторитетной (С.Н. Замятнин, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов). Анализ отчетов Э. Маркса и моих привел Л.B. Голованову и В.Б. Дороничева к заключению, что захоронения, выявленные, с одной стороны, в 1953 году, а с другой – в 1993 и 1994, находятся в совершенно разных стратиграфических условиях и не могут быть одновременны. Эта работа была проведена по заказу американского профессора О. Бар Йозефа, относящегося к деятельности Э. Маркса далеко не так восторженно, как никогда не занимавшиеся палеолитом Я.А. Шер и Л.C. Клейн[51]51
Дороничев В.Б., Голованова Л.B. «Гордиев узел» гоминид из Староселья // Невский археолого-историографический сборник… – СПб., 2004. – С. 288–301.
[Закрыть]. Ясно, что Шер поднял вопрос о моих раскопках 1953 года не для того, чтобы обсудить проблемы, поднятые в моих книгах 2004–2005 годов, а для того, чтобы любой ценой опорочить своего оппонента.
Шер пишет, что хотя в моей книге «Человек и наука» есть очерк «Смирение и дерзость в науке», чего-чего, а смирения у меня он не наблюдал. Я говорю о смирении перед наукой, а не о смирении перед генералами от науки («Чем вам не угодили А.П. Деревянко и В.И. Мол один? Тем, что они академики, а вы нет?»[52]52
Как иные лица становятся академиками, см., если угодно, кн.: Таюрский В.Г. Новосибирский академик А.П. Деревянко и археология Якутии. – Якутск, 2005 – Примечание составителя.
[Закрыть] – вопрошает Шер). Говорю о смирении перед строгими, подчас очень обременительными требованиями науки, обязательными для любых ее служителей.
На взгляд Шера, главное в жизни – самоутверждение. Он подчеркивает, что не был избран членом Академии естественных наук, а сам основал ее, после чего стал академиком автоматически[53]53
Недавно в члены РАЕН избрали лидера Чечни Р. Кадырова – Примечание составителя.
[Закрыть] (то есть сам себя таковым назначил). По-видимому, сей отец-основатель и привел в РАЕН таких деятелей, как А.И. Мартынов, В.Е. Ларичев, Г.Н. Матюшин, В.А. Софронов и прочие сомнительные фигуры. Шер гордится, что он «индивидуальный член ICOM, член исполнительного бюро IDOS», что побывал в стольких странах.
Для меня всё это никогда не было привлекательно. Я отказался читать лекции и на кафедре археологии, и на кафедре истории искусств МГУ, заведовать отделом неолита и бронзового века и отделом полевых исследований Института археологии АН СССР. Меня интересовала работа, а не внешние успехи.
Кому-то я виделся в ином свете. Для Шера я самоутверждаюсь, «топча» других. Сам он якобы никого не порочит, хотя без тени смущения пишет, будто «Формозова подкармливал в роли легального оппозиционера Б.А. Рыбаков», что я «совершал прыжки влево в пределах дозволенного».
С этим согласен и Л.С. Клейн. Познакомившись со списком моих публикаций, изданных к моему 75-летию, он убедился, что как «лицо коренной национальности» я всегда пользовался покровительством верхов. Ведь моя первая статья вышла в 1945 году, а у Клейна только в 1962, хотя он гораздо умнее и образованнее меня. В списке моих работ есть две случайные статьи, подписанные рядом лиц, в том числе Б.А. Рыбаковым и мною. Для Клейна это очень показательно. Удивительно, что рассуждения такого рода печатает «Российская археология», хотя вся моя жизнь прошла на глазах членов редколлегии и наши взаимоотношения с Б.А. Рыбаковым им хорошо известны.
Сосредоточив внимание на том, что я написал о нем самом, Я.А. Шер вступается за других. Я-де «топчу» «старших коллег, ушедших из жизни». Это я слышал не раз. Мои книги воспринимали порой лишь как собрание обличений и разоблачений. Даже те, кому книги нравились, спрашивали меня: «А почему вы не написали еще о таком-то? (Обычно называли Б.А. Рыбакова). Вот уж кого надо заклеймить!»
Сам я видел свою задачу в другом: по возможности разобраться (хотя бы для себя) в ситуации, сложившейся в нашей науке; побудить коллег к ее обсуждению. Не говорить при этом о людях, определявших пути науки, невозможно. Когда мы рассматриваем ушедшую эпоху, мы неминуемо оцениваем ее деятелей, положительно или отрицательно. Без тени сомнения мы говорим, например, о преступлениях Ежова или Берии, невзирая на то что они мертвы и ответить не могут (А как бы ответили!). Почему же, едва речь заходит о деятелях меньшего масштаба, но той же эпохи, мы должны что-то замалчивать, а чем-то через силу восхищаться?
Книга «Человек и наука» вообще не об археологии. В изданной под этим названием первой части книги я упоминаю и астронома XVIII века П. Лапласа, и геологов, и антропологов. А во второй части – «Рассказах об ученых» – есть очерки о филологе И.И. Срезневском; историках Т.Н. Грановском и С.М. Соловьеве; биологах Э. Дюбуа, К.С. Мережковском, А.П. Богданове; об искусствоведе Н.Э. Грабаре. Археология затронута только в двух очерках из девяти.
Меня в данном случае интересовала не археология сама по себе, а нередкая в жизни науки коллизия, когда требования науки приходят в столкновение с желаниями исследователя, носящими вовсе не научный характер.
Коллизия всеобщая. Книга вышла в филологическом издательстве, и читатели – филологи-классики и русисты, специалисты по истории литературы – говорили мне: «Вот ведь, у вас один материал, всякие черепки, кремешки, а у нас вовсе другой. Меж тем проблемы встают те же самые». Значит, какие-то болевые точки я нащупал.
Кстати сказать, меня упрекают и в том, что я говорю о встающих перед археологами трудностях не в специальной, а в научно-популярной книге, обращенной к читателям, в большинстве своем не знающим сути дела. Книги мои не популярные. Издательство «Знак» ориентировано на ученых. Здесь печатались В.В. Седов, Е.Н. Черных, В.Л. Янин. Может быть, мои книги написаны более живо, чем их монографии, но это всё равно книги для специалистов.
Так можно ли критиковать почтенных и покойных людей? Рассмотрим пример, вызвавший возмущение как у Я.А. Шера, так и у М.М. Герасимовой – оценку раскопок ее отца М.М. Герасимова в Мальте. Стоянка эта исключительно важная – наиболее ранняя среди верхнепалеолитических памятников Сибири; со своеобразным инвентарем, в чем-то близким к находкам в Европе; с жилыми сооружениями; погребениями двух подростков; наконец, с серией произведений искусства. Ясно, что результаты раскопок столь ценного памятника должны быть очень хорошо документированы как в полевых отчетах, так и в итоговой публикации, а коллекции – доступны для изучения специалистами. В реальности всё иначе. В архивах отчетов о раскопках по сути дела нет. Коллекции разбросаны по четырем музеям в трех городах, а частично и утрачены. Итоговая монография о Мальте за 70 лет так и не появилась. Об этом я и говорил в книге «Человек и наука» (С. 71–73).
Дочь М.М. Герасимова Маргарита возмущена: не смейте обижать моего папу! Я.А. Шер поучает меня: нельзя предъявлять к раскопкам 1920-х – 1930-х годов требования сегодняшней науки. Но мои претензии отражают вовсе не установки современной науки, а элементарные требования, выработанные Императорской Археологической комиссией в середине XIX века, сохраненные в советские годы, действительные и сейчас.
Шер напоминает о моей статье, изданной к 60-летию М.М. Герасимова, уличая меня в двуличии. В юбилейной статье я оценивал деятельность М.М. Герасимова в целом, в том числе созданную им методику восстановления лица по черепу. В книге же говорится о конкретном вопросе. Вместо того чтобы попытаться опровергнуть приведенные мной факты, мои оппоненты сводят всё к личным вопросам. Далекой от археологии М.М. Герасимовой, может быть, простительно полагать, что коллекции из раскопок – папина собственность, а после смерти отца – мамина, и папа с мамой вправе распоряжаться ими по своему благоусмотрению. Но редакция журнала не должна поощрять такие рассуждения. Коллекции – собственность науки и государства.
Проблема общая – безответственное отношение исследователей к материалам, добытым раскопками. Я привел примеры Мальты и Бурети. Мог бы привести и другие.
Б.А. Рыбаков десятилетиями не сдавал отчетов о своих раскопках. Через много лет их писали за него С.А. Плетнева и Т.И. Макарова. Д.А. Крайнов не ввел в научный оборот материалы своих довоенных раскопок (Замиль-коба № 2) и раскопок 1957 года (Карашский торфяник). Полевой комитет Института археологии РАН всё это не беспокоило. Людей же, чувствующих ответственность перед наукой, это должно беспокоить. Говорить об этом надо. И я в молодые годы очень тяготился составлением полевой документации и отчетов. Но я смирял себя перед требованиями науки и корпел над отчетами. Увы, многие, даже крупные ученые, этим пренебрегают.
Отсюда видно, что волнуют спорящих разные вещи. Меня – интересы дела, моих оппонентов – внешняя благопристойность. Судите сами, что важнее.