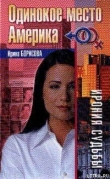Текст книги "Визави (СИ)"
Автор книги: Александр Матков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Матков Александр
Визави
Только здесь страдать – это страдать.
Не в том смысле, что те,
кто страдает здесь,
где-то в другом месте из-за этого страдания будут возвышены,
а в том смысле, что то,
что именуется в этом мире страданием,
в другом мире не изменяется,
а только освобождено от своей противоположности,
блаженства.
Савва Красовский проснулся в своей кровати от тяжести давящей на его голову. Кошмар травил его целую ночь. Придя в себя, он, конечно, ненарочито запамятовал, кто или что за ним гналось. Токмо холодный пот, увлажнивший его чресла и лоб – служили ему оттисками беспокойной ночи.
Уже светало. И Красовскому – завсегда ранней пташки – требовалось вставать. Он попытался. На голову словно припаяли увесистый шлем, литый из свинца. Вложив силы в рывок, он подался вперёд. Опять неудача. Тогда Красовский неспешно повернулся на левый бок, пододвинулся к самому краешку кровати – босые ступни выглянули из под одеяла и тронули половицы. Получилось – Красовский встал с кровати.
Его квартира, выхолощенная, но опрятная состояла из одной крохотной комнатушки на цокольном этаже здания "Старого фонда". Будучи безработным (а вдобавок и скрягой) он жил на пособие по безработице. В съёмном дешевом холостяцком гнёздышке имелось только самое необходимое – так, письменный стол (немного облезший), та самая скрипучая кровать, пышное кресло с пледом, и допотопный шкаф с зеркалами на дверцах.
Савва Красовский заядлый честяга, в некоторой степени даже нарцисс, и первым делом дня, ритуалом вхождения в новый день, если угодно, являлось недолгое самолюбование. И вот подойдя к зеркалу, он обомлел, сделался бел, как привидение.
"Что это такое?"– побеспокоился он. Вытянутые холёные пальчики истово протёрли серо-голубые глазёнки, однако морок не сгинул. На нём были всё те же кальсоны, как и вчера, он казался привлекательным мужчиной, хорошо сложенный, на пятом десятке выглядел моложе своих лет, с правильными чертами лица, высоким лбом, преждевременно поседевшие усы придавали ему толковости и толику черствости. Красовский тщательно оглядел все эти мелочи своей внешности и не нашел в них ничего неудовлетворительного. В нём не изменилось совершенно ничего, кроме одной вещи – на его голове поселился громоздкий клещ. Существо цвета прокисшего молока водрузилось брюшком ровно на его макушке. Членики боковых лапок вытянулись и прилегли к вискам с проседью, остальные четыре придатка расположились по закраине лысоватого венца.
"Это не взаправду. Вздор!" – отказывался верить своему отражению Красовский. Но чёрные кнопочки глаз вперекор продолжали глядеть на него. "Может мне снова уснуть и эта нелепица пропадёт?" – подумал он. "Нет, пожалуй, я просто не стану заострять на этом внимание".
Красовский направился к окошку-зеркалу над умывальником; холодная вода немного взбодрила его. Однако гнусный клещ и не помышлял исчезнуть и Красовский заколыхался. Впрочем, он всё же взял помазок для бритья и, бурча под нос что-то неразборчивое, намёл на него толстый слой снега, и прошелся им по своему подбородку.
– Наблюдаешь, шельмец? – Казалось, клещ на самом деле следит за ним с неприкрытым интересом.
Взяв бритву, Красовский увидал, что его руки трясутся. Предательская дрожь не даёт использовать бритву по назначению.
– Проклятье! – в сердцах вспылил Красовский, со злобой швыряя прибор в раковину. Наградить и малейшей царапиной своё прекрасное (прекрасное, по мнению самого Красовского) лицо он не осмелился.
– Да что тебе от меня надобно? – Клещ не издал ни звука.
Смыв пену с лица, недовольно ощупав щетину, Красовский подошел к низенькому холодильнику. На кушанье он никогда не скупился. Колбасы, сыры и фрукты, и зелень, всё любил (однако стоит заметить, слабости к алкоголю не питал). Но сейчас от вида молока, например, его передернуло, а потянувшись за куском сыра, он тотчас передумал. Клещ отбил аппетит напрочь.
"Нет, так жить нельзя. Надо что-то делать". Красовский вновь встал напротив зеркала. Занёс руку над головой и черепашьим ходом опустил на белесое туловище.
– Живой! Настоящий. – Гладкая ладонь чувствовала мягкость хитинового покрова, а пяток глазков казалось, выказывали...отраду?
Красовский одёрнул руку, как ошпаренный. Растерянность. Тревога. Страх. Трепет. Всё смешалось в запутанный клубок. Ужас объял его. Он поднял бритву со дна раковины, ухватил её двумя руками:
– Ты – зараза. И тебя надо вырезать! – лезвие потянулось к лапкам и те отозвались: стиснули голову, будто та угодила под пресс – в чеснокодавку или орехокол. У него потемнело в глазах, комната закружилась. Впервые клещ оживился.
Казалось, это продлится вечность, но головокружение ушло, отступило, забрав с собой гнев, оставив уныние.
– Я не хочу. Ты мне не нужен.
Красовского нельзя было назвать волевым человеком, он и сам признавал отсутствие "внутреннего стержня" в себе; не полная мямля, но и не лидер. И он начал канючить. Жалостливо, богомерзко, соединив ладони в молитвенном жесте. Отъявленный безбожник обращался толи к Господу, толи к клещу, но чуда не случилось и Красовскому осталось уповать на науку.
– Врач!
Телефона у него не было, и вызвать доктора на дом он не мог.
– Срочно в больницу. Там на тебя найдется управа, – желчно проговорил Красовский.
Часы на столе тикали на половине восьмого. Надевши штаны, напялив кофту (сначала побоявшись, что продевая голову, клещ взбеленится, но благо тот повёл себя покорно), затем бросив взгляд в окно, нахлобучил дождевик.
– Капюшон укроет тебя от взора прохожих и правильно.
Нырнув ступнями в мокроступы, Красовский открывает дверь. Он пытается. Рука движется неуверенно. Дверная ручка не выглядит опасной. Опасность там – за дверью. "Что если люди увидят? Испугаются? Помогут? Навредят? Не хочу быть изгоем". Сомнение сковало Красовского. Топчась на одном месте у двери, он мучился. "Но ведь покамест это пустые опасения". Понимая, что только действие прогонит сомнение, Красовский вцепился в ручку, что аж костяшки пальцев побелели, натянул капюшон чуть ли не до бровей и ступил через порог.
***
До больницы было рукой подать. Мерзопакостная погода с одной стороны пришлась к месту – народ и носа не показывал, с другой стороны – галоши оказались дырявые, а луж расплодилось – конца-краю нет. Вдобавок дождь строчит как из пулемёта и естественно капли-снаряды падают прямиком на клеща. Тонкий капюшон совсем не защищает паразита и тот отвечает соответственно: наседает на голову Красовского всё пуще и пуще.
Таким образом, простая прогулка перестаёт быть таковой. Красовский перенесся в зону боевых действий. В ушах звенит, как от рядом взорвавшихся гранат; режущий ветер жалит суровее игольчатых штыков на винтовках; рекрут кидается из стороны в сторону, всячески увёртываясь от града пуль; наступить в лужу стало равносильно поставить ногу на мину. Отчаянно борясь, боец прорывается вперед. Клещ размером с дыню тянет сейчас килограмм на двадцать, а то и больше – все тридцать. На пути солдата появляется спасительный блиндаж, он бросается под крону дерева. А времени, чтобы отдышаться в обрез. Когда дыхание более-менее выравнивается, а в глазах не двоится так явно, рядовой снова принимает бой. Открылось второе дыхание, и ажно вовремя – клещ, представлявший из себя боевое снаряжение, сделался раненым сотоварищем. Красовский замедляется вдвое. И лужи смыкаются перед ним плотным строем, а ведь ступенчатая лестница спасительного серо-белого здания прямо за ними.
"Как же так? – не соглашается Красовский. – Я далеко зашел и не отступлю". Самое время для победного рывка. Рывок получается вялым, тягучим. Калоши наполняются водой под завязку. Да, Красовский победил – добрался до госпиталя, однако и без ран не обошлось: дрожащие руки, промокшие насквозь ноги, посиневшие губы, насморк. Савва Красовский не испытывал радости, он буднично (скрывая одышку) подошел к стойке регистрации, взял свою больничную карточку и талончик, и занял очередь – второй, сразу после тихони старушки с палочкой (кажется, она сидит тут вечность).
Ждать пришлось относительно долго. Пациенты прибавлялись мало-помалу. Красовский сидел слившись со стеной (дождевик и больничные стены были одного цвета – серо-зелёного), будто покрывшись мхом. Уныло пялясь в плитку пола, он думал о том, что скажет доктору; с чего начнет; как поведёт себя врач. В какую-то минуту он даже подумал сбежать, броситься наутёк, но тут вышла старушка, настал его черёд. Но он не сдвинулся с места. Это егоза неуверенность затягивала узлы верёвок, накрепко привязывая Савву к стулу для ожидания, не давая пошевелить и пальцем; а лиходейка боязнь стучала молотком, намертво прибивая его калоши гвоздями к полу. "А что если врач не поможет мне? Я останусь уродом. Люди будут тыкать в меня пальцем, шарахаться от меня? Ко мне станут относиться хуже, чем к побирушке? Как к пустому месту?". И тут на выручку пришел страх. Он разрезал путы неуверенности, один моток за другим; выдернул нагеля боязни, один за одним. Савва Красовский поднялся со своего места и вошел в кабинет врача.
– Здравствуйте, – не поднимая головы от своих записей, сказал Александр Сергеевич Пустовалов.
По приличию Красовскому полагалось снять верхнею одежду и повесить на вешалку, но он не стал – прошел к стульчику и уселся напротив врача в мокром дождевике.
Савва Красовский был нечастым посетителем сего заведения. Болеть он не любил. Тем не менее, с доктором Пустоваловым имел честь видеться и вне больничных стен, ибо тот был другом старшего брата Саввы. Так что им приходилось вести светскую беседу раз или два. Правда и беседой это не назовёшь; с кем бы не общался Красовский – интеллигентным человеком или мещанином, он всегда вёл себя напыщенно, говорил высокопарно, как бы между строк выставляя собеседника круглым невеждой; причём Красовский был чертовски начитанным и мог вогнать в краску труженика любой профессии. И очевидно, что доктора Пустовалова при первой их встрече он тоже осквернил своим цинизмом: высмеял, объяснив тому, да и всем кто был рядом происхождение его фамилии.
"Нет, маловероятно, что этот Пустовалов вспомнит меня, это у меня памятливость что надо, а не у него".
– Доктор, – обратился Савва, не узнавая свой голос.
– Ну, на что жалуемся? – всё также изучая бумаги буднично поинтересовался Пустовалов.
"У меня клещ. С этого мне следует начать? Или может...".
– Доктор, кажется, я заболеваю. Насморк, и...
– Кашель?
– Нет.
– Температура есть?
– Не знаю.
Доктор впервые посмотрел на своего пациента:
– О, что ж Вы в мокрой одёжке сидите, так тем паче заболеете. А ну-ка, снимайте. – Савва замялся. – Снимайте-снимайте, у нас так не принято.
Красовскому ничего не оставалось, кроме как подчиниться; он откинул капюшон и плачевно взглянул на доктора. Красовский ожидал вытянутой физиономии, или междометия "Ах!", но Пустовалов проявил своё отношение наихудшим для Красовского образом – так, гримаса отвращения отразилась на его лице.
"Это он на меня кривится или из-за клеща?" – недоумевал Красовский и кисло спросил:
– Поможете?
Доктор спокойно достал градусник и положил его у края стола перед Красовским. – Меряйте, – сухо проговорил он.
Красовский подчинился, сунул градусометр подмышку, повисла тишина – слышно, как муха пролетит. Врач же нонче больше записи свои не штудирует, но и на Красовского не глядит – сидит, косит в окно и молча морщинится.
– Вот, – освобождает из подмышки и протягивает градусник Красовский.
– Сколько там? – брезгливо интересуется врач, не беря градусник, как бы побаиваясь, что тот обожжёт ему руку.
– Тридцать семь ровно.
– Угу, – откровенно кривится врач.
Пустовалов встаёт со своего места, отходит к окну и, заложа руки в карманы халата, глядит на улицу.
– Вот что, – воротит он нос, – домой и отлежаться, чай травяной пить...
– Помогите, уберите его, доктор, – упавшим голосом просит Красовский.
– Есть и другие пациенты, не задерживайте очередь, – неучтивым тоном говорит Пустовалов.
– Доктор, умоляю, заклинаю! Искорените это, – с убитым видом просит Красовский. – Прошу вас, ну хотите я вам...вам...
Красовский не успевает ничего предложить.
– А ну, прочь отсюда! – оборачивается Пустовалов. – Чтоб я больше этого не видел! – И говоря "этого" указывает пальцем не на клеща, а на самого Красовского, сначала прямо на его грудь, а затем на дверь. – Вон!
Красовский испуганно вскочил и опрометью рванул к двери; а потом и на улицу.
***
Противный дождь прошел и пасмурность и без того бескрасочного дня уступила своё место бледности. Сквозь сито белой пелены мелькают фигуры. Как кажется, Красовскому битва минула, и поле боя осиротело. Остались лишь призраки – скользящие в тумане образы.
"Это случилось. Меня признали мерзким; вызывающим тошноту и неприязнь. Я для них тля, плешь. Никто не подаст руки. Никто? А кто у меня вообще есть? Брат! Уж он-то точно не отвернется".
Идучи промеж луж, Красовский не сразу сообразил, что забыл натянуть капюшон. Тревожно оглядываясь по сторонам, он запрятывал клеща. "Люди в больнице, они видели меня, когда я убегал? Успели понять?" – от этих мыслей Красовский поник еще больше. Надежда на брата – единственное, что пока не давало ему зачахнуть.
"Лаврентий пособит. Он всегда выручал меня; заступался, когда мы были детьми. После смерти родителей мы перестали общаться. Мама и папа были связующим звеном между нами – успешным музыкантом (первая скрипка оркестра) и нелюдимым напыщенным брюзгой. Но ведь неважно, сколько мы не виделись? Тридцать дней не такой уж и большой строк, верно? Брат есть брат. И я уверен, он поможет".
Лаврентий Красовский проживал на улице Композиторов – в четверти часа пути от дома Саввы. Сам Савва редко захаживал к брату, а тот, тем не менее, не бросал попыток вытянуть Савву из ракушки и звал в гости и на всяческие мероприятия. «А ведь я всегда всё портил, – вспоминал Савва, – брат знакомил меня с важными людьми, а я порицал их, открыто и за их спинами; кичился, хотя ничего не представлял из себя, только позорил брата. А он терпел».
Завернув за угол дома 504 серии Савва вошел в парадную; подыматься по лестнице на третий этаж было грузно. Не физически, но морально. Каждая ступенька давалась всё труднее; звук шагов отдавался нерешительностью; "А что если? А что если?" – твердили ступеньки. А затем дверь; она сдавалась такой массивной, как бы говорящей одним свои видом: "Неужели ты думаешь, он тебя впустит? Как бы не так!".
Звонка у двери не водилось и Красовскому требовалось постучать. "Может, его нет дома?", – как бы отчужденно подумал он.
Раздался стук в дверь; такой слабый и сонный. Впрочем, с той стороны услышали.
– Кто там? – Глазка тоже не было.
– Брат, это я, открой.
– Савва? – Щелкнул замок. Открылась дверь. – И впрямь ты. Заходи, случилось чего?
Савва вошел в переднею.
– Ты ж промок до нитки. Давай быстро греться.
Савва скинул капюшон. Поднять глаз на брата, он не решился.
– Врач не помог мне, я не знаю что делать, как мне быть, скажи брат?
– Глаза бы мои тебя не видели, – сказал, как плюнул Лаврентий.
– Нет-нет-нет. Только не ты, брат.
Савва хочет взять брата за плечи, но тот хватает зонт из кованной зонтицы и ограждается им от Саввы.
– Брат. Умоляю. – Конец зонта упирается Савве в живот, и Лаврентий давит вперед.
Савва сгибается, подается назад и, спотыкаясь о порог, падает на пол.
– Проваливай и больше не возвращайся! – сказал Лаврентий перед тем, как захлопнуть дверь.
У Саввы были ключи от квартиры брата (а у Лаврентия соответственно от комнаты Саввы), он мог запросто открыть дверь, но вместо этого воззвал к брату:
– Брат? Брат? – Ни слова, ни звука в ответ.
"Это всё ты, – обратился Красовский к клещу, – из-за тебя я потерял брата". Но клещ как бы ответил неслышимым эхом: "из-за себя ты потерял брата".
Время на думы Красовскому не дали: он услышал, что кто-то поднимается по лестнице; звук шагов заставил его мигом укрыться капюшоном. Он стрекозой прошмыгнул мимо господина в сером пальто – тот моргнуть не успел.
"Больше мне не к кому пойти. Ни друзей, ни знакомых, никого. Куда? Куда мне податься? Может, ты знаешь, мой недруг, а?".
***
Красовский не думал куда идёт, ноги сами привели его. За всю свою жизнь в храме он был от силы пару раз. Первый – еще младенцем, когда крестили, а второй раз с братом – на проводы души, сороковой день после смерти родителей. По собственной воле Красовский тут не появлялся. «Всё бывает в первый раз» – подумал он, входя в собор.
Родители Красовского не были богобоязненными людьми, поэтому поначалу Савва растерялся. Он заприметил церковную лавку и направился туда; приобрёл свечи. Он чувствовал себя здесь стеснённо, не в своей тарелке. К батюшке обратиться Красовский побоялся. Он подошел к самой большой и красивой (по его мнению) иконе и...застыл.
"Я купил свечу. Отдал за неё деньги храму, ведь это уже добрый поступок, так? Теперь нужно зажечь её и помолиться. Испросить духовной помощи".
Савва Красовский не был дураком или простаком, он понимал, что ставить свечу с холодным сердцем, как бы формально, нельзя – грех. Стоя пред Святым ликом, он несколько раз покрестился. Затем зажег с помощью лампадки свечу (при этом следя, чтобы не накапать туда воском) и закрепил её таким образом, чтобы она не соприкасалась с рядом стоящими. Вслед за тем, он начал молиться; своими словами, но благоговейно, не скупясь; обращая все свои помыслы к Богу.
Молитва вышла сбивчивой, но искренней (по мнению самого Красовского), даже выступили слёзы. После обряда, он неторопя перекрестился, поклонился и освободил место для других людей.
"Быть может, я сделал всё не совсем правильно, но что мне оставалось? И что мне остается еще? Грехи? Мои грехи, они отпускаются только на Исповеди...".
Красовский посмотрел на священника. Лицо у того было мягкотелое, полное, с женственными чертами: мясистый нос, ярко-красные щеки и маленькие глаза с жидкими, едва заметными бровями. "Подумать только, как будто он эти свои брови выщипывает. А бородка то вообще никуда не годится, совсем реденькая" – подумал Красовский. Облачённый в рясу шафранового цвета, он выглядел как наполненный под завязку бочонок. "Не похож он на образованного и прилежного священника". Молитвенное настроение развеялось как дым. Савва Красовский покинул церковь.
***
Вернувшись в свой кубрик, Красовский почувствовал, что голодный, как сто муравьёв. Завтрак, обед и ужин были его излюбленными делами и тянулись у него так долго, как только возможно; он всегда наслаждался каждой ложкой, каждым кусочком, каждым глотком, с неприкрытым самозабвением и упоением.
Переодевшись в домашнее, он взялся накрывать на стол. Через некоторое время перед ним уже стояла тарелка супа, от которого обильно шел пар, жирные умасленные ломти хлеба, вволю натёртые чесноком, блюдце с ломтиками трёх разных колбас, а также огурчик и стакан компота.
Откусив кусок, он принялся жевать, затем зачерпнул ложку с тарелки и вот тут клещ оживился.
– А! Что ты творишь, садист несчастный? – Клещ сжимал голову Саввы; сжимал на секунду, ослаблял хватку и снова сжимал.
– Ты что? Есть хочешь? – Красовский не видел, как клещ подрагивал своими сяжками, но почувствовал это.
Он взял кусок хлеба и поднёс к челюстям клеща. Вскоре на ресницы и нос Красовского посыпались крошки. "Ты отнял у меня всё. Даже радость трапезы".
В итоге поздний обед превратился в сущую пытку. Красовский думал сперва накормить клеща и потом спокойно поесть самому. Не тут-то было. Клещ отказывался наедаться. И пошло всё так: Красовский съедает ложку, затем даёт откусить хлеба клещу, в противном случае, сотрапезник наседает на голову, доводя Красовского чуть ли не до тошноты. Пол тарелки – это самое большее, что выдержал Красовский. Вкус еды перестал ощущаться к четвёртой ложке, а к шестой – гадливость к еде в целом.
Помыв за собой тарелку, Красовский расположился за столом. (К слову чтение классической литературы – единственное, что любил сильнее всяких вкусностей Красовский и посвящал этому занятию немало времени). Включив лампу, открыв пред собой книгу, погрузился в роман. Он попытался. Переворачивая страницу, клещевые лапки впиваются в седые виски. Надо думать, что клещ тоже читает. И читает больно уж медленно. "Ты отнял у меня всё. Даже радость чтения".
Красовский не знал, что ему делать. Он метался из угла в угол, нет-нет, да и поглядывая на себя в зеркало.
"Я просил помощи у людей, они обращались со мной, как с прокаженным; родной брат, не раздумывая отрекся от меня; даже для Бога я стал окаянным, в конце-то концов. Никто не помог. Своё одиночество я считал свободой. Но ты, чёртов клещ, ты отнимешь у меня всё. Даже радость одиночества". Красовский злостно посмотрел на отражение клеща:
– Да гори ты синем... – острая естественная нужда прервала его тираду.
Красовский пошел облегчиться по большому. И тут, посреди испражнения он ощутил, как по затылку, а следом и спине пробежали мурашки, ползя всё ниже и ниже. Заведя руку, потер поясницу, нащупал что-то непонятное; пальцы вымазались не пойми в чём; озадаченный, он разглядывал какую-то жижу, похожую на расплющенную мякоть абрикоса. Осознав, что это такое и откуда взялось, он встряхнул ладонь. Частички испражнений клеща разлетелись и ударились градинками о стены и пол.
Тщательно вымывая руки, Красовский не злился, нет. Горечь и безысходность заблестели в его глазах.
"Совсем меня доконать собираешься. Собачью жизнь устроить мне хочешь. Ты не остановишься, пока не выпьешь меня до последней капли" – не вопрошал, утверждал Красовский. И был прав...
***
Неделю назад клещ явился из кошмара Саввы Красовского и воссел на его голове. И ему пришлось жить с этим. Но разве это жизнь? Холодильник наполнен съестным, но жилец голодает. Он может только глядеть на еду, но кушать на пару с клещом – несносная мука. Противно до дрожи. Особенно, когда вспоминаешь, что последует за приёмом пищи. Отчего он постепенно исхудал и исчах.
"Лишь жить в себе самом умей -
Есть целый мир в душе твоей... "
Читать и само развиваться Красовский тоже не мог. И оттого потихоньку тупел и впадал в маразм; денно и нощно перебирая стихи у себя в голове.
"Кто гордость победить не мог,
Тот будет вечно одинок... "
Общаться было не с кем; унижать и упрекать отныне он мог лишь собственное отражение. Отъявленный самолюбец теперь был не в силах смотреть в зеркало. Ухаживать за собой он перестал. К нечёсаным усам присоединилась колкая щетина, переросшая в бороду. Грузный клещ вечно давил на голову, так что шея скрипела как ржавая труба. Уборку он не проводил (силы покинули его) и жилище его запылилось, наполнилось неприятной сыростью.
"Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены... "
Не осталось ничего, чем бы он мог наслаждаться так самозабвенно как раньше. Всё что осталось Красовскому – это тягостно пялиться в окошко, из своей грязной комнатушке на цокольном этаже, на ноги прохожих. Днём и ночью. Днём и ночью. Порой он долго вышагивал из угла в угол, потом садился на кровать (ложился он, только нуждаясь во сне; клещ затруднял подъём) и куковал, таким образом, час за часом. Сон шел редко. А если и находил, то начинался всегда с кошмаров и потом эти кошмары продолжались наяву.
"Один, один остался я... "
На вторую седмицу своего остракизма в квартире отключили электричество. Харчи заплесневели; в холодильнике поселились черви – соседи сгнивших овощей и протухшего мяса; Красовский слышал и порой слушал, как ворошились личинки. «Им там тесно, наверное» – иногда думал он.
Время шло к ночи. Он лежал на кровати, содрогаясь от холода под засаленным одеялом, погруженный в мысли. "Один-одинешенек. Один, но и не один. Одиночество вдвоём", – бессвязные мысли копошились в уме Красовского, как те черви за дверцей холодильника.
На улице взошла луна. Красовский поднимается с постели, встает на давно немытые ноги, роется в ящике стола, достаёт альбом и идёт на кухню. Включает конфорку, мерно зашипели синие языки пламени. Красовский открывает альбом с фотографиями, достаёт одну, подносит к огоньку, воспламеняет; на стенах бесшумно затанцевали тени. Фотография младенца Красовского тлеет и падает в раковину. Солнце, море, двое мальчуганов улыбаются сидя у песочного за́мка, им очень весело; а потом их охватывает пламя и всё увядает. Тоненький альбом-книжка не был заполнен даже и наполовину. Запечатленные воспоминания вспыхивали и угасали один за другим, один за другим, превращаясь в пепел на дне грязной раковины...
Красовский стоит у зеркала, просто так, не зная зачем, под покровом темноты. Он всматривается в мутную гладь. И бьет. Кулак врезается в стекло на уровне живота. Удар другой рукой чуть выше. Осколки – большие и мелкие – падают под ноги и на ноги. Никакой злости, никаких слёз, никаких мыслей. Ничего. Только звук бьющегося стекла. Красовский поднимает руки над головой (над клещом) и ударяет. Мелкие осколки впиваются лицо, крупные проходят по шее. Голые ноги топчутся по стеклу; растекается лужа. Он смиренно опускается на колени и ждёт. Бархатная лужа, в которой он сидит сгорбленным, горемычным, продолжает разбухать. Последней мыслью Саввы Красовского было: "до последней капли".
Франц Кафка.
Ф. И. Тютчев. Silentium!
'Одиночество в любви'. Д. Мережковский.
'Одиночество'. М. Лермонтов.
'Один, один остался я'. Александр Пушкин.