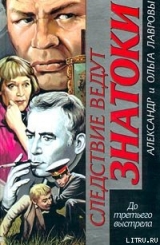
Текст книги "Подпасок с огурцом"
Автор книги: Александр Лавров
Соавторы: Ольга Лаврова
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Видно, что старик сел на своего конька.
Руднева послушала-послушала и бочком отходит – ее, как магнит, притягивает торшер…
Появляется Ким Фалеев, под мышкой у него большая завернутая в газету книга. Альберт встречает его у дверей, забирает книгу.
– Ты заставил себя ждать, моя дама в нетерпении.
– Народу много?
– Весь паноптикум. Не объяснишь ли, между прочим, где лягушка?
– Для дамы лягушка – жирно, хватит портсигара.
– Я не спрашиваю про жирно-постно, я спрашиваю, где пепельница?!
– Пока у Музы… гостит.
– Ким! Без номеров!.. Вспомни, пока Муза тебя не пригрела, ты ходил без порток! Вшивый гений!
Рассерженный, он направляется к Музе.
– Дай ключ от спальни.
Муза подозрительно оглядывает Рудневу и поджимает губы.
– Музочка, искусство требует жертв. Я не виноват, что очередная жертва искусства приятно выглядит.
Муза отцепляет ключ от связки, которую носит в кармане.
В спальне Руднева листает иллюстрации в «Искусстве Фаберже», алчно причмокивая. Входит Муза, оценивает ситуацию. Альберт немного отодвигается от Рудневой.
– Чисто два голубка. Альберт и Альбина… Алик, что ты Киму сказал? Ушел и хлопнул дверью!
– Накатывает на него. Сегодня ушел – завтра вернется.
– Галстук поправь, – холодно говорит она, про себя называя его паршивым потаскуном.
– Ты, Муза, как раз вовремя. Альбина Петровна интересуется, где можно взглянуть на Фаберже.
– На Фаберже можно взглянуть в Оружейной палате, в Историческом музее и в Эрмитаже, – отчеканивает Муза.
– Я была уверена, что он француз, но Альберт Иваныч говорит…
– Карл Фаберже – не француз. Еще дед его принял русское гражданство. Фаберже – вершина ювелирного искусства, весь мир называет его великим русским ювелиром, и он принадлежит России… Есть еще вопросы, или дальше разберетесь сами?
– Я намерена досмотреть альбом.
Сверкнув глазами, Муза выходит.
– Чего она злится?
– Муки ревности. Кстати, о любви и ревности – примечательная фигурка. – Альберт показывает цветную фотографию в книге.
– Эта? Чем?
– Сейчас переведу описание.
Приближаются решающие минуты сделки, и пора «запудрить мозги» клиентке. Альберт открывает книгу на разделе «Комментарии» и читает:
– Изображение цыганки Вари Паниной, хорошо известной своим дивным голосом. Несмотря на редкостно некрасивое лицо, она привлекала многочисленных поклонников в загородный ресторан «Яр». Жертва неразделенной любви к офицеру гвардии, Панина приняла яд и умерла перед гвардейцем на эстраде, исполняя романс «Мое сердце разбито».
– Надо же! – Руднева роняет неопределенный смешок и берет портсигар, который собирается купить. – Он мне нравится, Альберт, но цена невозможная!
– Я предупреждал: Фаберже – это серьезно. Ты взвесь на руке – какая сладкая тяжесть. А работа? Не работа – сон! Удостоверься – проба и клеймо.
Он подает Рудневой лупу, та изучает портсигар. Альберт опять прибегает к «Искусству Фаберже».
– Вот полюбуйся, точно такой портсигар в коллекции леди Таркс. А леди, как известно, это жена лорда. На международном аукционе…
– Я не леди, и мы не на международном аукционе. Так что делим твою цену пополам, и с этой суммы начинаем торговаться.
– Но мы и не на барахолке, дорогая моя!
– Ах, перестань, Альберт, я не маленькая. Что за покупка без торговли!..
На кухне курят и спорят о краже в краеведческом музее.
– Я слышал в другой редакции, – авторитетно заявляет плотный мужчина в очках. – Пришли трое в масках, сторожа связали, директору нож к горлу – и он сам все поснимал и отдал. Полотен пятнадцать, кажется, мирового значения имена!
– Брехня, не верю, – говорит лощеный красавец средних лет, художник Цветков.
– Но, представьте, кто замешан – Кипчак! Его таскают на Петровку!
– Меня тоже вызывали на Петровку, а я ж не замешана, – возражает Муза.
– Тебя вызывали? – подскакивает Тамара. – Музочка, расскажи!
– Нет, просили не разглашать.
Она нетерпеливо посматривает на закрытую дверь спальни.
– А я говорю – брехня! – твердит Цветков. – Знакомый недавно ездил, картины на месте.
– Совершенно верно, – берет слово Томин. – Я объясню, в чем фокус. Все сделал директор – гениальный человек. Сначала он потихоньку заменил картины копиями, давно уже. Потом разыграл липовую кражу для отвода глаз. Утащил эти самые копии и спрятал так, чтобы милиция обязательно нашла. Ну, милиция и нашла. Повесили их назад, все довольны. Вот и выходит, что картины на месте, да только не настоящие!
– И что же, директор сознался?
– Нет. Так и сяк с ним бьются – молчит.
– Учитесь у Саши: не успел приехать с юга и уже все выведал.
– Брехня. Откуда ему?
– Зачем обижаешь? Можно сказать, из первых рук! – с южным темпераментом реагирует Томин. – Со мной в соседнем номере большой юридический чин. Имеет полные сведения. Посидели за столом раз-другой, и он мне доверительно как любителю искусства и надежному человеку. Так что прошу – между нами.
– Стало быть, директора упекли? – спрашивает Цветков и внимательно смотрит в лицо Томину.
– Кто сказал? Гуляет директор. Знать про него знают, а доказать не могут. Того гляди, дело совсем закроют.
– И в какой гостинице живут такие осведомленные люди? – не отстает Цветков.
– Где я, по-твоему, останавливаюсь? В «России», конечно.
Томин сознательно выдает дезинформацию относительно Пчелкина. Что в четверг сказано у Боборыкиных, то в пятницу облетит всю коллекционерскую Москву и, может быть, достигнет ушей того, на кого рассчитано, – так думает он, внешне строго выдерживая рисунок своей роли: простодушное дитя юга с толстой сумой.
Издали на него нацелился Альберт.
– Додик! – зовет он. – Займи даму, благо вы знакомы, – Альберт кивает на Рудневу. – Она мне больше не нужна.
– Бу сделано.
И они расходятся. Додик – к Рудневой, Альберт – на новую охоту.
– Не мерзнешь в Москве? – понибратски хлопает он Томина по плечу.
– Ничего, у нас в горах тоже снег.
– Но внизу тепло.
– Иной раз и жарко.
– Хорошо! Но пить хочется, слушай. Чай небось пьешь.
– Пьем чай. Вино пьем. Коньяк пьем. Мацони пьем. Боржоми пьем. Все, что для здоровья, – все пьем.
– Чашки нужны, слушай. Хочешь антикварный сервиз? Недорого.
– Посуда своя. Хватает посуды.
– Посуда! Посуда – это стаканы-ложки, сковородки. Я тебе фарфор предлагаю. Художественный фарфор Поповского завода. Знаменитейший поповский фарфор! Кого хочешь спроси.
– Нет, посуда есть, – упирается Томин. – Посуду покупать незачем. Вот Сарьяна я бы взял.
– Значит, сервиз не хочешь. А в бильярд играешь?
– Немного могу.
– Молодец, люблю. Айда сыграем: твой урюк – мой сервиз. А потом про Сарьяна поговорим.
Он тянет за собой Томина. Не в пример Боборыкину Альберт действует открыто и беззастенчиво. Поэтому всегда найдется и свидетель и комментатор:
– Наивный человек. С Альбертом в бильярд! Босой по шпалам домой пойдет…
Цветков подкатывается к «приживалке»:
– Тася, узнайте у Додика фамилию этого Саши. Только… – он прикладывает палец к губам. – Я хочу над ним подшутить…
…Гости расходятся с «четверга». У подъезда дома Боборыкиных стоит машина, Томин для вида копается в моторе, косясь на дверь. Оттуда под руку с Додиком появляется Руднева.
– Эге, засел? – говорит Додик. – Ищем запасную свечу. – С серьезным видом он шарит в боковом кармане.
– Свечи целы, подержи фонарик. Тут малюсенький контакт… Оп, и готово. – Томин закрывает капот. – Заднее сиденье, как видишь, занято, но даму подвезу с удовольствием.
Руднева усаживается и оглядывает заднее сиденье, заваленное свертками.
– С приобретением вас!
– Спасибо. Вас по-моему, тоже?
– В общем, да, – чуть замявшись, признается Руднева.
– Чудесно. – Томин трогает машину.
Они катят по вечернему городу и вскоре болтают уже по-приятельски.
– Чуть не забыл! – восклицает Томин и тормозит, немного проехав телефонную будку. – С вашего разрешения, крошечный звонок. Задержался я у Боборыкиных, надо перед одной знакомой извиниться.
В автомате он говорит вполголоса:
– Петр Сергеич? Это я. Спешу. Два слова. Срочно номер в гостинице «Россия». Сегодня я должен там ночевать. И я там уже три дня живу, понял?.. Свяжусь попозже.
* * *
В краеведческом музее все по-прежнему, все так же сквозь высокие окна бывшего купеческого особняка светит случайное декабрьское солнце на две «талановские стены», на парчовые кресла и мраморный столик. Все по-прежнему, и Пчелкин пока тут, только вместо «Инфанты» – пустой квадрат.
Студенты художественного училища разглядывают картины и переговариваются.
– Ну и как? – спрашивает Зыков. – Узнаете свои работы?
– С одной стороны, как будто да, с другой – как будто и нет.
– Я могу сказать, что в основе натюрморт мой, некоторые детали помнятся, мазки. Но он подправлен, и заметно.
– И у меня!
– Да, кто-то по ним лихо прошелся.
– А главное – мы не обрабатывали под старину.
Зыков не обескуражен, такую возможность он предвидел.
– Хорошо, ребята, а если допустить последующую доработку, вы узнаете свои копии? Или сомневаетесь? Вот вы, например?
– Я не сомневаюсь. У меня здесь три облачка, а в подлиннике было еще одно, такое тающее в вышине. Я его писать поленился.
– А вы?
– Мы, конечно, старались, товарищ следователь. Но кое-что все-таки упрощали. Кое-где грешки просвечивают.
– Таким образом, на данный момент в музее находятся сделанные вашей группой копии. Все изменения были внесены кем-то без вашего ведома и уже после того, как деканат зачел копии за курсовые работы. Правильно?
– Правильно, – вразнобой подтверждают студенты.
– Моей копии нет, – выступает вперед хорошенькая синеглазая девушка.
– А что вы копировали?
– «Инфанту с яблоком» Веласкеса.
– Ясно. Вам ясно, товарищ Пчелкин? – адресуется Зыков к директору, уныло подпирающему колонну.
– Мне ясно, но мне до лампочки. Я сдаю дела.
Девушка трогает Зыкова за локоть и отводит в уголок посекретничать.
– Скажите, вот это… что копии дорабатывались без нашего ведома и после сдачи… Это для следствия важно?
– Чрезвычайно важно.
– Тогда я обязана сообщить – с «Инфантой» было иначе…
– Слушаю.
– Понимаете, напросилась я на эту практику, деньги были позарез нужны. Но Веласкес оказался мне абсолютно не по зубам. Никак не давалось лицо, платье… И как-то так вышло, что Антон Владимирович начал мне помогать… В сущности, копия скорей его, чем моя.
– А кто такой Антон Владимирович?
– Наш руководитель практики. Цветков.
* * *
Если бы девушка смолчала, нашлись бы и другие выходы на Цветкова. Но этот оказался кратчайшим. Через несколько дней следователь уже располагал достаточным, как он считал, материалом для допроса.
И вот Цветков на Петровке. Но, против ожидания, довольно хладнокровно сдерживает натиск Зыкова и не дает ему набрать темп.
– Я не стремился руководить практикой, – не спеша объясняет Цветков. – Меня уговорили, потому что от училища некому было поехать.
– Вы собственной рукой вносили поправки в работы студентов?
– В подобных случаях это не принято.
– Значит, не вносили?
– Студенты должны выполнять курсовые самостоятельно.
– Меня интересует, как обстояло дело в данном случае.
– Вероятно, на секунду-две я брался за кисть, в минимальных пределах.
– Вам известно, что украденные картины были заменены копиями, сделанными под вашим руководством?
– Я слышал, что существует такое мнение.
– Вы его разделяете?
Цветков задумывается.
– Нет… Это маловероятно – копии были все-таки ученические.
– В чем конкретно заключалась ваша деятельность в музее?
– Я давал ребятам пояснения, советы и прочие цэ у.
– Ваши отношения с директором Пчелкиным?
– С Пчелкиным? Да так, шапочное знакомство. Раза три покурили, поболтали.
– О чем?
– Что называется, о погоде.
– По утверждению Пчелкина, вы интересовались книгой «Искусство Фаберже».
Снова Цветков выдерживает паузу.
– Да-да, припоминаю, он хвастался.
– И даже хотели ее купить.
– Разве он продавал?
– Я выясняю ваши намерения.
– Не исключено, что я произнес какие-то слова, чтобы ему польстить и доставить удовольствие.
– Кому вы рассказывали о наличии у Пчелкина такой книги?
– Затрудняюсь, чуть не год прошел.
– Девять с половиной месяцев… Я очень утомил вас своими расспросами?
– Ну я понимаю – служба. Если, на ваш взгляд, я способен что-либо прояснить, – пожалуйста.
– Думаю, способны, но, к сожалению, память у вас слаба, товарищ Цветков. Даже забыли, как снимали копию с «Инфанты» Веласкеса.
– Ай-яй-яй! Проболталась, негодница! То-то я чувствую, вы имеете некий камешек за пазухой. Поделом мне, греховоднику. – Тон у Цветкова шутливо-благодушный, и никаких признаков смущения в лице.
– Чем объясняется, что наиболее ценную картину из восьми, заказанных мифическим трестом, взялись писать вы сами?
– Разве суть в картине! Суть в девушке. Вы же ее видели – синеглазую глупышку. Ах, студенточка, студенточка! Эта расцветающая юность, застенчивость… Надеюсь, поймете меня как мужчина мужчину.
Масленый взор Цветкова смущает молодого следователя, и один из «козырных» моментов допроса пропадает зря. Вместо того чтобы подчеркнуть и зафиксировать, что «греховодник» уличен во лжи, Зыков перескакивает к следующему пункту:
– Говорят, вы участвовали в передаче копий заказчику.
– Я?! – вздрагивает Цветков. – Это кто же говорит?
– Вахтерша училища.
– Глуха, бестолкова и вечно порет чушь.
– Вахтерша видела, как вы разговаривали с шофером, который выносил картины. И потом вместе с ним уехали.
– Вранье. Я слышал, шофера присылали под вечер, так что и его-то мало кто видел. А тетка Настасья сумела углядеть меня. Так-таки прямо и заявляет, что видела?
– Нет, – неохотно признается Зыков, – нетвердо. Говорит, «кажется».
Цветков облегченно смеется.
– Если б это было твердо, а не «кажется», я бы здесь у вас давно сидел. И не в качестве свидетеля.
– Еще ничего не потеряно, товарищ Цветков, можно наверстать. Чем вы объясните, что во время руководства практикой не жили в гостинице, хотя для вас бронировалось место?
– Если б такой вопрос задала жена, пришлось бы врать и выкручиваться. Вам отвечу честно – предпочитаю ночевать не один.
– У кого вы останавливались? Кстати, и в прежние приезды, до практики – тоже?
– Не отвечу, так как замешана женщина.
– Ваши отношения с женщинами следствие не интересуют, товарищ Цветков. Вы жили на квартире рабочего той самой котельной, где были сложены картины после кражи!
– Вас совсем не интересуют женщины? – нагло изумляется Цветков. – От души сочувствую.
– Оставьте, пожалуйста, подобный тон, – внутренне кипятится Зыков. – Что общего у художника с пропойцей-кочегаром, ранее судимым за разбой? Посчитать это за простое совпадение весьма трудно.
– Разумеется, между нами ничего общего. Но его сестра… Да, я художник, и, что касается женских прелестей… в противоположность вам, дорогой товарищ следователь, я не в силах себе отказать. Вообразите – этакая кустодиевская красота, огненный темперамент, линии тела, как у…
– Товарищ Цветков, я жду ответа на конкретные вопросы!
Но Цветков отлично нащупал «слабинку» Зыкова: тебя коробят фривольные темы? Ну, держись!
– Нет, позвольте уж договорить, вы же допытывались! Я писал Марусю. Естественно, обнаженную. Модель, от которой у самого Рубенса потекли бы слюнки! В косом солнечном свете, когда все так выпукло и рельефно, когда округлости и изгибы трепещут… Не понимаю, право, что вас вгоняет в краску, мы же взрослые люди… Словом, Маруся великолепна. В любое время дня и особенно ночи. А кто ее брат – кочегар, самовар, хоть сивый мерин – мне безразлично!
– Я запишу ваши показания, – пасует Зыков. – Все существенное будет проверено.
* * *
У себя в кабинете Томин разговаривает по внутреннему телефону:
– Что?.. Пусть позвонит мне ночью в гостиницу. Он смотрит на часы и включает электрический чайник. Звонит другой аппарат – междугородный вызов.
– Да… Олег? Привет. Слушаю… Ясно. Ясно… Как и следовало ожидать… Но Цветков был в городе в день кражи?.. Постарайся, братец, постарайся. Кстати, следи, не появится ли он снова. И еще один вопрос: сестра кочегара, ее отношения с Цветковым.
Входит всегдашний помощник Томина – Аркадий.
– Саша, тобой интересовались в гостинице.
– Да ну?!
– Сегодня у дежурной справлялись. А у коридорного на этаже выясняли, живет ли рядом «юридический чин».
– Значит, сработал боборыкинский четверг. У кого-то там, стало быть, рыло в пуху! Передай спасибо Петру Сергеичу.
Томин отыскивает в записной книжке номер и звонит по городскому телефону.
– Добрый день, Сергей Рудольфыч. Извините, как всегда спешка, а вы сегодня работаете… По поводу книги вестей нет?.. Та-ак. И давно?.. У-у, отпадает. Я ищу ту, что появилась недавно… Да, у Боборыкиных есть, слышал. А у них когда?.. Вот и я не знаю. Скажите еще, Сергей Рудольфыч, вы видели две вещи Фаберже, их происхождение известно?.. А пресс-папье?.. Через старшего?.. Ах, через Альберта. Это любопытно, может пригодиться. Спасибо вам и всего хорошего, отдыхайте.
Томин оборачивается на голос Кибрит. Та вводит приземистого мужчину лет шестидесяти.
– Профессор Балиев. Крупнейший специалист по драгоценным металлам и по истории ювелирного дела.
Томин и Балиев знакомятся, обмениваются первыми общими фразами. Кибрит, заслышав свист чайника, достает кофе, открывает шкаф и восхищенно ахает:
– Откуда у тебя такая посуда?
– Это, Зинаида, не посуда. Это поповский фарфор. Я его выиграл в бильярд при исполнении.
– Шу-урик!
– Не было выхода.
Томин юмористически рассказывает о ситуации, в которую попал. Он обязан был выиграть – иначе плати деньги. А где взять инспектору три тысячи?
Гости смеются.
– Я просто не умею так играть, как я эту партию сыграл!.. Подал начальству рапорт – не знаю, что с этим выигрышем решат. Пока попользуемся.
Кибрит с удовольствием расставляет красивые чашки и заваривает кофе.
– Геннадий Осипович, я в пожарном порядке должен быть подкован по теме «Фаберже».
– Биографические данные? Творческий портрет?
– Нет, общие сведения.
– Карл Фаберже держал мастерскую в Петербурге – примерно с середины прошлого века, позже – в Одессе и Москве: Кузнецкий мост, 4. Фаберже был главой фирмы и, так сказать, ее художественным руководителем. Материалы использовались самые разнообразные: металлы, эмали, дерево, камни – от драгоценных до поделочных Ассортимент изделий перечислять бессмысленно, потому что Фаберже был мастером единичной вещи – двух одинаковых предметов из его мастерских не выходило.
– Одинаковых не было? – настораживается Томин.
– Нет. За исключением наградных портсигаров, которые делались по правительственным заказам в годы первой мировой войны. Некоторое время существовали филиалы фирмы в Париже и Лондоне. Отсюда лондонское издание книги Сноумена «Искусство Фаберже», отсюда и нынешняя мода на него – перекинулась к нам из-за границы. Впрочем, он вполне заслуживает своей славы… Что-нибудь почерпнули?
– Почерпнул. Стало быть, портсигары делались стандартными?
– По двум образцам, – офицерские и солдатские.
– А книгу Сноумена вы видели?
– Да, это богато иллюстрированный искусствоведческий и биографический очерк. В ведущих библиотеках она есть.
– А у частных лиц?
– Возможно.
– Так. Какова цена на изделия фирмы в сравнении с другими из того же примерно материала?
– Даже сравнивать трудно, цены астрономические. Еще вопросы?
– Пока все, профессор.
– Если набегут, Зинаида Яновна даст мой телефон. – Он встает. – Спасибо за кофе. Между нами: сервиз не поповский. Был такой промысел – подделка русского фарфора.
– Подделка?
– Прошу прощения, если огорчил.
– Ничуть. Напротив… Мне «зашла в голову мысль»… Еще одну секунду – как определяется принадлежность вещи Фаберже?
– Для профессионального глаза – это прежде всего безупречность, почти фантастическая безупречность изделия со всех точек зрения. Рассказывают, что старик Фаберже обходил по утрам мастерскую с молоточком и, если замечал малейший изъян, вдребезги разбивал вещь. На любой стадии работы. Ну, а вообще принадлежность определяется по клейму. Оно встречается в различных вариантах: «Фаберже», «К. Фаберже», просто инициалы «К.Ф.». Для вещей на вывоз употреблялся при этом латинский шрифт. Но тут уже начинаются тонкости для гурманов. И, наконец, доказательством подлинности являются фирменные коробочки.
– То бишь упаковка? Неужели они сохранились?
– В хороших руках сохранились. Ну, мне пора.
Он прощается, уходит. Томин в задумчивости вертит чашку.
– Значит, мне всучили лимпопо… Большое спасибо за профессора, Зинуля.
– А почему «лимпопо»?
– Погоди, не сбей смысли… – Томин набирает номер. – Алло, Сергей Рудольфыч?.. Снова я, что приобретает уже хронический характер. Два слова: те вещи, о которых мы говорили, – они были в коробочках?.. А пресс-папье – нет?.. Все. Еще раз до свидания.
Кладет трубку, подпирает щеку кулаком.
– Как мне быть, да как мне быть… В бильярд Фаберже не выиграешь, купить не могу, время жмет… Зинуля, кипяток остался? Налей-ка еще. Что воды в рот набрала?
– Сам же велел молчать.
– Слушай, есть безумная идея. Что, если я попрошу задержаться попозже вечером и подыграть мне в маленьком спектакле?
– Хорошо попросишь – соглашусь. А в каком?
– По жанру это будет водевиль. Конечно, при условии, что начальство позволит.
* * *
Поздним вечером на Петровке, когда из лифта выходят Томин и Руднева, в пустынных коридорах нет никого, кто бы мог сказать: «Привет, Саша» или «Добрый день, товарищ майор». Спокойно можно чувствовать себя «Сашей с юга».
– Мы люди доверчивые, – говорит он, размашисто жестикулируя. – Но гордые. Покупаем настоящую вещь – не торгуемся. А хотят обмануть – из-ви-ни-те!
– Правильно, Саша! – воинственно поддерживает Руднева.
– Я за сервиз не обижаюсь, ладно. Но где один раз надули, там и второй раз могут, правильно?
– Еще как!
– Поглядел я на ваш портсигар и загорелся два заказать. Себе и старшему брату. Хоть я человек не бедный, однако это уже сумма!
– Я тоже не нищая, но такие деньги на ветер кидать – пусть другую дуру найдут!
Томин стучит в дверь:
– Кажется, сюда.
Слышен голос Кибрит: «Входите».
Они входят в криминалистическую лабораторию.
– Ты слишком долго ехал, милый. Я уже начала ревновать. – Кибрит окидывает Рудневу «женским» взглядом. – Здравствуйте. Меня зовут Зина.
Руднева энергично пожимает протянутую руку.
– Альбина.
Томин осматривается: батюшки, сколько тут всяких мудреных приборов! – написано на его лице.
– Значит, здесь ты и работаешь? – восхищается он.
– Присаживайтесь, Альбина. Что стряслось?
– Понимаете, приобрела портсигар Фаберже. Клеймо есть, вроде все на месте… – Она показывает Кибрит портсигар. – Но напало сомнение: вдруг что не так? Саша сказал, вы можете проверить.
– Давайте подумаем… Время обработки металла выяснить несложно. Попрошу девочек – проведут спектральный анализ. Я только возьму соскоб.
– А вещь не попортится?
– Нет, нам требуются буквально пылинки. Но как быть с проверкой клейма? Его ведь надо сравнить с подлинным.
– Зинуля, Фаберже есть в музеях.
– В Эрмитаже, в Историческом и Оружейной палате, – бойко цитирует Руднева.
– Тогда не проблема. Делаем фотографию клейма с вашего портсигара и сличаем с оттисками на музейных вещах.
– Академик! – восклицает Томин. – Лобзаю тебя!
Кибрит едва сдерживает смех.
– Шурик, перестань!
– Альбиночка не осудит.
– Чего там, дело житейское, – снисходительно улыбается Руднева.
– Если опасаетесь за него, – говорит Кибрит Рудневой о портсигаре, – пойдемте, будете присутствовать.
– Н-нет… уж понадеюсь на вас.
Кибрит уходит в смежное помещение.
– Сделает? – спрашивает Руднева, не спуская глаз с затворившейся за Кибрит двери; хоть и решила понадеяться, а сердце не на месте.
– Как в аптеке! – заверяет Томин. – Она каждый год отдыхает у нас на юге, в меня – по уши.
– Ну, если фальшивый, я ему устрою! Вселенная у него, видите ли, расширяется! Так сужу – с овчинку покажется!
* * *
– Добрый вечер, Зинаида, – входит Томин в лабораторию. – Вероятно, я вчера выглядел несколько?..
– Искупается результатом, – улыбается Кибрит.
– Да? Чем порадуешь?
– Ну, во-первых, серебро: переплавляли его от силы месяц назад.
– Красиво! «Мадам стройматериалы» получила портсигарчик с пылу с жару!
– Что она предпримет, когда узнает?
– Подождем сообщать, всех распугает… Ну, Зинаида, ты мне сдала очень крупный козырь!
– А про клеймо не желаешь послушать?
– Напиши заключение для следователя. Мне ситуация ясна.
– Не так все просто, как воображаешь. На портсигаре сегодняшнего изготовления стоит подлинное клеймо фирмы. Одно из старых московских.
Томин присвистывает:
– Ни малейших сомнений?
– Ну посуди, можно имитировать изгиб шерстинки, попавшей в заливку клейма? Или расположение крошечных воздушных пузырьков в букве «Ф»?
– Нда… Прелюбопытное разматывается дело!
* * *
А у полковника Скопина ход расследования вызывает сомнение.
– Вы не забыли, что ведете дело о краже картин? – замечает он, слушая доклад Зыкова. – Я слышу только о Фаберже.
– Надеюсь кружным путем прийти все-таки куда нужно. Если по дороге обнаруживаешь еще одно преступление, трудно закрыть глаза, товарищ полковник.
– Закрывать не надо, но держите в уме и главную цель.
– Уперся я в Цветкова и застрял. Хотя уверен, что он замешан, тем более что имел неприятности по линии фарцовки.
– Давно?
– Давно. Но контакты с иностранцами могли остаться.
– Томин видел наконец у Боборыкиных пресловутый лондонский фолиант? Краденый он или нет?
– Пока не выяснено, товарищ полковник. Томину обещали портсигар. При продаже, он думает, покажут книгу, и тогда он убедится.
– Ну хорошо. Я прервал вас на повести об исторических изысканиях. Продолжайте.
– Мы нырнули на шестьдесят лет назад. Удалось восстановить некоторые судьбы и разузнать кое-что про клейма. Одно, например, похоронено. В буквальном смысле – по желанию мастера было положено с ним в гроб. Еще одно сгинуло: в той семье война всех подобрала, а дом в сорок втором сгорел от зажигательной бомбы. Но повезло: нашли! – Зыков торжественно опускает ладонь на папку с делом.
– Что или кого?
– Дочку мастера, который перед революцией практически возглавлял московское отделение фирмы. Старушка говорит: цело клеймо. Отцова, говорит, память, разве я выкину? Начала искать, все перерыла – нету. Спрашиваем, когда она его последний раз видела. Говорит, давно. Тогда спрашиваем, не интересовался ли кто вещами после отца? Кому она их показывала? Раньше, говорит, жил по соседству хороший человек, понимающий, вот он интересовался. А теперь вовсе не с кем стало про старину поговорить. Мы намекаем: не он ли, мол, «того»? Старушка руками машет: «Что вы, редкий был человек». А звали того человека, товарищ полковник, Боборыкин Анатолий Кузьмич!
– Увлекательно. Но что тут служит доказательством? К одной старушке ходил один старичок. У старушки пропала печать. Похоже, старичок стащил. Если действительно он, то он же стянул и картины из музея. Так?
– Но при его широчайших связях, товарищ полковник, при финансовых возможностях он как раз годится в руководители крупной аферы!
– Годится – не значит является. Кто он в прошлом?
– Томин выехал в Ленинград. За прошлым Боборыкина.
* * *
– Моих нет, – предупреждает Муза, впуская в квартиру Кима.
– Вот и хорошо, я к вам, – потирает Ким озябшие руки.
– Ты опять бросил работу?
– Не могу я учителем рисования!
– Ишь! Алик может учителем, а он не может. Чайку вскипятить?
– Только демократично, на кухне.
Пока Музы нет, Ким вынимает и ставит на виду небольшую серебряную фигурку.
Возвращаясь, Муза замечает ее еще с порога.
– Что это?!.. – Она поспешно берет фигурку, осматривает и ощупывает – нет ли клейма. – Ох, даже напугал – почудился новый Фаберже!.. Твоя?
– Моя. Купил немного серебряного лома и поработал наконец в свое удовольствие. Как?
– Очень неплохо, Кимушка. С фантазией и со вкусом. С большим чувством материала. Приятно посмотреть.
– И только?
– Чего же тебе еще?
– «Приятно посмотреть»… Если на то пошло, это – выше Фаберже!
– Ну-ну, не заносись в облака, – смеется Муза.
– Да будь тут проклятый штамп – вы бы рыдали от восторга!
– Слушай, не строй из меня дурочку. – Муза достает пепельницу-лягушку и ставит рядом с фигуркой Фалеева. – Гляди сам. Сравнивай. Тебе не хватает школы, не хватает стиля, аромата эпохи. – Она оглаживает пальцами обе вещи. – И на ощупь совсем не то. Нашел с кем тягаться!
– Я-то ждал… – медленно, с надрывом говорит Ким. – Я-то вам верил, как оракулу… больше, чем себе! Где ваши глаза, Муза Анатольевна? Чем Фалеев хуже Фаберже?!
– Ну-у, наехало. Кто велит верить мне, как оракулу? В искусстве есть один непогрешимый судья – время.
Ким начинает нервно и беспорядочно метаться по комнате.
– Это я слышал, слышал. Естественный отбор – только посмертный. Надо, чтобы косточки твои сгнили, тогда человечество спохватится: был на свете большой художник Ким Фалеев. На шута мне посмертная слава, если сегодня я имею кукиш?
– Не нужна – не бери, – уже сердится Муза.
– Нет, возьму! Но возьму, пока живой! Искусствоведы обожают писать: «Умер в нищете и безвестности». Не желаю подыхать в безвестности на радость будущим искусствоведам!
Он хватает фигурку и срывается вон, только грохает входная дверь.
* * *
Вдруг как-то неожиданно в деле наступает перелом. Хотя начинается знаменательное утро с события не столь уж впечатляющего.
Когда Зыков возил студентов на опознание копий, с ним непременно пожелали встретиться члены общественного совета музея – они горели стремлением помочь следствию. Зыков и думать о них забыл, а они дали о себе знать по междугородке. Оказывается, объявили собственный розыск, списались с любителями живописи и выяснили, что Плющевскому музею предлагали купить две картины. Копии того Врубеля и Венецианова, что были перевешены Пчелкиным и уцелели.
– Те, что ворам не пригодились? – уточняет Зыков.
– Ну да. Предлагали письменно из Москвы. От имени Боборыкина. Прикрылись уважаемой фамилией, понимаете?.. Письмо? Нет, не сохранилось, так как музей отказался, нет средств… За что же спасибо? Это наше кровное!
* * *
Возвратившись в Москву, Томин в форме и с объемистым портфелем выходит из здания Ленинградского вокзала. Идти недалеко: вон уже знакомый шофер из Управления машет рукой от машины. И надо же тому случиться: в это время здесь оказался Цветков. Бесцельно скользнув взглядом по широким вокзальным ступеням, он обомлел: Саша с юга в милицейской фуражке!
Отъезжает машина, увозя Томина, Цветков бросается звонить. У Боборыкиных не берут трубку. Он стоит в будке и слушает длинные гудки, осмысливая размеры катастрофы.
У Боборыкиных некому подойти к телефону: Муза на работе, Альберт – тоже, а старик Боборыкин… сидит в кабинете Зыкова.
– Долгонько мы с вами болтаем о том, о сем, молодой человек, – произносит он неприязненно. – Да, бывают коллекционеры такие, бывают сякие. И художники бывают такие, сякие, пятые и десятые. Ваши вопросы не содержат ни малейшего криминального уклона. Между тем меня пригласили в качестве свидетеля. Позволю себе спросить: свидетеля чего? Чем Ван Дейк отличается от Ван Гога?








