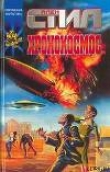Текст книги "Жук золотой"
Автор книги: Александр Куприянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Мы выпили по рюмке. Поликутин был воинствующим трезвенником во все времена. Бутылку, как я понял, он держал для гостей. А тут не выдержал. Приложился вместе со мной. Важный вопрос решали.
Возразить Ивану Марковичу мне было нечего. Сами виноваты.
Мама, тогда уже председатель Иннокентьевского сельского совета, выбрала место для нового кладбища. Место называлось гектар. Огромное поле, по краю лес, в котором росли белые грибы. Именно здесь и находились тайные плантации известных деревенских грибников Адольфа Лупейкина и моего отчима, Иосифа Троецкого.
Там они и лежат теперь. Все вместе. Отчим, Лупейкин, Хусаинка, Женька-жопик, моя мама и Поликутин Иван Маркович.
Снести кладбище на гектаре я уже не позволю никому. Даже если нынешний Восточный рыбокомбинат, образовавшийся в деревне вместо рыболовецкого колхоза «Ленинец», надумает строить атомную станцию.
Кресты, ограды и памятники – все на месте.
А белые грибы в том лесу растут по-прежнему.
Я проверяю каждый год.
Я сажусь на крыльце дома Славы Мангаева – сына Хусаинки, ставлю перед собой ведро и чищу белые.
Да их и чистить-то по большому счету незачем.
Боровик к боровику – без червоточинки.
Чистейшие грибы.
Не знаю, растут ли где-то еще такие.
Отчим
Мой отчим Иосиф Троецкий был человеком с большими причудами.
У него, как говорят сегодня, сносило крышу. Когда он не пил, он так же, запоем, читал книги, знал и пересказывал наизусть лучшие фильмы, был отменным грибником, соперничая по этой части лишь с одним мужиком в нашей деревне – человеком с выразительной фамилией Лупейкин. И не менее выразительным именем Адольф.
Нетрудно догадаться, какие клички давали в нашей деревне Лупейкину.
Еще мой отчим обладал удивительной способностью. Он не боялся собак. Взглядом останавливал самую злобную. И собаки как бы признавали его за вожака своей стаи. Отчим, особенно когда был трезвым, обещал научить меня умению не бояться собак. Но все ему было как-то недосуг.
Теперь, вспоминая его, я думаю о том, что Иосифу не хватало в жизни радости. А кому ее тогда хватало?
Однажды Иосиф стал позиционировать себя охотником.
Ближе к вечеру он опоясывался патронташем, перекидывал через плечо двустволку – очередной дробосрал, который он выменивал на пару бутылок водки, а на голову водружал шляпу с узкими полями и перышком. Я не знаю, откуда в нашей деревне могла взяться шляпа тирольского стрелка.
В таком виде он шел на заболоченную марь, расположенную между берегом реки и сопкой, на которой раскинулась наша деревенька. Прямо за домом Мангаевых. Там он сооружал засидку в камышах. Мама посылала меня звать отчима на ужин. Я возвращался один.
– Ну, что? – спрашивала мама. – Сидит?
– Сидит, – отвечал я.
– Комары жрут?
– Жрут!
– А что говорит?
– Говорит, что он какой-то Тартарен из какой-то Тарасконы.
Мама хохотала.
Она давала читать Иосифу книги больших писателей. С мировыми именами. Мама повышала начитанность своего нового мужа. По всей вероятности, Альфонс Доде и его бессмертный «Тартарен из Тараскона» входили в обязательный курс повышения интеллигентности. Позже, учась на филфаке, я прочитал роман и понял творческий замысел Альфонса. Отчим меня шокировал. Неужели Иосиф сам над собой иронизировал? Может, он просто не понял романа? Ведь образ Тартарена, враля и бездельника, сатирический!
Деревенские мужики относились к промыслу вообще и к охоте на водоплавающую птицу в частности, как к занятию серьезному. И, конечно, они, занятые уходом за скотиной, сенокосом, рыбалкой, заготовкой дров – в зависимости от сезона, не могли позволить себе каждый вечер сидеть в камышах у деревни, слушать кваканье лягушек и подливать в оловянный стаканчик из солдатской фляжки.
Стаканчик был очень ловкий, фляжка – пузатая, а кроме лягушек, на этом болоте ничего не водилось.
Такую вольность в занятиях мог себе позволить только киномеханик. Иосиф считал себя гуманитарием. Ни поросенка, ни овцы, ни коня, ни другой живности, кроме куриц, на нашем дворе я не припомню. Только однажды, кажется, мы держали корову и поросенка, которого звали, конечно, Борька.
Наутро в заводи у дебаркадера «Страна Советов», где шла подготовка к кетовой путине, – перебирались сети, проверялись моторы, мужики осторожно интересовались:
– Ну что, Ёська, добыл вчера утку?
Осторожно, потому что знали нрав моего отчима. Заподозрит насмешку – может и драться полезть. Характер Иосиф имел непредсказуемый. Особенно по пьяному делу или когда маялся с похмелья.
Но вопрос отчиму нравился. Он с важным видом отвечал:
– Подстрелил двух крякашей! Ушли подранками. Собака нужна – лягавая…
В нашем доме жила овчарка по кличке Клык.
Пограничники с Нижнеамурской заставы заехали как-то на своем катерке в деревню. За мылом, хлебом, пряниками, тушенкой и конфетами-подушечками. Других товаров в сельпо не водилось. Еще были шоколадные – «Ласточка».
Зато всегда стояла большая бочка водки в розлив, из которой продавец дядя Ваня Злепкин поил всех жаждущих. Для похмельных мужиков существовала отдельная очередь. Водку разливали по стаканам специальным черпачком, на длинной ручке. Сто грамм и «Ласточка». Вот вам и радость.
Погранцы отстояли очередь к бочке, быстро отоварились и легли обратным курсом. То есть обратным курсом лег их катерок. А погранцы, как всегда, высматривали в окуляры бинокля нарушителей границы. Где они их видели, я не знаю. Китай и Япония от нас далековато.
Каким-то образом их щенок (молодая овчарка) выпрыгнул за борт и приплыл на берег. Видимо, пограничники вовремя не спохватились, а потом не стали возвращаться. Подобрал щенка мой отчим.
Кобелька, за мощные лапы и широкую грудь, за торчащие уши и благородный палевый цвет, он назвал Клыком, в духе джек-лондоновских рассказов. Все-таки литература играла заметную роль в жизни Иосифа. Альфонса Доде со счетов тоже не сбросишь.
Говорят, что со временем собаки становятся похожими на своих хозяев. Но овчарка не повторила дурного характера киномеханика.
Клык был собакой доброй и отзывчивой. Шел к любому человеку. За что и поплатился. Пьяные нивхи, местная народность Нижнего Амура – мы их тогда называли гиляками – подманили красивого пса, убили. А из мяса сварили похлебку. В те времена аборигены-нивхи еще ели собачье мясо, оно входило в их традиционный рацион и не вызывало особенных вопросов русских пришельцев, завоевателей Нижнего Амура. Не знаю, как сейчас.
Иосиф очень горевал, когда узнал о гибели нашего пса. Горевал он привычным для него способом – пил. Понять его было можно. Верность овчарки была потрясающей. Когда отчим пьяный валялся на диване, Клык ложился в ногах и грозным рыком предупреждал каждого, кто пытался приблизиться. Иосифу совсем не обязательно было для охраны собственного тела втыкать нож-финку в табуретку. Или метать ее в бревенчатую стену. Тем не менее, он это делал регулярно. В смысле, экспериментировал с финкой.
Клык охранял его везде, где бы отчим ни упал, устав от алкоголя. А падал он не только на диван в доме, но часто и просто на галечный берег. Он также любил засыпать в трюмах старых кунгасов и под перевернутыми кверху днищами лодками. Хотя морского волка, в отличие, скажем, от того же охотника, он из себя никогда не изображал.
Мне казалось, что Иосиф вообще моряков недолюбливал. В частности, моего папашу, капитана. В свое время отец ушел от нас в другую семью. Я всегда от кого-то знал (наверное, от Лупейкина), что в порту Маго-Рейд, в нескольких километрах от нашей деревни, у меня есть сестренка по имени Людка. Сестренка по отцу. Матери – разные.
Итак, Тартарену потребовалась собака-охотник. Очень скоро она появилась. Иосиф привел на поводке крупного щенка, месяцев трех или четырех, неизвестной породы. Щенок был очень смешной. Во-первых, он был рябой. То есть его туповатую по-бульдожьи мордочку украшали пятнышки рыжего цвета. При желании их можно было бы назвать веснушками, но не уверен, что сравнение собачьей морды с человеческим лицом будет корректным. Сам сóбак (его все время хотелось называть не собакой, но сóбаком) был серо-пепельной масти.
Во-вторых, по первой же команде он с готовностью садился, поджимая хвост, склонял голову и внимательно смотрел на того, кто ему команды отдавал. Одно ухо щенка торчало вверх, как у летучей мыши, другое просто болталось. А хвост, в желании немедленно исполнить волю хозяина, начинал неистово колотиться о крашеный пол или о галечный берег. В зависимости от места, где Иосиф ставил свои кинологические опыты. У него даже появилась книга-учебник по кинологии – науке дрессировать собак.
Насколько я помню, ни одной команды щенок выполнить не мог. Или не хотел? Он тыкался в ноги и руки своего дрессировщика, вилял хвостом и умильно улыбался.
Вот именно что улыбался.
Опять некорректно.
Но что иное, если не улыбку, изображал мой щенок, сузив глаза, растянув мордочку и прижав уши к голове?
Мы никогда не можем сказать про кошку, что она улыбается. Ластится – да. Но улыбается?! Зато собаки улыбаться умеют. Я редко встречал собак неулыбчивых. Даже бультерьер-убийца изображал некое подобие улыбки на своей безобразно-розовой морде, когда к нему приближался человек с ошейником, унизанным шипами. Я видел это сам.
Очень скоро стало ясно, что щенок совершенно бестолковый и не расположен к тренировкам. Когда же он ни с того ни с сего вдруг радостно задрал ногу и помочился на полуботинки Иосифа, отчим презрительно пнул его и сказал:
– Какой-то он… Цабэрябый! Не будет толку. Обмочил все мои баретки.
Мужские туфли тогда называли баретками. Но вот почему отчим назвал щенка Цабэрябым, понять трудно до сих пор. «Рябый», наверное, все-таки от того, что мордочку щенка украшали то ли оспинки, то ли веснушки, из которых росли мягкие и длинные волосины. Со временем на нижней челюсти мордочки Цабэрябого отросла бородка. Приставка «цабэ», по всей вероятности, обозначала уровень презрения Иосифа к незадачливому кобельку. Позже я узнал, что существует такая фамилия – Цабэрябый. Такая же, как Иванов и Сидоров. Ничего специального или особенного.
Сам отчим стал называть щенка Ссыкуней. На коленях, с тряпкой в руках, я ползал по всему дому перед приходом Иосифа. Но он все равно находил следы буйного характера щенка, оправдывающего свою неблагозвучную кличку.
Отчим оставил всякие попытки превратить Цабэрябого в Лягавую. Иосиф стал равнодушен к щенку.
Целыми днями Цабэрябый гонял с нашей ватагой по улицам, задирался на ленивых летом гиляцких нартовых собак, охотно бежал по тропинке к Шпилю, у подножья которого мы ловили касаток и жгли свои костры. С радостным лаем он бросался за мной в воду. И очень скоро я заметил особенность в характере пса. Из воды он пытался вытолкать меня на берег. Он как будто чувствовал опасность быстрого течения у отвесной скалы и всякий раз хотел спасти меня от гибели. Он царапался, толкался лобастой головой и отчаянно лаял.
Цабэрябый выбрал для себя вожака. Вожаком для него стал я.
Очень скоро мы стали называть его Цапкой. Нападая на мальчишек, щенок мог цапнуть за ногу или за руку, но делал он это, как бы намечая укус и не стараясь прокусить тело до крови.
Летом я спал на сеновале, под крышей дома, оборудовав там постель и то, что пацаны всего мира называют штабом. Моим штабом было некое подобие морского кубрика. Ведь я мечтал стать моряком. Отчетливо помню, что я не хотел идти в киномеханики. Хотя отчим достаточно часто брал меня с собой в кинобудку и учил запускать установку «Украина». Нужно было крутануть ручку, лента начинала трещать, и на белом полотне экрана двигались, целовались, стреляли друг в друга фигурки человечков.
В моем штабе висела карта речных лоций Амурского лимана, найденная в бумагах, оставшихся после ухода отца. Имелся настоящий штурвал с потрескавшимися, но отлично отлакированными ручками, для того чтобы перехватывать колесо, когда звучит команда «Лево на борт!». Или наоборот – «Право руля!» Штурвал крепился к рулевой колонке, ее заменял обыкновенный брус, прибитый к стропилам крыши. Вообще же стропила, облепленные паутиной, почерневшие от времени – избу срубил еще мой дед, могли при достаточном воображении сойти за шпангоуты пиратской шхуны. Мы таким воображением обладали.
Команду в штабе-кубрике мне мог отдавать только один человек – Хусаинка, дружок-чеченец. Мы оба имели наколки маленького якоря на правой руке. Наколки нам делал Адольф Лупейкин. Штурвал для нас тоже добыл он. Штурвал был скручен со старого (рваная пробоина в днище) колхозного катерка с непонятным названием «Квадратура». «Квадратура» доживала свой век на косе, недалеко от болотца, куда Иосиф ходил охотиться.
Теперь – Лупейкин.
Адольф имел два прозвища. Одно, разумеется, Гитлер, а второе – Залупейкин. Последнее касалось не только его фамилии. Адольф Пантелеевич портил деревенских девок и был грибником-асом. В тайге и на дебаркадере все и происходило. Он как бы совмещал полезное с приятным.
Адольф Лупейкин, выпив бутылку дешевого вина, рассказывал, как он в молодости служил матросом на парусно-моторной шхуне «Товарищ» вместе с моим отцом и как нужно обращаться с женщиной, когда остаешься с ней один на один.
Со временем в моем штабе появился настоящий компас. На тумбочке лежала фуражка с морским «крабом» и дубовыми ветками, которые назывались «капустой», часы «Мир» – золотые, на браслете, и кортик с туповатым лезвием. Вещи остались от моего отца-капитана.
К тому времени, когда создавался штаб на чердаке, отца уже не было в живых. Он неожиданно умер в море, неподалеку от порта Де-Кастри. Он умер на судне, которое называлось «Шторм». Его вещи передала мне по наследству отцовская вдова. Его вторая жена, которую я до сих пор, теперь уже в воспоминаниях, называю мамой Диной. Я уже знал тогда совершенно точно, что взрослые мужики уходят к чужим тетенькам. А случается и наоборот: мамы выходят замуж за чужих дяденек.
На крышу нашего штаба вела достаточно крутая лестница, которую мы с Хусаинкой называли штормтрапом. А как еще по-другому могли мы ее называть?! Цапка непременно хотел быть третьим участником игрищ на чердаке. Он бегал вокруг дома, прыгал на стены и звонко лаял. Наконец, визжа от страха и дрожа всем телом, песик забирался по узкой лестнице на сеновал. Назад его приходилось спускать на руках. Потому что собаки могут спускаться по лестницам только мордой вперед. И вот здесь он бы точно кубарем сыпанулся вниз.
Цапка быстро подрастал и превращался в упитанную собаку-подростка. Спускаться с ним по лестнице было тяжело. Но он покорно затихал на руках, понимая важность операции.
Очень скоро пришли беды. Цабэрябый раздражал Иосифа своим бесконечным, отчим считал – не мотивированным, лаем. По поводу и без повода. Подрастающий щенок приобрел дурную привычку писать на обувь и вещи Иосифа. Мама говорила отчиму:
– Ты бьешь его, а он тебе мстит. Он ссыт в твои ботинки.
Наверное, мама говорила как-то по-другому.
Она никогда не то что не материлась, но даже и не произносила обиходных в деревне слов. Мама не пила вина и водки. Матрена Максимовна строго воспитала свою дочь.
Еще до революции родители и родственники Матрены, всем своим сектантским кагалом, сбежали на Дальний Восток. Они хотели молиться не доскам с намалеванными ликами, а Богу, который был у них у каждого в душе.
Ведь Бог должен быть в душе у каждого? И посредники в золоченых рясах истинному верующему не нужны. Вот как ставила вопрос моя бабка Матрена, Старшая в вере Сестра.
Я знаю точно, что моя мама баптисткой не была. Но она и не вступала в ряды коммунистов. Даже когда стала председателем сельского совета.
Просто баптисты, кажется, умели воспитывать своих детей в опрятной строгости. Идеологическая разборчивость в вопросах веры, как мы помним, отличала этих людей со времен «проклятого царизма». Так говорил нам в школе Иван Маркович Поликутин на уроках начавшейся еще в пятом классе истории – «проклятый царизм». Мне становилось сразу непонятно, почему царизм должен быть обязательно проклят? Кем? Пролетариатом и трудовым крестьянством? А некоторые, что тоже стало ясно из истории, царизм любили. Например, те же кулаки и белогвардейцы. Или адмирал Невельской, мой кумир, вместе с адмиралом же Колчаком. Не говоря об антоновцах, поднявших крестьянский мятеж. Но я остерегался так остро ставить вопрос о царизме перед Поликутиным. Потому что, во-первых, он был директором школы. И я его побаивался. Во-вторых, вы помните, Карл Маркс я писал тогда через черточку. В-третьих, у меня уже был пример подобной – острой, в свое время – постановки вопроса бабкой Матреной. И чем все у них там закончилось, мы хорошо помним. Пришлось убегать к черту на кулички. На край, по существу, земли. Мне убегать было просто некуда. Только разве что на Сахалин.
Вообще конек Ивана Марковича – тема рабов и их угнетателей. От него я узнал о борьбе американских индейцев с испанскими захватчиками. С воодушевлением романтические рассказы об ирокезах и апачах я передавал Адольфу Лупейкину. Лупейкин ехидно улыбался и подбивал нас с Хусаинкой задать Поликутину вопрос о местных аборигенах-нивхах. И русских во главе с моим героем капитаном Невельским, захвативших Амур и поработивших малые народы, заселявшие берега великой реки. Лупейкин заявлял, что у гиляков и их собратьев – американских индейцев – судьба одна и та же. Я не верил. Но задавать вопрос Поликутину остерегался по той же причине, по какой не спрашивал о проклятом царизме.
Иосиф отвечал маме в ярости:
– Сначала он мочится, а уж потом я его луплю!
Получался замкнутый круг. Драма нарастала.
Иосиф лупил щенка нещадно. Хватал за плотный загривок и на весу хлестал толстой веревкой по спине и по заднице. Прижимал коленом к полу и охаживал ремнем. Цапка отчаянно визжал, плакал и поджимал лапы. Я не мог понять, за что отчим бьет мою собаку? Ведь Клыка он любил?! И овчарка его признавала. Не могут плохого человека любить собаки.
Я умолял, рыдал, наконец, с маленькой чугунной гантелей наперевес бросался на отчима. Мама оттаскивала меня. Отчим, брызгая слюной, орал: «Щенок! Весь в папашу!»
Мне бы догадаться тогда, что выражение «Весь в папашу!» было ключевым в нарастающей трагедии. Но понять все до конца я еще не мог. Отчим убегал из дома и с тем же остервенением, с каким бил мою собачонку, предавался пьянке. Заслышав шараханья возвращающегося Иосифа, Цапка забивался под крыльцо и сидел там до тех пор, пока отчим не затихал на своем диване.
Наконец драма достигла своего апогея. Она и не могла его не достигнуть.
Иосиф насолил горбушиной икры.
Для людей, не знающих толка в красной икре, это ничего не значит. Красная она и в Африке красная. Если она, конечно, там есть, на пробудившемся континенте. Так мы, все на тех же уроках истории, называли материк чернокожих. Мы любили Африку всегда, сколько я себя помню. Оставалось непонятным – за что их надо было любить, этих «черно… мазеньких», как называл их Лупейкин. Иногда – и того хуже. Не будем повторяться.
Суждения Лупейкина об Африке и об американских индейцах явно расходились с рассказами Ивана Марковича Поликутина о борьбе гордых людей за свободу.
Вернемся, однако же, к цвету икры, красному.
Для человека, родившегося и выросшего на Амуре, название икра горбушиная скажет о многом.
Первой из лососевых на икромет в Амур идет горбуша. Филе горбуши суховато, из горбуши хорошо делать котлеты, подмешивая в фарш свиное сало, также пропущенное через мясорубку. Но зато икра…
Пожалуй, самая лучшая. Если иметь в виду кету летнюю и осеннюю, из которых тоже извлекается и солится красная икра.
Горбушиная икра мелкая, зернистая, икринка к икринке, и очень жирная. Не обязательно намазывать на хлеб сливочное масло. Она, в отличие от кетовой, чисто обрабатывается, почти не давится, но, к сожалению, и долго не хранится. Если кетовую икру можно заготовить на зиму – даже бочонок или несколько трехлитровых банок, то горбушиной икры много не бывает. И съедать ее нужно быстро. Иначе может испортиться.
Отчим насолил горбушиной икры целый таз. Литров восемь. А может, и десять. Было начало лета. Думаю, что Иосиф собирался реализовать икру речникам судов и суденышек, проходящих, а иногда и швартующихся у нашего дебаркадера. Лупейкин в таких ситуациях обычно бывал в доле.
Литровая банка горбушиной икры в начале 60-х стоила не меньше десяти рублей. Если учесть, что зарплата сельского киномеханика была не больше рублей семидесяти, то в тазике плавал месячный оклад жалованья отчима.
Тазик с икрой Иосиф прикрыл чистой марлевой тряпочкой от мух и поставил отстояться в коридоре. Точнее, в полутемных сенях, потому что в деревенских домах коридоров не бывает.
Цапка лапами залез в тазик, извозюкался сам, извозюкал все полы в сенях и стены. Но самое главное, он от пуза нажрался икры, думаю, не самой пригодной для щенков пищи. Неизбежные при обжорстве отходы собачьего пиршества кучками украсили крыльцо дома и тротуар во дворе. На мордочке Цабэрябого висели гроздья засохшего деликатеса.
Щенок не потерял присущего ему оптимизма. При виде подходящего к дому Иосифа он не побежал прятаться под крыльцо, а наоборот, радостно бросился к нему навстречу. По характеру шагов Главной Собаки в доме (Цапка, думаю, все-таки представлял Иосифа вожаком нашей стаи) он определял состояние Иосифа. В этот раз отчим возвращался трезвым. И потому Цабэрябый был уверен, что его не станут мутузить. Не за что. Обмочить баретки Иосифа в тот день он не успел.
Щенок радостно уткнулся в колени Вожака. Пятнышки икры маленькими красными точками расплылись на светлых брюках Иосифа.
Был отчим в те годы к тому же еще и деревенским щеголем – любил принарядиться. Одна шляпа тирольского стрелка чего стоила! А возвращался в тот день трезвым потому, что отчитывался по продаже кинобилетов перед начальством районного проката в недалеком Николаевске.
Отчитался. Выпить не успел.
Иосиф оторопел, глядя на расползающиеся по брючинам розовые сопли. Потом он быстро прошел в сени. И только тут оценил размеры нанесенного собакой ущерба. Цапка крутился рядом, явно гордясь проделанной работой.
Иосиф от души, с выдыхом-гхэканьем, пнул щенка. Не удержавшись, поскользнулся на дурно пахнущих кучках и упал, все в тех же габардиновых брюках, на дощатый тротуар.
В «Судовом журнале» нашего штаба-кубрика осталась запись: «Иосиф упал в дерьмо и блевотину Цабэрябого». И – точная дата. Все-таки мы с Хусаинкой основательно готовились к морской службе.
Цапка отлетел к забору и горестно взвыл.
Иосиф схватил двустволку, висящую на стене в сенцах, переломил ее и начал лихорадочно искать жаканы – патроны с пулями, рассчитанными не на утку, а на крупного зверя: лося, волка, медведя.
Цабэрябый метался по двору, прячась от наведенных на него стволов. Наконец щенок по лестнице стремглав взлетел на чердак, в наш с Хусаинкой штаб. Стремглав, потому что к тому времени он научился подниматься достаточно быстро. Иосиф, матерясь, полез следом.
Страшный грохот, визг Цапки и крики отчима. Крыша, казалось, ходила ходуном, потолок трясся, я дрожал, мама прижимала меня к себе… Наконец все стихло.
Иосиф спускался с чердака. Ружье висело за его спиной. В одной руке отчим держал щенка – за загривок, собака в таком положении становится безвольной. Другую руку он держал на отлете. Из ладони капала кровь. Цабэрябый, защищаясь, цапнул его за мякоть. То есть на этот раз он не справился со своим звериным инстинктом и укус не только обозначил.
У меня все екнуло внутри. И заколотилось сердце.
Я знал закон наших суровых мест: собаку, напавшую на своего хозяина, нужно убить немедленно. Никому не позволено кусать руку, дающую тебе хлеб.
У Иосифа было верное алиби, и он демонстрировал его собравшимся на шум и крики соседям. Пришли Мангаевы, Поликутин Иван Маркович, директор школы, в которой работала мама, его жена – завуч Глафира Ивановна, она маму почему-то недолюбливала, дядя Илья Мартынов – лесник… Все они осуждающе покачивали головами и уговаривали Иосифа пристрелить Цапку не здесь, прямо во дворе, а увести подальше в лес.
Никто не хотел спасать моего сóбака!
И мама ничего не говорила. Она лишь молча смотрела на Иосифа. Ее голубые глаза наливались темнотой, знакомой мне и Иосифу. Синева маминых глаз не предвещала ничего доброго. Она предвещала грозу.
Гроза и случилась. Ночью она пришла с юга.
Это была та самая гроза, которая случается в жизни каждого нормального пацана. Думаю, я был пацаном нормальным.
Единственная гроза в твоей жизни – с бабаханьем грома над домом, с адскими молниями, попадающими в крышу твоего кубрика. Гроза, которую ты не забудешь. Она приходит, когда начинается другая жизнь. Только ты этого пока не понимаешь.
Я лежал на чердаке разгромленного штаба и смотрел в пугающую темноту. Я лежал, сжавшись и подтянув коленки к самому горлу. Много лет спустя, в книге хорошего писателя Александра Кабакова, я прочел, что такова поза эмбриона. Она принимается в страхе. В ту грозовую ночь я на время вновь стал эмбрионом. Чтобы потом распрямиться и уже никогда ничего не бояться…
Я даже не стал прибираться в штабе.
Рулевая колонка со штурвалом была свернута набок, морская фуражка отца втоптана в пыль. Я только подобрал часы «Мир», чудом уцелевшие, и теперь держал их в кулаке. Стрелки и циферблат светились. Или мне только казалось, что они светятся?! Молнии залетали ко мне на чердак.
Я никак не мог уснуть. Все картины случившегося я прокручивал заново. Как из кинобудки Иосифа, я видел их на белом экране.
Вот Иосиф, не глядя маме в глаза, протягивает прокушенную руку:
– Перевяжи!
Вот из бельевой веревки он сооружает подобие поводка. Ошейника у Цабэрябого никогда не было. Отчим не дает щенку убежать, прижимая его коленом. Мама – моя мама! – укоряет его:
– Ведь брюки испортишь, Иосиф!
Иосиф зло отвечает:
– Они уже и так испорчены!
Цапка упирается всеми четырьмя лапами, воет, хрипит и бьется. Я бьюсь в руках мамы…
Сон сморил меня под утро, когда гроза ушла, и в мире остался один дождь, мерно шуршащий по крыше.
Я проснулся внезапно. Кто-то, мокрый и с грязными лапами, навалился на меня, повизгивая от счастья и пытаясь лизнуть меня в лицо. Цапка! На шее его болтался обрывок веревки. Веревка была чужой – какой-то замусоленной и волокнистой.
Отчим не стал убивать щенка, а отвел его в соседнее с нашей деревней нивхское стойбище Вайда. Обменял, кажется, на пару свежих горбуш-икрянок или на бутылку все того же «сучка». Водку называли «сучок», потому что тогда ее гнали из древесных опилок. Не знаю, как сейчас.
Гиляки не стали варить из Цапки суп. Решили повременить. Все-таки он был упитанным псом и имел тенденцию к дальнейшему набору веса.
Ночью Цапка перегрыз веревку и прибежал домой.
Иосиф покрутил в руках обрывок, который я ему с гордостью продемонстрировал утром, хмыкнул, но от дальнейшей эскалации насилия (континент чернокожих не сдавался!) отказался. Все-таки ночью многое видится по-другому. И ночью между взрослыми можно решить то, что не удается решить днем.
К тому времени я уже кое-что знал о ночных отношениях взрослых. Адольф Лупейкин был достойным консультантом. Вальку-отличницу – пшеничные косы и грудка двумя упругими холмиками, с которыми я в то лето слегка поэкспериментировал на сеновале, тоже со счетов не сбросить.
Валька учила меня целоваться.
Три дня счастья, когда Цапка, прощенный всеми, не прятался под крыльцом и носился со мной по улице, как угорелый, миновали быстро. Как выяснилось позже, счастье вообще долгим не бывает. Оно коротко и ярко, как молния грозы, уходящей на север.
То ли в порыве благодарности за отпущение грехов, то ли демонстрируя не до конца потерянные собачьи инстинкты, Цапка загрыз курицу-наседку у Поликутиных. А вместе с курицей и весь выводок цыплят. Двенадцать желтых комочков лежали на крыльце нашего дома. Рядом весело скакал Цапка. Морда в пуху несчастных убиенных.
Что любопытно, добычей он не воспользовался. Как настоящий пес-охотник, он приволок птицу хозяину. Мол, знай наших! Напрасно ты хотел увести меня в темный лес, привязать толстой веревкой к дереву, а потом пальнуть из двух стволов, размозжив мою умную голову…
Скандал поднялся грандиозный.
Глафира Поликутина, властная завучиха – руки в боки, голосила не своим голосом. Припомнила все. И как мы с Хусаинкой воровали теплые огурцы из ее единственной в деревне теплицы, сооруженной по всем правилам агрокультуры. У всех в деревне росли огурцы с горькими жопками. Огурцы Глафиры Ивановны были сладкими. Об этом знал каждый третьеклассник нашей школы. На бескомпромиссной стрелке, забитой у скалы Шпиль, пацаны нашей улицы договорились об очередности лазанья в теплицу Поликутиных и о квотах забора огурцов, чтобы не вызывать подозрения хозяев.
Я воровать огурцы Глафиры перестал, поскольку был пойман мамой с охапкой пупырчатых плодов за пазухой и немедленно отхлестан той самой бельевой веревкой, на которой позже хрипела моя несчастная собака. Я пробовал соврать, дескать, огурцы из нашего огорода. Но мама тут же надкусила огурец и сняла со стенки веревку. Я искренне удивился: неужели мама тоже лазала в теплицу за поликутинскими огурцами?!
Глафира продолжала кричать.
И про то, что «некоторые» по пьянке выломали ей калитку и вытоптали цветы-лютики вдоль забора. И про то, что другие «некоторые» так и норовят захапать побольше часов и тем самым отбирают законный хлеб у коллег…
Иосиф лупил задушенной курицей Цапку по голове и по морде – перья летели во все стороны. Я метался по двору, стараясь убрать с глаз долой загубленных цыплят. Мама рыдала в доме.
Последнее, насчет «захапать», было неправдой и относилось к ее непростым отношениям с завучихой, которая распределяла часы нагрузки между учителями. Никогда моя мама не отличалась жлобством, а скорее, наоборот – могла отдать последнее. В деревне даже самые горькие пропойцы приходили к моей маме за рублем на опохмелку. Они уважительно называли ее Кирилловной.
Явился и сам Иван Маркович Поликутин, человек степенный и уважаемый в деревне. Иван Маркович недолюбливал меня.
Дочка Поликутиных Ленка сидела со мной за одной партой. Ленка до круглых пятерок не дотягивала. Она была твердой «хорошисткой». Иван Маркович и его жена Глафира Ивановна считали, что учителя сознательно занижают оценки их дочери. А кому-то завышают – например, мне… И моему дружку Женьке Розову.
Иван Маркович часто подменял заболевших педагогов. Вообще-то он был математиком, но мог заменить даже историка. Историю, кстати, он очень любил и вдохновенно рассказывал нам про царизм и про континент чернокожих, проснувшийся под рокот тамтамов. И про остров Свободы – Кубу он тоже любил рассказывать. «Куба – любовь моя! Остров зари багровой…»