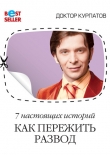Текст книги "Тыя-онона (СИ)"
Автор книги: Александр Кормашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Когда уже давно надо спать, ты вдруг вспоминаешь о домашнем задании и начинаешь выправлять плоскогубцами то самое перо, которым перестрелял все капсюли. Перо теперь похоже на клюв мёртвого клеста. Выправить его, естественно, никак, и запасного, конечно, нет, так что тебе приходится просить авторучку сестры, которой авторучки разрешены. У сестры замечательная ручка, новая, современная, никакая не капельная, с резиновой пипеткой внутри, а уже поршневая, но сестра не дает к ней даже прикоснуться. Мать приказывает дать. Сестра бросается в слезы, и у тебя в глазах тоже начинает пощипывать, тетрадь украшают водяные знаки, а потом тебя вообще пробивает на такой рёв, что сестра испуганно замолкает, а мать бросает все дела и укладывает тебя в постель, где ты и засыпаешь в слезах и в чернилах.
После этого ты неделю не ходишь в школу, перебиваясь с кашля на температуру, а потом всё потихоньку забывается. Но ты всё равно почему-то избегаешь смотреть на Катю, а летом её родителей переводят в другой леспромхоз, и она вместе с ними уезжает из села. Вы больше не увидитесь.
С Тобиком тебе больше не дружилось. Когда он подбегал, тряся своими жирными ушами и взмахивая толстым хвостом, тебе приходилось прятать руки за спину, чтобы не погладить его. Но он был глуп и ничего не понимал. Летом ты увидел его на дороге, прямо напротив дома, лежащим в песчаной колее, в которой всегда валялось немало раздавленных кошек и собак. В жару собаки и кошки очень любят валяться в тёплой мучнистой пыли, на самом дне колеи, и спят там без задних ног. Едущие по дороге машины могут долго сигналить, могут громко перегазовывать, но часто единственный способ спасти животному жизнь это выйти из кабины и вытащить собаку или кошку из колеи за ухо. Всех не навытаскиваешься. Увидев на дне колеи Тобика, ты испугался, что его тоже раздавили. Но он был живой. Ты пнул на него песком, и он приоткрыл сначала один глаз, а потом приподнял одно ухо. "Ну, и дурак ты, Тобик!" – хотелось прокричать ему в это ухо.
Тобика не раздавят. Он будет бегать по улице ещё года два, а потом поднятая из берлоги медведица переломит ему хребет, и дядя Сережа его пристрелит.
БАЯН
Баян ужасен. Когда ты приходишь в музыкальную школу и берёшься за него, баян кажется тебе обрубком анаконды. Живым холодным обрубком огромной холоднокровной анаконды. Тяжёлый, скользкий, зелёно-чёрно-перламутровый, он так и изворачивается в твоих руках, норовит вырваться, соскользнуть с колен и упасть на пол. А когда ты хочешь на нём сыграть, он сначала шипит, сипит и хрипит, потом сопит и хрипит, и всё время брызгается водой. Влага оседает на твоих пальцах, и те, ещё не отогревшиеся с мороза, могут попасть на нужные чёрные или белые кнопочки.
Ты без понятия, откуда в баяне столько воды. Ты как-то не задумываешься, что если изба вымерзает за ночь, то, как бы ни протопили печь, холод всё равно на какое-то время будет задерживаться внутри баяна. Тебе также невдомёк, что когда ты растягиваешь мехи и тёплый воздух начинает прокачиваться сквозь ряды дюралевых голосовых планок, в чьих узких прорезях дребезжат стальные язычки, то на металле неизбежно образуется конденсат. Он-то и выдувается наружу.
Неуклюже отыграв пару гамм и арпеджио, ты откладываешь баян, идёшь к печке и прикладываешь руки к её белёному боку. На руках остаётся мел. Пальцы потом можно припечатывать к столу и представлять, что ты играешь на пианино. Тебе всегда хотелось играть на пианино. Ты всю жизнь мечтал играть только на пианино. А ещё лучше на рояле. Как Рихтер. По радио.
Баян – это дискриминация. Это была первая и, к счастью, единственная дискриминация по половому признаку, которую ты ощутил и потом тяжело переносил почти половину жизни. Когда в селе открыли музыкальную школу, девочек отобрали отдельно и запустили в ту дверь, за которым пианино, а вот мальчиков оставили в коридоре и приговорили к баяну.
Если тебе не дали сразу исполнить на рояле ни 1-ый Чайковского, ни 2-ой Рахманинова, ты уже больше никогда не захочешь играть эти вечные польки, кадрили и менуэты на сипатом, простуженном баяне, холодном, чужом, который дважды в неделю ждал тебя в музыкальной школе. Своего у тебя долго не было. Потом какие-то родственники прислали, но пожить инструменту долго не пришлось. Баян прибыл в огромном почтовом ящике и был завернут в рыболовную сеть. Сеть была отличной, мелкоячеистой, крашеной, и она прослужила долго, а вот баян оказался громоздким, угловатым, фанерным, и кнопки на нём были прикручены на маленькие бронзовые шурупчики. Да и весь он держался на шурупах, что постепенно баян был разобран. Левая половина была тебе не нужна, а правую ты присоединил к старым кроснам, на которых покойная бабушка ткала половики. Преподавательница фортепиано Татьяна Ивановна, узнав о твоём баянопианино, сначала дико смеялась, а потом подскочила к тебе и зачем-то поцеловала. Ты растерялся. Тебя впервые поцеловала женщина, и не мать.
А пианино из баяна всё равно получилось неудачное. Виной всему были кнопочки. Ты не хотел инструмент в горошек. Ты хотел в полосочку. После того, как тебя поцеловала Татьяна Ивановна, тебе всё хотелось только в полосочку. Будь то аккордеон, тельняшка или зебра.
Аккордеон и тельняшка у тебя потом были. Не было только зебры.
О КРАСОТЕ
Она никогда не получалась на фотографиях. На фотографии у неё всегда получался какой-то слегка диковатый вид, как будто её только что поймали, связали и теперь заставляют делать фотопробы для съёмок в фильме ужасов (верёвки потом удалят фотошопом). Правда, и в естественной среде обитания подловить её было непросто. Она обладала предельным слухом и мгновенно оборачивалась на звук затвора. Даже на мнимый спуск затвора, поскольку ты эту опцию (звука) заранее отключал.
А вот к видеокамере она относилась равнодушно. Это, наверное, потому что от камер сегодня просто невозможно укрыться. Впрочем, и на видео она порой выглядела пойманной врасплох. Но это потому что движение вообще очень плохо передаёт женскую красоту. Женская красота статична; она всего лишь мгновение, которое необходимо остановить.
Однажды вы ехали в метро. Народу в вагоне было много, и ты заранее протолкался с ней к дверям. Лично тебе никогда не нравилось отражаться в этом чёрном стекле, на котором написано: "Не прислоняться". Будь твоя воля, ты бы написал: "Не смотреться". Дело в том, что когда свет падает сверху, твоё лицо обязательно становится тяжёлым, отёчным, проявляются какие-то угрюмые складки вокруг носа и рта, и смывается всякое ощущение радости жизни или просто нормального настроения. Она же стояла рядом и смотрелась в это чёрное зеркало в состоянии полной и безоговорочной удовлетворённости. Даже влюблённости. Она была в восторге от себя. Ты наклонился к её плечу, чтобы лучше понять, что она там видит, и вдруг поразился, насколько замечательно она стала выглядеть. В ней всё изменилось. Обнаружилась глубина, почти не заметная при другом ракурсе, открылось своеволие, обнажилась тревожность, выявился вампиризм, и ещё многое из того, о чём ты только подозревал. Раньше только подозревал, а тут внезапно получил шанс увидеть. Так криминалист в косо падающем свете видит то, что осталось продавленным на листе бумаги в блокноте. На том листе, который находился внизу. Под тем, который был вырван.
***
Он был угрюмый домашний мыш,
она – бродячая кошь.
Он ей с порога шептал: «Кыш-кыш.
Голодная ты, небошь».
Он ей шовал мяшное филе,
она же: «Мерси, месье!»
Пока любовь царит на Земле,
никто никого не сье.
ОДРИ ХЕПБЁРН
А ещё вы не совпадали в любви к праздникам. Для тебя были значимы 23 февраля, 9 мая и 7 ноября, для неё – только 8 марта и Новый год. Из-за тебя она ненавидела Новый год. Потому что каждый раз перед Новым годом, когда народ идёт в баню, а потом смотрит "Иронию судьбы", ты смотришь "Мою прекрасную леди" с участием Одри Хепбёрн.
Нет, ты тоже обязан помыться в этот день и ещё, как все, посмотреть кусочек из "Иронии судьбы", а иначе не будет полноты праздника, но свидание с Одри Хепбёрн – тема отдельная. Потому что "Иронию судьбы" ты смотришь не каждый год, а "Мою прекрасную леди" – каждый.
Ты смотришь старую версию 1964 года на английском языке и с английскими же субтитрами, в которых "r" и "n" сливаются в одно "m", и путаются "t" и "f". Ты знаешь, что это очень старые субтитры, они сосканированные ещё с машинописного листа и что давно имеются новые, но ты привык к старым. Тебе даже в радость заметить новую опечатку, которую раньше ты пропускал много лет. Ты также любишь ловить знаки препинания, но – почему-то так получается – все эти недочёты ты ловишь только тогда, когда на экране сама Одри Хепбёрн. Её лицо крупно.
А она ненавидела Одри Хепбёрн. Проходя мимо, она всегда старалась тебя задеть – если не халатом, то словом, если не словом, то песней – той песней, которую она ехидно пропевала своим самым наифальшивейшим голосом: "Ах, какая женщина, какая женщина! Мне б такую!" Ей казалось, что эта кабацкая песенка как нельзя лучше иллюстрирует то, насколько низко ты пал.
Да, шансон никак не сочетается с "Я танцевать хочу", но это шедевр, если честно, не твоя любимая тема. Тут слишком много женского, и к тому же там Одри больше актриса. Тебе гораздо более нравится, когда она, пея, ругается на мистера Хиггинса: "Just you wait, Henry Higgins! Just you wait!" На своём кокни.
А лучший трэк фильма – это всё-таки песенка мистера Дулиттла. Этот мотивчик звучит в твоей голове ещё несколько дней после Нового года, заставляя задуматься, так такое мужчина и что значит для него женщина? Может, то же, что Галатея для Пигмалиона? Нет-нет. Наоборот. Ведь если он хотел вдохнуть жизнь в кусок косной материи, то у тебя жизнь уже имеется. Осталось только найти для неё материю. Задача на следующий год.
МЕНУЭТ
На столе лист бумаги.
Под столом хвост дворняги.
Печка догорает,
Радио играет
Менуэт Баха.
Менуэт звучит Баха.
Вот и жизнь прошла, бляха.
"Шея, как у колбы.
Он всегда такой был" -
Скажут там, в школе.
Или скажут там, в школе:
«Он с ума сошёл, что ли?»
А она, наверно:
«Фи, как всё манерно!»
Просто ей по фиг.
Просто ей-то всё по фиг.
Ты худой, как дистрофик.
От любви-болезни
Всех микстур полезней
Только смерть в муках.
Только жизнь и смерть в муках
Вся у Баха есть в фугах.
Для иной бодяги
Есть листок бумаги,
А на ней – муха.
На листке сидит муха.
Нос крючком и два уха.
Говорит словами:
"Я устала с вами,
Умываю лапки".
Умывай, давай, лапки!
Над столом висят тапки.
Что-то много хруста,
Отвалилась люстра.
Жил-был-бах, что ли?
Жил-был Бах, и всё, что ли?
Что теперь сказать в школе?
Всех люблю сердечно,
Но в ушах навечно
Менуэт Баха.
КОНСЕРВЫ ИЗ ЗВЁЗД И ВАРЕНЬЕ ИЗ СОЛНЦА
Учитель физики (и астрономии) Алексей Артемьевич Волнухин мало походил на обычного сельского учителя, а больше на благородного итальянского мафиози с Восточного побережья США, что лишь добавляло ему уважения со стороны более чем двадцати поколений учеников, но также и учениц, всегда находивших в нём достойный объект для влюблённости. Вдовец уже много лет, на безымянном пальце левой руки Алексей Артемьевич носил золотое кольцо, а рядом, на среднем, массивную серебряную печатку. Все в школе знали, что она сделана из космического титана, а изображённая на ней "h перечёркнутая" обозначает постоянную Планка.
Человечество Алексей Артемьевич называл "консервами из звёзд и вареньем из солнца". Понималось это легко, потому что астрономию в школе начинали изучать едва ли не с пятого класса – не сам предмет, впрочем, нет, лишь ту его часть, в которой рассказывалось, что на месте нашего Солнца когда-то раньше было другое солнце-звезда, а, может, и сразу несколько, и как потом они взорвались, их остатки летели-летели, пока не запутались в какой-то водородной туманности, из которой (совсем недавно) зажглось теперь уже наше Солнце, а вокруг него из остатков звёзд зародились планеты, а потом на одной из планет зародились и мы – консервы из звёзд и варенье из солнца. Всё очень просто и понятно даже для пятиклассников.
Обычно на эту тему Волнухин переключался уже ближе к концу урока, когда, уставший, тяжеловесный и реально почти засыпающий, он на минуту уходил в лаборантскую и возвращался оттуда как будто хорошо выспавшийся, бодрый, с весёлыми искрящимися глазами. Все, как минимум, все учителя и многие старшеклассники хорошо знали, что имелось у Волнухина в его лаборантской, в этой его святая святых.
Непосредственно святая святых служил небольшой одностворчатый шкафчик, и ещё никаким посторонним никогда не удавалось его даже приоткрыть. С виду он совершенно не запирался, не было никакого замка ни внутри, ни снаружи, а мог открыть его только сам Волнухин. Из года в год этой своей тайной он любил озадачивать старшеклассников (тех, кому доверял показывать учебные фильмы на кинопроекторе "Украина"), более того, он дразнил их тем, что поставит им бутылку самого дорогого коньяка, если те разгадают, как открывается этот шкафчик. Но уж если не разгадают, тогда на выпускном вечере коньяк поставят они. Договоры неукоснительно соблюдались, а поэтому внутри шкафчика давно находилась коллекция бутылок из-под самых дорогих коньяков, какие-то только когда-либо продавались в местном магазине. Систематически обновлялась в шкафчике только водка, глотнув которой, Волнухин и возвращался на урок будто выспавшийся, с искрящимися глазами и сходу переключался, например, на объяснение энтропии.
В первый раз ты услышал об энтропии ещё в пятом классе, потом слушал каждый год, а в десятом даже сдавал экзамены на близкую тему и потом всю жизнь мучительно вспоминал, что же это такое, но, видно, есть вещи, твоему уму недоступные. Физическое, слишком физическое.
Яшка Трофимов сидел через две парты от тебя. Он не был твоим другом. Кажется, не был ничьим другом вообще, поскольку едва снял с себя пионерский галстук, как тут же надел мужской, взрослый, завязанный огромным узлом. На левой руке он носил тяжёлые нержавеющие часы с железным браслетом-гусеницей. Часами и этим браслетом так громко стукал о парту, особенно в тишине контрольной, что пугался весь класс.
В тот день, когда Яшка Трофимов решал вешаться, ты оставался в кабинете физики один (сам Волнухин входил-выходил) и решал физические задачки из журнала "Квант". Волнухин утверждал, что они должны решаться на раз, раз опубликованы в открытой печати. Он предупреждал, что на олимпиаде зададут гораздо сложнее.
Яшка Трофимов вешался назло лучшей девочке школы Лене Сипиной. Подвиг самоповешанья совершался в соседнем кабине русского языка и литературы, где по стенам были развешаны портреты писателей и поэтов. Портрет Есенина висел тоже. Интересно, что именно Есенину, а не Лене была адресована Яшкина предсмертная записка – словно поэт призывался поработать душеприказчиком.
Записку Яшка положил на самое видное место, на учительский стол, а сам забрался на шаткий стеклянный шкаф с учебными пособиями и привязал свой мужской галстук к вентиляционной решётке. Ты слышал грохот, но когда пошёл посмотреть, Волнухин уже возвращался. Под мышкой он нёс Трофимова, мягкого и вялого, как половик. И сразу оттащил его в лаборантскую.
Когда ты туда заглянул, Яшка уже сидел на стуле, но Волнухин ещё продолжал ругаться. Матерных слов в его лексиконе никогда не было, но их достойным образом заменяли научные термины, особенно, когда речь велась о сущности жизни. Про консервы из звёзд и варенье из солнца там было тоже. Ты застал тот момент, когда Волнухин, грозно нависая над бедным Трофимовым и гневно покачивая перед его носом своим гнутым, с печаткой, пальцем, словно желая пропечатать на Яшкином лбу, что металл титан тоже появился из звёзд, строго выговаривал типа: "Не ты эти банки закатывал, не тебе и вскрывать!" Тебе даже показалось, будто он сам закатывал это варенье, а кто-то эти банки разбил.
Потом Волнухин отпустил Яшку, а сам подошёл к своему секретному шкафчику, открыл его, нацедил полную мензурку водки и лишь тогда заметил тебя. Ты опустил глаза и сразу ушёл, но всё равно уже всё увидел. У соседнего шкафчика один из шурупов, державших нижнюю петлю, вовсе ничего не держал. Он только изображал сам себя. Гнездо под него было просверлено очень глубоко, настолько глубоко, что этот шуруп, пройдя сквозь вертикальную стойку, своим острым кончиком спокойно запирал и дверцу секретного шкафчика. Такой вот был внутренний засов. Любой бы мог догадаться! Ты сам бы мог давно догадаться! Но мир для тебя в те дни ещё оставался непознаваем. Тогда ты ещё даже не подозревал, что на свете бывают такие длинные шурупы.
МЫЧАНИЕ ТЕЛЯТ
Кто бы спорил: женщину нужно любить, а не пытаться её понять. Но иногда всё же интересно понять, что ты любишь.
Она спала в твоей рубашке, когда ты уезжал. Она и свою ночную рубашку оставляла на видном месте, когда уезжала. Напрасно. Синдромом нимфы Салмакиды мужчины, как правило, не страдают. Или нет, был один. В "Молчании ягнят".
Она вся испереживалась, когда сосед в деревне резал телёнка. Телёнок заболел, и резать его пришлось в самую жару, под шубой оводов и слепней, которые торопились напиться, пока кровь была горячей, текучей. Телёнок уже лежал подготовленный, а она всё ещё не уходила, отгоняла оводов и слепней и от волнения так глубоко зевала, что вывихнула гланду. Так и ушла, с приоткрытым ртом и судорожно вправляя гланду пальцем.
– Мне кажется, что ты меня однажды убьёшь, – сказала она той ночью.
– С чего?
– Ты начал убирать нож. Вилки-ложки валяются на столе, хлеб и крошки на месте, а ножа нет. Нож всегда убран в стол. Ты давно начал убирать нож?
– Я не замечал.
– Ври. Зачем же ты меня бьёшь?
– Я ударил тебя только раз.
Ты ударил её только раз. По попе. Лишь по этому месту ты мог ударить её, не боясь сломать. Ты ударил ещё потому – и главное, потому – что она подставлялась. Такая уж была у нее мода: в самый разгар скандала упасть ничком на кровать и застыть, замереть. Ты знал, что ей надо. Чтобы ты немедленно забыл всё (обо всём на свете забыл), вытряхнул её из её тонких джинсиков и чтобы дальше всё произошло так, как ей порой мечталось. Но это не к тебе. Это к другому. Это к очень другому. И поэтому ты стукнул её по заднице так, что она подлетела над кроватью, как на батуте, и ты вышел, матюкаясь. Ты не насильник. Нет, ты можешь, конечно, иногда прихватить рукой сзади за шею и немного придушить, но это и всё. Это ведь любя. А вот так, чтобы со зла, нет. Она плакала. Выревливалась.
На даче в деревне она всегда была спокойнее, чем в городе. Она вытаскивала (просила вытащить) раскладушку в сад, стелила простынку и ложилась загорать голой. Она лежала, как самка леопарда. Бело-зелёного леопарда. Это потому, что у неё круглый год оставалась белая кожа, а листья яблонь были, естественно, зелёные. Художник-импрессионист мгновенно бы понял, почему ты рисовал её такой бело-зеленой. Ей тоже нравилась эта картина, хотя гости, приходившие в дом, часто спрашивали: "Это у нее что, сыпь? Ты измазал её зелёнкой?"
Телёнок каждое лето стоял прямо за забором, за тонкой сеткой-рабицей, поросшей травой, как живая изгородь, и мычал. Мычал он каждое лето, хотя он каждое лето был, конечно, другой, а иногда их было и два, что впрочем, не имело разницы, один или два, бычок или телочка, потому что он был просто телёнок и, гремя цепью, стремглав бежал к каждому, кто проходил мимо, и только цепь укорачивала бег.
– Почему он мычит? – раздражённо спрашивала она, загорая под яблоней, но ты мог, к счастью, не отвечать. Ты и так отвечал за всё. За всех мушек и пчел, летавших вокруг, за всех чёрных земляных муравьёв, приходивших исследовать её белое тело, даже за холодный ветерок, который, как чёрт, проносился под её раскладушкой, игриво холодя её тонкую спину, и тогда она просила погреться и тогда на раскладушку ложился ты сам, а она забиралась на тебя как на русскую печку.
– Я знаю, почему он мычит. Он зовёт корову. Дурак. Всю жизнь так и будет звать, пока сам не станет коровой.
В то утро, когда телёнок уже не мычал, она до самого вечера боялась выйти в сад. И также весь день боялась открыть холодильник. В то лето она ещё несколько раз спрашивала о зарезанном телёнке. Её по-настоящему удивляло, что телята никогда не вырастают в коров, потому что коров покупают в совхозе, уже дойных, проверенных, с родословной, как у собак. Более того, и с куриным мясом оказалась та же проблема. Мы их тоже едим, грубо говоря, только в виде детей, покупая в магазине цыплят-бройлеров. В то лето ты отшучивался, как мог. Ты говорил, что природа, она вообще такая. Она и детский труд использует без зазрения. Вон самые большие трудяги, пчёлы и муравьи, тоже дети.
Она задумалась.
– Вот поэтому у меня никогда не будет детей.
Ты промолчал.
ШАЛАШ
Ближе к августу в шалаше становится холодно. Темнеет рано, а спать не хочется, и ночи длинные – высыпаешься; комаров нет. Комаров нет, и вроде нет нужды никакой нужды засиживаться у костра допоздна, но вы всё равно сидите, теперь уже не окуривая себя дымом, а просто накапливая тепло. Тепла должно быть побольше, побольше, и в ватнике, и в штанах, и в сапогах. С сапогами хуже всего. Они нагреваются быстро, потом невыносимо жгут ноги, но и остывают стремительно. Часто даже быстрее, чем успеваешь заснуть. Поэтому ночью приходится снимать сапоги и засовывать ноги в рукава какой-нибудь лишней фуфайки. Полами той же фуфайки ты укрываешь колени, а то и весь зад. Зад тоже, если подтянуть ноги. Но лучше ничего не подтягивать. Фуфайку правильнее к себе привязать – так получаются лишние штаны, правда, с очень низкой мотней. Но в них уже можно спать. Главное, не напиваться много воды, не пить на ночь много чаги, а то придётся вставать и идти на выход стреноженным – тут можно и упасть. Да и ступать по росе будет тоже мокро. "Тоже" – потому что сделать ноги ещё мокрее – это уж как два пальца.
Вот только вечером, у костра, всё равно всё пьют чагу. Пьют, пьют, пьют. Она горячая и слегка сладковатая. Чем горячее, тем слаще. Чага – это заварка и сахар в одном куске. Она болтается в чайнике целый месяц (и чем дольше, тем лучше), и уйти от неё совершенно невозможно, потому что длинными вечерами нужно что-то делать: пить, когда уже не хочется, или греться, когда ещё не замёрз.
Вечером у костра все также точат топоры. У каждого есть грубый наждак (либо целый кружок, либо полкружка от электроточила) и ещё отдельный брусок, который мягкий, прави'льный. Наждак нужен для того, что выводить крупные зазубрины, брусок – править лезвие. Оно должно быть настолько острым, чтобы если провести по нему пальцем, палец не скользил, а сразу прилипал. Как у бритвы. Таким топором всё равно ещё невозможно бриться, зато можно одним ударом срубить засохшую сосенку или другую кривулину толщиной не-в-обхват пальцами обеих рук. Взрослые мужики так и рубят, но у тебя пока не получается. К вечеру топор вырывается из рук и мечтает отправиться в самостоятельный полёт. Поэтому ты часто бьёшь в землю – в тяжёлую, гравийную, с мелким камешком. Поэтому вечерами ты всё точишь и точишь, даже когда мужики уже залезли в шалаш. Ты говоришь себе: ну и пусть, зато там станет теплее – надышат.
Потом, когда ты всё-таки забираешься туда и лежишь, ожидая, когда замёрзнешь, ты мечтаешь о том, чтобы поскорее закончить школу и жениться. И неважно даже на ком. Именно живя в шалашах, ты больше всего думал о жене. Не о матери, всегда готовой подоткнуть одеяло, о которой ты даже не вспоминал, а о женщине, которая согревает. Которая где-то даже отдельный биологический вид – "жена согревающая". Она ведь это не пять этих здоровенных поросят, стокилограммовых мужиков, между которыми ещё надо улучить момент, чтобы втиснуться и которые выталкивают тебя наверх, как камни щепку.
В мыслях о ней, о том, как бы вам хорошо было с ней вдвоём, пусть и в шалаше, ты наконец-то медленно, с ощущением засыпания, засыпаешь. Наверное, даже улыбаешься во сне. Наверное, ведь что-нибудь снится. "Куда мне до нее! Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил" – так хрипел ваш кассетный магнитофон, пока пузатые батарейки, по сто раз гретые у огня, однажды не взорвались, одна за одной, как гранаты.
ЛЮБОВЬ НА КОСТОЧКЕ
Собственно, это второе из всех блюд, которое ты научился готовить. Первое, ещё со студенческих врёмен, мойва. Рыба укладывается слоями, солится, чуть сахарится, лаврушится, закрывается. Любовь на косточке – это мясо. Котлета. Но, естественно, не котлета из фарша, столовская, а которая cotelette (в исконно французском смысле). И, естественно, это две котлеты, поскольку их едят вдвоём.
Мясо солится, перчится и кладётся на сухую горячую сковородку. Обычно куски большие, и вначале они едва помещаются. Композиционное решение либо инь-ян, либо "животик-спинка". Если сковородка большая, тогда brassiere. Ей не нравится, что ты это называешь лифчиком на косточках, а тебе смешно.
Готовится всё очень просто. Сначала нужно вытопить немного жира, потом плеснуть небольшое количество воды и закрыть сковороду крышкой. Когда внутри всё хорошенько пропарится, а вода полностью испарится, нужно снова прожарить мясо, но теперь уже только для цвета и корочки. На гарнир идёт отварная картошина, лист салата, горстка оливок, полпомидорки, один-два мелких огурчика. Соус соевый. Вино красное. Цветы тоже. Лучше всего подходят те мелкие пунцовые розы, которые ещё и кудреватые. Радио – Релакс FM.
Утром мясо доедается в первую очередь, пока вы ещё в халатах. Собственно, тебе достаётся часть её порция, которую она вчера не доела, а оставила наутро тебе. Хлеб чёрный, бородинский. Чай сладкий, горячий.
АЛЕКСАНДРА
Её звали Александра Анатольевна, но в беглом к ней обращении часто слышалось Оксана-Аната, и многие в школе к этому привыкли. Учителя старались деликатно проглатывать первую гласную, понимая, что Александра всё-таки не Оксана, а вот родители, наслушавшись от детей, очень часто раскатывали вологодское "о" довольно не деликатно. Родителей, правда, всегда поправляли, и потом они уже говорили более-менее правильно – "Олександра".
Александра Анатольевна преподавала английский, когда ты учился в девятом и десятом классах. То были первые два года из обязательных трёх, которые она должна была отработать на селе, по распределению, после окончания института. Правда, в отличие от всех остальных учителей, она была коренной вологжанкой и собиралась вернуться домой, в Вологду, через эти три года. Она не собиралась здесь выходить замуж.
Собственно, то, что старшеклассники фамильярно называли её Оксана, то есть Ксения, то есть "чужая", было даже оправдано. Она держалась слегка надменно и слегка отстранённо, но, в сущности, была просто молодая девчонка после института, впервые и так далеко уехавшая из родительского дома. При этом она была не лишена той невинной раскрепощённости горожанки, которая для селян равна откровенной распущенности, это верно, но сколько бы женихов ни пыталось посягнуть на её мягкую античную фигуру, на её большие и гладкие, как маслины, глаза, выглядывающие из-под тоже большого мраморного лба, обрамлённого каштановыми локонами на манер ионической капители, она сразу же поставила себя так, что никогда не выйдет здесь замуж.
В десятом выпускном классе ты сидел на первой парте прямо перед её учительским столом. Не потому что был маленького роста или плохо учился. Напротив, был первым в классе по учёбе и вторым по росту на физкультуре. Но ты плохо видел. С доски. То есть мог видеть и хорошо, но в очках, но очки так часто разбивались (и даже те, которые ты забирал у матери или сестры), так что ты всё равно видел плохо. В этом последнем десятом классе, сразу с осени, у тебя с Александрой Анатольевной завязались тайные отношения. Они завязались ровно в тот момент, когда на уроке по какому-то поводу она назвала тебя "практически готовым студентом, вот только..." Она не пояснила, что значит "вот только", что именно помешает тебе стать студентом, но в её опасении была правда, потому что студентом ты станешь только через пять лет, впрочем, это не главное. Главное, что она обращалась к тебе прямо, непосредственно, разговаривала с тобой так, словно в классе, кроме тебя и её, совершенно никого не было, или вы были с ней где-то далеко, не здесь, и вдвоём. Ты так это ощутил.
Разумеется, к десятому классу ты вполне уже освоил все маленькие хитрости половозрелых исследователей – типа уронить на пол ручку, чтобы заглянуть учительнице под юбку. Кстати, когда ты доставал ручку, Александра Анатольевна тоже непроизвольно смыкала колени и пыталась натянуть на них юбку (она ходила в английских костюмах одного и то же фасона с юбкой выше колен), а поэтому ты знал уже многое о ней. Например, что она никогда не брила ноги, и поэтому на её крепких, как кегли, голенях сквозь чулки проступали спутанные чёрные волоски. И ещё она носила широкий розовый пояс с подвязками для чулков, и эти чулки порой не вовремя отцеплялись.
Однажды тебя сняли с урока, чтобы показать параллельному классу фильм. Фильм был старый, учебный, английский, две части, каждая по десять минут, то есть ровно на пол-урока, и Александра Анатольевна несколько раз заходила к тебе в лаборантскую (фильмы крутились из лаборантской кабинета физики, как из кинобудки), чтобы узнать, как дела, а когда зашла в очередной раз, то вдруг попросила тебя не смотреть. Ты, естественно, отвернулся, но всё-таки изловчился увидеть. Она приподняла на бедре юбку, высоко подтянула чулок и заново закрепила подвязку. Когда на следующем уроке этот же фильм ты показывал своему классу, ты ждал её уже с нетерпением. Тебе почему-то верилось, что она не сможет не придти. И она пришла. Уже в самом конце второй части. Быстро сделала жест рукой "отвернись", ты немедленно отвернулся и тут же вернул голову назад...
Ты никому об этом не сказал. Даже лучшему другу, с которым вы вместе поднимали с пола авторучки. Но сам уже больше не поднимал. Не поднимал, даже если нечем было писать. И тогда она, молча, через стол, протягивала свою. И ещё порой, в благодарность, разрешала чуть почаще встречаться глазами.
В десятом классе как-то само собой предполагалось, что "практически готовый студент" должен был готовиться к поступлению в институт, хотя тебе самому больше хотелось идти работать трактористом. В те дни любая работа казалась достойным мерилом взрослости, и, напротив, любая учёба – постылым продолжением детства. Кроме того, тебе казалось неправильным уезжать из села, когда Александра Анатольевна должна была оставаться учительствовать в нём ещё год. Сами эти понятия "Александра Анатольевна" и "продолжение детства" очень быстро становились несовместимыми.