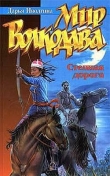Текст книги "Степная дорога днем"
Автор книги: Александр Левитов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Я насмотрелся в разных городах на такие язвы – и потому не ощутил особенного удовольствия при этом обещании. Но, необыкновенно устав и лежа в прохладном месте на душистом сене, следовательно имея под рукой все средства уснуть сном праведных, я все-таки никак не мог уснуть. В голове моей теснилась неотвязная мысль о том, что будет тогда, когда эта городская образованность, вышедшая из-под розог и кулаков дьячков, просвирен и отставных солдат, в самом деле разольется по селам и властительно засядет под гостеприимными елками питейных домов?..
На постоялом дворе, куда нас с Теокритовым очень скоро пригласили обедать, встретили мы обыкновенную обстановку и обыкновенные сцены. Заезжий мужик после благодарности за хлеб за соль, назвал при расчете живодером и лупилой работника, который обобрал его за эту хлеб-соль. Маленький тощий солдатик с птичьим лицом занял после его место за столом.
– Барыня-сударыня, женушка-красавица! Кушать пожалуйте-с! – кричит солдатик на двор в растворенное окно.
На его зов вошла в избу молодая женщина в ситцевом платье.
– Что это у меня какая жена умница, братцы мои, – сказать не могу! –рекомендовал публике солдатик вошедшую женщину. – Словно барыня какая, сейчас умереть!
– Будет, будет хвалить-то! Ешь знай, – говорила жена.
– И есть будем и хвалить будем. Поверите ли, господа, – продолжал он, налегая на щи, – такой бабы, мастерицы такой на всякие господские платья, однова дохнуть, в жисть не видал!
Только что отобедавший мужик слушал солдатскую похвалу с видимым удовольствием, между тем как работник, казалось, весьма сомневался в возможности обладания такой редкой женой, и в то же время, не желая из деликатности высказать свои сомнения, он смотрел на солдата и старался подкашливанием и кивками головы дать ему знать, что он понимает и ценит счастье быть женатым на такой умнице и мастерице на всякие господские платья.
– Веришь ли, друг ты мой сладкий, – обратился солдатик исключительно к мужику, – когда я, то есть, сватался за нее в Петербурге, оторопь меня великая забрала. Вот, думаю, по роже сейчас царапнет меня. Как ты, скажет, смеешь, солдатик ты эдакой разнесчастный, свататься за меня? Ей-богу!.. Потому (как тебя зовут, дядя? Петр, говоришь?), видишь ты, Петр, люди дорожные мы с нею теперь; одначе посмотри-кась ты на нее, во что одета она. Встань, покажись дяде Петру, – ему ничего, показаться можно. Ведь это, братец ты мой, знаешь, материя-то какая? Ты такой сроду и не видывал. Вот какая эта материя! Ну, а в то время, приятель ты мой дорогой, когда я сватался за нее, словно барыня какая была она расфуфынимши. Сейчас издохнуть! Шляпка на ней была как кровь красная, – платье, с места мне не сойти, шелковое, самое дорогое! А? Каково?
Восторг солдата в эту минуту дошел до высшей степени. Он бросил ложку на стол, проворно выскочил на середину избы и продолжал:
– Юбка у ней, землячок, так, то есть, распушилась, обхватов примером в пять либо в шесть, словно сена копна, – ты бы, милый человек, со всей семьей досыта нажился там. Только смотри ты теперь, какой я малый не промах. Другой бы что тут стал делать, а? Удрал бы, а я, бра-е-ц ты мой, учтиво так-то, по политике, вычистил сапоги ваксой (ты, поди, не знаешь, и вакса-то что такое?) и говорю ей: так и так, говорю, сударыня! Насчет законного брака переговорить с вами позвольте; а сам ногою-то дрягаю, сапог-то, значит, ей светлый показываю... Вот я какой!
И солдатик, рассказывая это, заливался тем добродушным смехом, каким обыкновенно смеются все счастливые люди.
Мужик, слушая солдата, видно удивлялся его беспримерной храбрости, с которой он сватался за свою барски одетую жену, а суровое лицо работника постоялого двора как-то насмешливо и вместе крайне завистливо уставилось на рассказчика. Кухарка, подавши гостям щи, стала у перегородки, сложила на груди свои так редко праздные руки и умиленно вздыхала, потому, может быть, что ей было не суждено не только носить, но даже и видеть такое богатое платье, которое украшало солдатскую жену, когда она была невестой.
– Вот оно что значит военная служба-то! – удивлялся солдат после некоторого молчания. – Ко всему она человека приучит. Ты давича, дядя Петр, обедал, смотреть на тебя тошно мне было. Пыхтел ты над щами-то, ровно в воз тебя запрягли. А я вот, видишь, как живо дело обделал, потому солдату много ли надо? Ложечек триста свистнул да по избе шагов эдак двести отмотал скорым маршем – и аминь. Так-тось! Не очень мы, служивые люди, любим раздобарывать-то. За раздобары-то нас недолюбливают: бывало, эдак и по спине нашего брата за прохладу-то гладят. Что ж такое? – спрашивал солдат у дяди Петра, как будто самому ему дядя Петр жаловался на то, что ему за прохладу спину гладили. – Не доводи себя до этого –вот и не будут.
– Это точно, – согласился дядя Петр. – Вся сила в эфтом.
Работник подтвердил это положение знаменательным кивком головы, а кухарка, лишь только солдатик упомянул про глажение, тихомолком захлюпала.
– Да, бишь и забыл я вам давича про жену-то свою досказать, –неутомимо продолжал служивый, закуривая коротенькую трубку. -Вот теперь сам уж ты, Петр, все видел: и в какое она платье одета и какая она умница. Только и черти же необузданные эти мужичишки степные, посмотрю я на них! И ты, Петр, тоже, надо думать, дуб неотесанный, потому ты тоже мужик и в политике толку не знаешь. Ведь, лошади вы дикие, вы бы хоть то подумали: чем, дескать, мы, мужики, носы-то свои утираем? Ведь вы их ногами утираете-то!.. Сейчас издохнуть, ежели все вы, мужвари, не хуже идолов в тысячу раз! Да что с тобой толковать, с дураком. Ты, статуй эдакой деревянный, поди прежде в Питере да в Москве с мое поживи, тогда и приходи ко мне – я, может, с тобой и потолкую безделицу...
Дядя Петр действительно как деревянный статуй слушал ругательства солдата, ни слова не отвечая на них. Неожиданный переход от обыкновенного разговора к брани ошеломил его до такой степени, что он мог только пялить на солдата свои большие смирные глаза и улыбаться ему при каждом чествовании самым жалостным образом.
– Ты сам посуди: ну, не черти ли вы, степнина нераспаханная? – с большим ожесточением спрашивал солдат.
– Будет тебе, служивенький, ругаться-то. Што ты в самом деле пристал, государев ты воин храбрый, – проговорил наконец Петр с самой умилостивляющей улыбкой. – Ты вот лучше про жену-то свою еще бы что рассказал.
– Про жену? Про жену я тебе и толкую, шут новой ловли! Разве ты не видишь, к чему я речь подгоняю? Как же ты можешь теперь понять, куда я еду и зачем? В Астрахань я ездил к родным жену показать. У меня в Астраханской губернии, значит, родные есть: мать, братья женатые, сестры – такие же серые волки, как ты. Знаешь ли ты, сколько верст будет от Питера до Астрахани? Молчи уж лучше: где тебе знать, дураку! Мы вот с женой и поумнее тебя, да и то верстам-то счет потеряли. Только проехал я эти версты или нет, – сказывай? Проехал, мол. Не должны ли родные мои всячески уважить меня за это, – сказывай? Должны, мол. Так! Ну, слушай теперь. Приехал я к ним, пожил два дня, а на третий старший брат мне и говорит: "Ты, говорит, брат, ежели в долгую побывку приехал, так фатеру себе ищи". – "Как так?" –говорю. "Да так, говорит, милый ты мой, самим нам есть нечего, не токма что тебя с женой кормить". Я его сейчас и спрашиваю: "В солдаты, спрашиваю, не я за тебя, музлана, пошел? Не я разве, говорю, заместо тебя, может, на сраженья ходил?" – "Точно, говорит, это ты сказал настоящее дело; только ты прости мне мои слова грубые, потому, дескать, неурожай у нас каждый год, почитай, – малые дети наши с голоду мрут. Одного тебя мы бы, говорит, кое-как продержали, а уж с женой никак нам это, говорит, невмоготу". Очень я удивился, братец ты мой, как это он такие глупые речи про жену, не подумавши, разговаривает. "Фатеру, говорит, сыщи!" Чудно, право, мне это показалось. "Да ты, спрашиваю, видал ли когда в избе-то своей такую барыню, как моя жена? Как же ты, не рассудимши этого, фатеру мне велишь искать?" –"Ничего, говорит, не поделаешь. Ежели, примером, ты с женой будешь жить с нами, до новой ржи мы ни за что не дотянем". – "Да черт ты эдакой! –согрешил я тут, изругал его. – Ты, говорю, рассуди попристальнее-то: ведь она все равно что барыня". И тут не понял, заплакал только. Мать тоже пристала ко мне, и вся семья реветь по-коровьему принялась. "Мы, говорят, душою вам рады, да помереть с голоду боимся!" Плюнул я на них и уехал. Вот все вы, мужики, какие-то шуты несуразные! С вами, с дураками, сговоришь, што ли?
– А может, у них взаправду на мале хлеба-то оставалось? – не без страха возразил дядя Петр.
– На мале! Што ж такое? Ты прежде спроси, кто меня от запоя лечить выучил, да тогда и говори, что на мале. Жена меня выучила, а ей про то ее бабка сказала. Вот она у меня какая! Я тебе про это расскажу сейчас. Соскучилась ты у меня в дороге, барыня-сударыня, – обратился солдатик к своей жене, которая окончила в это время обед. – Сосни-ка ступай в телеге, там тебе прохладнее будет. Только ты погоди маленько, я тебя потешу немножко.
И он стал в бойкую позицию плясуна, подперся руками в бока и принялся выбивать ногами частую дробь.
Ой, я не сам трясусь,
Меня черти трясут... -
приговаривал с азартом солдатик. Жене, очевидно, пляс его доставлял большое удовольствие, потому что и она хлопала в такт ладонями и заливалась звонким, веселым смехом.
Суровый работник снисходительно смотрел на эту сцену, дядя Петр добродушно удивлялся ей, а кухарка положительно завидовала.
– Будет, будет тебе, шелопутник ты эдакий! – упрашивала мужа солдатка. – Со смеху ведь уморил меня.
– Не прикажите казнить, прикажите миловать, барыня! – отвечал плясун с видом человека, умоляющего о прощении, и с последним словом еще чаще затопал он ногами по шаткому, скрипучему полу постоялого двора и еще громче заорал свою приговорку:
Я не сам трясусь,
Меня черти трясут!
Жена не отставала от мужа. Звонче и веселее прежнего засмеялась она и усиленно захлопала ладонями.
– Што это ты, братец, безобразничаешь здесь? – величественно спросил у солдата вошедший в эту минуту человек в суконном вытертом сюртуке с медными пуговицами. – Я вашего брата за безобразие в три шеи со двора гоню.
– Вот он! – шепнул мне Теокритов. – Пожалуйста, постарайтесь не ссориться с ним. Очень дерзкое животное.
– Жену, ваше высокоблагородие, молодую тешу, а не безобразничаю, –отвечал солдатик, вытянувшись в струнку. – Она у меня, ваше высокоблагородие, умница, все равно, почитай что барыня. Не тешить ее мне ни под каким видом нельзя.
– Уж ты лучше, крупа, с балами-то своими дальше проваливай, а то я тебе шею накостыляю, – говорили медные пуговицы.
– Напрасно обижаться изволите, ваше высокоблагородие! – застенчиво говорил солдатик. – Ни в чем перед вашею милостью не причинны.
– Не причинны! Знаю я вас, куроцапов. Еще с двенадцатого года в казну-то вы задолжали крупой, и теперь не можете заплатить. Ха-ха-ха! За этот долг я тебя и вздую сейчас. А то толкует туда же: не причинны, говорит...
Голос обладателя медных пуговиц был необыкновенно строг и серьезен. Солдатик присмирел и всячески старался удержаться от возражений, потому что движения, которыми приказный пополнял свои фразы, носили не менее строгий и серьезный характер. Публика постоялого двора смиренно стояла на своих местах и со вниманием слушала, как барин распекает солдата. Вдруг барин неожиданно обратился к Теокритову.
– Ты кто такой? – грозно спросил он его.
– Все тот же! – отвечал Теокритов. – Залил глаза-то: родных перестал узнавать.
– А, это ты, брат? За сестру да за деда заступаться пришел. Хорошо! Ты кто такой? – кстати спросил приказный и меня. – Паспорт у тебя есть?
– Есть, – отвечал я. – Вот он.
Я показал ему свою толстую дорожную дубину.
– Ха-ха-ха! – разразился приказный. – Вот так молодец! Откуда ты? Хочешь, я тебе за твою смелость вина сейчас поднесу?
Я молча отодвинулся от него. Моя палка со свистом завертелась между моих пальцев.
– Вишь, спесивый какой! – бурчал он, злобно всматриваясь в меня.
Сестра Теокритова сидела в это время рядом с ним. Они шепотом разговаривали о необходимости разлуки, просили друг друга писать как можно чаще и не печалиться. Обняла брата несчастная женщина и ласкала его тем кротким взглядом, которым обыкновенно смотрят женщины на любимого человека, надолго или, может быть, навсегда прощаясь с ним.
– Как я буду тосковать об тебе! – шептала она. – А муж не велит мне говорить про тебя, он меня скоро в гроб вгонит.
Молодой человек мог сказать только одно слово в утешение сестры:
– Терпи. И тебе и ему бог за все заплатит.
– Я и терплю. Я ко всему привыкла, – говорила бедная женщина с той тихой покорностью тяжелой судьбе, которую некогда проявляли мученики.
– Так ты, брат, заступаться за сестру пришел? – снова начал приказный. – Я за нее заступаться должен: муж, а не брат. Столоначальником в палате был, студентом из семинарии вышел, а этого не понимаешь.
Теокритов молчал.
– Встань-ка, жена, на ноги, покажись мне: я на тебя посмотрю. Видела ты, как солдат сейчас свою жену тешил? Потешь теперь ты меня. Солдат! Какую ты побаску давеча приговаривал?
– "Ой! Я не сам трясусь, меня ч..." – начал было солдатик.
– Молчи! Дальше сам знаю. Пляши, жена! Брат к тебе в гости пришел.
Ой! Я не сам трясусь,
Меня черти трясут,
В буерак тащат,
Колотить жену велят.
И бедная женщина оставила брата и начала плясать под песню мужа. Лицо Теокритова побледнело и как-то особенно передернулось.
– Вот какие веселые мы с женой! Мы с нею всегда так-то веселимся. Так ведь, жена? Заступаться, друг мой сердечный, нечего за нее. Она сама любому человеку глаза выцарапает. Вот так всякого возьмет да по роже и цапнет. –При этом приказный ударил жену по лицу. – Это я для того ударил ее, чтобы тебе не ходить понапрасну. Пришел заступаться, так заступайся. Подавай теперь, Акулина, обедать. Мы с женой закусим немного, – обратился он к кухарке. – Милости просим обедать с нами, братец родимый.
– Спасибо за ласку! – отвечал Теокритов. – Вижу я, совсем ты зверем сделался, а с зверями обедать я не могу.
– Слышишь, жена, что твой брат говорит? Зверем он пугает меня, чтобы разлучить нас. Какой же я зверь? Зверь законов не знает, а я знаю. Вот тебе для памяти, чтобы и ты законы знала.
И он опять ее ударил.
– Ох, грехи наши тяжкие! – шептал дед, раскачивая свою седую голову.
Бедная женщина старалась удержать слезы; моя палка сама рвалась к бокам негодяя.
– Слышишь, жена, что дедушка говорит? Грехи, говорит, у него тяжкие есть. Ты что же их не замаливаешь? Вот тебе за это еще!
Без малейшего участия к семейной драме тощий солдатик с жаром рассказывал дяде Петру и суровому работнику о том, как жена научила его лечить от запоя.
– Барин мне давеча помешал, – басисто говорил работник, – а то я тебя просить хочу: полечил бы ты меня, потому пью я, братец мой, здорово запиваю! Я тебе чем хошь отвечаю, только вылечи.
– Кормилец ты мой! – шептал дядя Петр. – И меня полечи. Рубашку с крестом с себя сниму и тебе отдам. Помоги.
– Это можно! Что ж такое? По рублю-целковому с вас за науку кладу. Страсть как дешево!
– Законы-то ежели все подводить, так еще хуже бы женам от мужей пришлось, – поучал приказный на другом конце избы. – Так, Акулина?
– Што и говорить, батюшка! – смиренно отвечала кухарка. – Наша сестра глупа, кормилец ты мой; нашу сестру добру учить надоть.
– Видишь, жена, что Акулина говорит? – обратился приказный к жене. –Умница Акулина. Поди, садись обедать со мной, а ты подавай нам, жена, служи нам, потому ты глупей Акулины. Она законы знает, а ты не знаешь. Ступай.
И он вытолкнул ее из-за стола. Акулина с робостью заняла ее место.
– Сам я, братцы мои, до женитьбы здорово заливал, так-то здорово –бесился даже, когда, бывало, запью!.. Придет это мне, бывало, на ум: ах, мол, выпить бы теперь куда хорошо! А денег нет ни копейки. Завертит так-то, бывало, на душе, так-то зло завертит: жизни нe рад! И вином это сейчас так ли сладко запахнет, – дело на ум нейдет. Я же, милые мои, сапожное дело в полковой швальне работал; так штрумент, какой под руку попадет, возьмешь, да в кабак его и ухнешь... Как же меня за это паривали, бывало, страсть!.. Экой зверь лютый! – шепотом заметил солдатик про приказного, – как это здорово знает он к бабе придраться! Вишь, как колотит сердечную!.. Только что же? Уймусь на неделю-другую после бани-то, а там опять за свое. Уж и знал, что шкуру с меня за казенные штрументы до самых ног спустят, а не стерплю, потому по целым дням жжет это нутро-то. Теперь, слава богу, прошло! Только как жена дала мне лекарство это бабкино выпить, что только сделалось со мною – сказать не могу! Обмер я, братцы мои, и упал; упал и ничего-то не помню я, что было со мной. Встал только я, а жена мне и говорит: "Смотри, говорит, кто в твоем сердце сидел и водки спрашивал". Гляжу я, а червяк-то запойный и ползет по полу, такой-то ли скаред страшный, ей-богу, мышь не мышь, червь не червь, так гадина какая-то в шерсти вся и носом водит-водит так-то ли пристально: "Где, мол, это я нахожусь? Есть вино-то здесь, што ли?" Как это прихлопну я того червяка сапогом, а жена...
– Вот же тебе, собака ты бешеная! – вскрикнул вдруг Теокритов.
Я совсем было заслушался солдатского рассказа и не видал дальнейших проделок приказного с своей несчастною женой.
– Уходите поскорее, – торопил меня Теокритов. – В свидетели, пожалуй, зацепят вас, в острог еще засадят...
Лицо сестры его было все в крови. Барин держал в руках столовый ножик и орал:
– Засвидетельствуйте, православные! Острым орудием удар мне нанесен.
Сквозь сюртук его, начинаясь немного пониже правого плеча, просачивалась струя крови, затемняя собой блеск медных пуговиц.
– Вона, малай, разбой тут приключился! – с ужасом закричал солдату дядя Петр. – Што ты теперь будешь делать?
– Бери-ка скорей шапку да запрягать побежим, – суетился солдатик. –Вот что делать тут нужно.
И они выбежали из избы.
– Острым орудием удар мне... Ой, батюшки! Свет в глазах меркнет... –кричал приказный, растянувшись на лавке.
Вместо того чтобы остаться на месте до конца и быть добросовестным свидетелем дела, я бессознательно тоже выбежал из избы и усиленно зашагал по дороге, потому что живо вспомнился мне в это время маленький бедный домишко сестры моей, к которой я шел теперь, – вспомнилось, что теперь именно то время, когда в уездных городках расходятся по домам из судов пьяные приказные бить своих жен. И таким образом долго бежал я в беспамятстве, стараясь предупредить приход мужа сестры моей, тоже приказного...
Горе пьющее и горе излечивающее, то есть тощий солдатик и дядя Петр, в одно время со мной вылетели из ворот вскачь на своих поджарых лошаденках и стремглав бросились в разные стороны проезжей степной дороги...
...Шел я – и опять думал о скорбевших некогда и скорбящих теперь на этой дороге. В ее застланной пыльными туманами дали рисовались мне лица, захлестанные зимними вьюгами и проливными летними дождями, иссушенные летним зноем и страшным трудом – идти по ней, бесконечной, заваленной или снежными сугробами, или песками горючими.
Давнишний житель больших городов, я начал уже забывать картины и лица степной дороги. Моя память отказывалась напомнить мне подробности разнообразного горя, которое так давно ходит по этой дороге, измученное, истерзанное, обезумевшее и окаменевшее в своих страданиях до полного равнодушия к ним.
Волнами света залило пустыню яркое солнце. Каждая песчинка блещет в глаза граненым алмазом, но свет ничуть не развеселяет картины. Угрюмо хмурятся густые вешки, а издали, человек словно, машет и зовет вас к себе великан-верста, как будто от тяжелого удара чьего покачнувшаяся набок. Дощечки, прикрепленные к ее верхушке, с одной стороны обиты кем-то; самая верхушка, в этом месте раздолбленная плотником-дятлом и прогнившая, кажет вам смертную рану человека, у которого разнесен череп лихим кистенем лихого степного молодца...
Все более и более я начинаю припоминать вас, лица и сцены проезжей степной дороги!
Позади меня раздались чьи-то спешные шаги. Со мной поравнялся человек огромного роста. Серое сукно его свиты изветшало до такой степени, что кажется сотканным из паутины. Из его лаптей выглядывали наружу пальцы, сбитые дорожными камнями, исколотые погоревшей и колючею травой дорожных тротуаров.
Всего меня окинул странник своим острым взглядом, так что, кажется мне, я никогда не забуду этого лица, почерневшего на солнце, как сажа, обросшего густой черной бородой, серьезного, каменного, так сказать, лица, которого так боятся крестьянские дети, когда они, оставленные отцами и матерями домоседничать, вдруг завидят, что с того конца деревни идет к ним какой-то незнакомый, пугающий дядя. Смотрят, смотрят издали дети, как подходит к ним дядя своими широкими, мерными шагами, и когда он подойдет к ним настолько, что они увидят его бесстрастное, угрюмое лицо вместо ожидаемых ласковых лиц отца и матери, – стремглав бросаются от него в разные стороны и мгновенно запрятываются по молчаливым гумнам, по темным хлевам, по жарким до удушливости подпечьям. А молчаливый дядя равнодушно идет по оставленной деревне, нисколько не интересуясь тайными причинами, которые не дают обрушиться ее старой деревянной церкви, – так заботливо наклонил он вниз свою голову, что ни резные коньки, украшающие верхи деревенских изб, ни длинноногие солдатики, измалеванные зеленой краской на скрипучих воротах, очевидно вовсе не занимают его, потому что одинокая бродячая жизнь приучила странника к молчанию. Дива разных краев сделали его равнодушным к обыкновенным видам степного села. Смотря на нашу степь, он, может быть, вспоминает теперь пустынность степей прикаспийских или в локов соловецких; солнце, позолотившее теперь старую, развалившуюся сельскую церковь, переносит его мысли под солнце Киева или даже Иерусалима, еще более яркою позолотой обливающее там великолепные храмы, а потому и живой человек не оживил проезжей степной дороги. Молчаливо печальный и равнодушный, как самая дорога, спешит он мимо меня смотреть новые страны, новые дива. И опять я остался один...
Я стараюсь определить себе, какой именно из типов проезжей степной дороги промелькнул сейчас мимо меня. Будь это, думаю я, мещанин-одиночка, оплевавший несправедливый приговор мироедов, присуждающий его в солдаты без вины и очереди, у него непременно в руках была бы гармоника, а из длинного голенища выглядывал бы узорчатый чубук самодельной кореньковой трубки. Знаю я: весело он вступил бы со мной в разговор, назвал бы себя главным приказчиком самого богатого в околотке купца, а после выкуренной пополам трубки и лихим манером сыгранной и спетой песни, он сперва обиняками, а потом, не утерпевши, прямо рассказал бы мне свое лютое горе, которым, говоря словами его песни, он, "мальчонка разнесчастный, своей родины лишен"... Точно так же нельзя было назвать угрюмого человека и тем божьим странничком, жизнь которого прошла в непрерывной молитве и в трудных переходах из одного монастыря в другой, потому что такой странник при встрече со мной непременно приветствовал бы меня добрым желанием мира и спасения души моей. Может, впрочем, это был несчастный смерд, сорвавшийся с барской рогатки. Этот смерд действительно мог быть таким же печальным и молчаливым, как и человек, встретившийся со мной, но только не прошел бы он мимо меня, не сорвав с меня моего короткого немецкого сюртука...
– Кто же это, кто же это такой? – усиленно добивался я.
Наконец я вспомнил тебя, диво степное, молодец-непоседа! Редко родишься ты у нас на степях, и недолго дивимся мы на тебя, смотря на твою необыкновенную сметку во всех делах и на твою необыкновенную лень ко всяким делам. Недолго смеемся мы твоему редкому, непонятному нам разгульному веселью, и тоску твою, всегдашнюю почти, редко нам приходится до конца просмеять, потому что еще в молодые годы вдруг скрываешься ты навсегда из родимых мест и уходишь куда-то размыкивать и тоску твою чудную, и веселье твое беспричинное. Долго после твоего ухода дивимся мы на тебя, долго рассуждаем и смеемся жизни твоей, нелюдской до конца от начала, когда раскладываем на весь мир подать, какую твоей душе хитрой платить следовало; а тут нам изредка слухи про тебя от странних людей, от побывочных солдат, от годовых извозчиков какие-то чудные идут.
– Видели мы, – одни сказывают, – Мишку Кочетова в Иркутской губернии. Такой-то ли купчина богатый стал, рукой не достанешь. Поклон всему селу с нами послал, а Николаю-угоднику ризу золотую, каменьем драгоценным изукрашенную, да в церковь приходскую на украшение ассигнацией тысячу рублев, да приятелю своему сладкому Ваньке Сизому, с которым одним только во всем селе и водился он, сто рублев да синюю чуйку, по краям оторочка черного плису.
– Иду я так-то, братцы мои, – рассказывает мужикам и мещанам в сельской лавке отставной солдат, – дело под вечер было, и думаю: как бы до ночи добраться, потому степью я шел, самою то есть безлюдною степью. В другой раз целый день по той степи идешь, ни кола ни двора не увидишь. А город тот, к которому я подходил, Бендерами прозывается: от турков он нашими взят. Только и слышу я, словно бы колокольчик звенит: едет, значит, кто-нибудь, подумал я и обрадовался, потому редки в тех степях живые люди. И точно, вижу я, тройка мне навстречу катит с барином. "Стой, ямщик! – кричит барин ямщику. – Есть, спрашивает, огонь у тебя, солдат?" – "Извольте, говорю, ваше благородие". Раскурил я ему трубку; трубку, огниво и кремень купил он у меня, потому забыл в городе снаряду-то этого закупить, а сам так-то ли пристально в меня всматривается. "Я тебя, говорит, знаю, солдат. Ты, говорит, из-под Усмани, а зовут тебя Трофим Шаромыга?" – "Точно так, говорю, ваше благородие!" Приказал он тут ямщику в степь лошадей своротить и распречь их. Слуге велел самовар ставить, а меня рядом с собой посадил и разговор про наше село повел. Смотрю я на него и думаю про себя: где это я того барина видал? А он-то меня угощает: чаю и вина даже досыта я у него напился. Целовал он меня все равно как родного, как прощаться стал, а я все дивлюсь, за что это господин полюбил меня! Да уж, как в телегу стал он садиться, и говорит мне: "Вот что, говорит, Трофим! Ты теперь к родным в свое село идешь; там и у меня родители есть. Я, говорит, Михайло Кочетов. Знай ты это!.." Пошатнуло меня даже от этих слов: испужался очень. "Не пужайся, говорит, Шаромыга! Вот тебе на дорогу десятка, а вот это, говорит, матери моей в гостинец снеси", – и еще сторублевую подал. В первый раз, братцы мои, сторублевую я увидал тут. Вдосталь дорогой я на нее насмотрелся. Иду, иду, бывало, скучно мне сделается, – я выну ее из нагрудника и примусь глядеть.
– Какая же она? – спросил кто-то из слушателей.
– Радугами, братец ты мой, красными вся изукрашена, – отвечает солдат. – Да словами про нее и изобразить тебе невозможно. Ты поди к Кочетихе, она тебе даст посмотреть, слова не скажет. Она ту бумажку до конца света не станет менять.
– Ну уж, братцы, чуден Кочетов! – продолжается речь про Михайлу. –Полетал-таки по чужим сторонам Кочеток наш!
– А слышали, что про него извозчики прошлой зимой толковали? –следует вопрос.
– Что, что такое?
– Ехали они, сударики мои, из Москвы по тульской дороге. Каменка тут, а по обеим-то сторонам ее лес. Только и видят они, в сторонке от дороги, в буерачке, кучка народу стоит. Слезли взглянуть: что, дескать, такое деется в буерачке? А тут земские из ближнего села с понятыми наехали мертвое тело поднять. Как раз с теми извозчиками крестный Михайлин был, тоже извозчик, богатый мужчина из-под Рязани, с стариком-то с Кочетом самыми, то есть, закадычными приятелями считались. Смотрит он на тело и признает, знакомое будто чье-то лицо. Принялись тут земские раздевать мертвое тело и одежду записывать, а крестный на мертвеце крест увидал точь-в-точь такой, какой он Михайле на крестины купил. Когда извозчик рассказывал нам про смерть крестника, дюже просил всех, чтобы мы матери Кочетова не разбалтывали, как ее сын помер, потому и теперь все еще поджидает старуха сына и каждую службу церковную свечи про его здоровье становит.
– Вот каков был конец твой, голова удалая, до новых людей и до новых краев жадная! Упокой господь душу твою ходячую! – желают Кочетову лавочные разговоры.
А там, смотришь, в той же лавке через год опять толкуют:
– Ведь ошибся, братцы, извозчик-то, про смерть Кочетова что сказывал нам. Видели его наши богомолки, когда в Соловецкий ходили, под городом Устюгом: "В иеромонахи, говорит, за грехи мои произведен..." Матери своей еще денег с ними прислал.
И много их, таких молодцов, расхаживало некогда по проезжей степной дороге и теперь расхаживает по ней. Много их сложило на ней свои буйные головы, о чем так жалобно говорят наши степные песни...
Едет мужик по дороге, а издали навстречу к нему подходит высокий зеленый курган. Взглянет лишь только мужик на этот курган – и все песни, которым он еще ребенком учился, все рассказы, каких он от слепых стариков наслушался, – все вспоминаются ему в это время. Вспомнятся ему эти песни, и запоет мужик про смертный завет молодца удалого, которым он просит положить его на вечный сон между трех дорог, "меж московской, астраханской, славной киевской..."
Едет мужик и поет – поет и вспоминает, как ходили по степным дорогам молодцы, курганами теперь зелеными плотно прикрытые...
Иду я и пою, как ходили по степным дорогам молодцы, курганами теперь зелеными плотно прикрытые, пою и вспоминаю, как, по рассказам девяностолетней бабки моей, гибли они на проезжей степной дороге и разными одиночками и дружными гурьбами...
Страшно мне идти по тебе, пустынная, молчаливая степь! Слышу я, как сверху, из-под Москвы должно быть, звонко скачут за мной лихие конники запорожцы, а снизу, из Астрахани, словно волжские грозные волны, плывут прямо на меня беспощадные ватаги проклятого Стеньки Разина!..
Но я болезненно забылся в твоей тайной, подавляющей пустынности, родная степь! То шагает куда-то нынешний стройный батальон, сверкая светлыми дулами, кроваво освещенными последними лучами заходящего солнца...
Эх ты, проезжая степная дорога, широкая, вдоль и поперек потом и кровью залитая! Когда это так же часто будет ходить по тебе светлая радость людская, как часто ходит теперь по тебе людское темное горе!..
1862