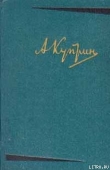Текст книги "Прапорщик армейский"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Куприн Александр
* * * *
Прапорщик армейский
Предисловие
Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожа на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского.[1]1
…и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского. – Эмин Федор Алексаандрович (ок. 1735–1770) – русский писатель и журналист, автор романов «Письма Эрнеста и Доравры», «Непостоянная фортуна, или Приключения Мирамонда» и др.; «Оракул Соломона» – гадательная книга, изданная в 1774 г. в Петербурге; письмовник Курганова – своеобразная энциклопедия XVIII в., составитель ее Курганов Н. Г. (1726–1796), ввел в своей труд сведения по грамматике, свод русских пословиц, переводные повести, шутки, загадки, стихи, словать иностранных слов и т. п.; «Иван Выжигин» – роман реакционного писателя Ф. В. Булгарина (1789–1859); Марлинский А. А. (Бестужев) (1797–1837) – писатель-декабрист, автор широко популярных в 30-х годах XIX в. романтических повестей: «Лейтенант Белозор», «Аммалат Бек» и др.
[Закрыть] Между книгами попадались письма и бумаги, большею частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольна толстая пачка, свернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего приятеля. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной шершавой бристольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листков стояла подпись: «Кэт», а на некоторых – просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма Кэт писаны приблизительно в одно и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за двадцать пять до наших дней. Не зная, что сделать со своей находкой, приятель переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателей, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков вроде кавычек, скобок.
5 сентября. Скука, скука и еще раз скука!.. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятия в роте:
– Ефименко, что такое часовой?
– Часовой – есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
– Почему же он лицо неприкосновенное?
– Потому, что до его нихто не смие доторкнуться, ваше благородие.
– Садись. Ткачук, что такое часовой?
– Часовой – есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
И так без конца…
Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадается в супе мозговая кость – это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое… Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-льба шеренгою».
Сколько раз начинал я этот самый дневник… Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь и которая теперь так же, как и я, томится от тоски.
Разве я не имею права на счастье? Я неглуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен, хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское. Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте.
В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтоб потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но возможно ярче и полнее… Однако дни проходили за днями, по-прежнему тягучие и однообразные… Необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным сором при переезде на новую квартиру.
7 сентября. Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и роты одна за другой уходят копать бураки у окрестных помещиков, остались только наша да 11-я. Город точно вымер. Эта пыльная и душная жара, это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым ораньем петухов, – раздражают и угнетают меня…
Право, мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо тяжелыми! Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании! Вот и в настоящую минуту я представляю себе: раннее утро… солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двухскатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском… Бивуак ожил и закопошился… Слышится беготня, сдержанные сердитые голоса, лязг ружей, ржанье обозных лошадей. Сделав над собой усилие, выползаешь из-под мохнатого одеяла, шерсть которого сделалась сверху совсем мокрой от ночной росы, выползаешь прямо на воздух, потому что в низкой палатке стоять нельзя, а можно только лежать или сидеть. Денщик, только что усердно раздувавший своим сапогом жестяной самовар-паучок (что ему, конечно, строжайше запрещено), кидается за водой и приносит ее прямо из ключевого ручья в медном походном котелке. Раздевшись до пояса, умываешься на чистом воздухе и видишь, как от рук, от лица и от тела вьется тонкий розоватый парок… Кое-где, между палатками, офицеры устроили импровизированные костры из той самой соломы, на которой провели ночь, и расселись вокруг, ежась от холода и торопливо глотая горячий чай. Еще несколько минут – и палатки сняты: на том месте, где только что раскидывался «бел город полотняный», валяются лишь в беспорядке пучки соломы и куски бумаги… Гам встревоженного бивуака растет. Все поле кишит солдатскими фигурами в белых рубахах, с серыми скатанными шинелями через плечо. Сначала кажется, что в этой серой муравьиной суете нет никакого порядка, но опытный взгляд заметит, как из нее образуются мало-помалу густые кучки и как постепенно каждая кучка развертывается в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бегут к своим ротам, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с патронными сумками. Еще минута – и роты, бряцнув одна за другой ружьями, сходятся на середину поля в правильный огромный четырехугольник.
А потом утомительный тридцати-сорокаверстный переход. Солнце подымается все выше и выше. К восьми часам утра жара уже дает себя заметно чувствовать, солдаты начинают скучать и поют неохотно, стройные ряды разрозниваются. Пыль с каждой минутой становится гуще, она окутывает длинным желтым облаком всю колонну, медленно, на протяжении целой версты, извивающуюся вдоль дороги; она садится коричневым налетом на солдатские рубахи и на солдатские лица, на темном фоне которых особенно ярко, точно у негров, блестят белки и зубы. В густой запыленной колонне трудно отличить солдата от офицера. Также на время как будто ослабевает между ними иерархическая разница, и тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его метким взглядом на всевозможные явления, – даже на такие сложные, как корпусный маневр, – с его практичностью, с его уменьем всюду и ко всему приспособляться, с его хлестким образным словом, приправленным крупной солью, которую пропускаешь между ушей. Что бы и кто бы ни встретился по дороге: хохол в широких белых шароварах, лениво идущий рядом с парой сивых круторогих волов, придорожная корчма, еврейская «балагула»,[2]2
Балагула – экипаж (евр.).
[Закрыть] бархатное поле, распаханное под озими, – все вызывает его пытливые вопросы и замечания, дышащие то глубоким, почти философским пониманием простой обыденной жизни, то резким сарказмом, то неудержимым потоком веселья…
Начинает темнеть, когда полк подходит к месту ночлега. Видны уже кашевары около больших дымящихся ротных котлов, расставленных в поле, в стороне от дороги… Стой!.. Ружья в козлы!.. В один миг поле покрывается стройными рядами белых шалашиков… И вот через час или два опять лежишь под дырявым полотном, сквозь которое видны яркие мерцающие звезды на темном небе, и прислушиваешься, как угомоняется постепенно сонный лагерь. И еще долго-долго слышатся откуда-то издали отдельные звуки, смягчаемые грустной тишиной вечера: то коснется до слуха однообразное пиликанье гармоники, то сердитый без сомнения, фельдфебельский голос, то внезапно вырвавшееся звонкое ржание жеребенка… А сено, лежащее под головой, примешивает в это время свой тонкий аромат к резкому, горьковатому запаху росистой травы.
8 сентября. Сегодня мой «ротный», Василий Акинфиевич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы. Он заключил для роты очень выгодное условие – чуть не по 21/2 копейки за пуд – с управляющим господина Обольянинова. Работа будет заключаться в копании бураков для местного свекло-сахарного завода. Она неутомительна для солдат, и исполняют они ее очень охотно. Все эти обстоятельства, должно быть, и привели ротного в такое радужное настроение духа, что он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, буде я соглашусь ехать, уступает в мою пользу полтора рубля из выговоренных им для себя суточных денег. Другие командиры рот никогда еще не проявляли по отношению к субалтерн-офицерам такого великодушия.
Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфиевичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность. Во время ротного учения он, не стесняясь солдатами, кричит на младшего офицера: «Поручик, извольте держать равнение! Идете, точно отец дьякон в похоронной процессии!» Если это и остроумно, то зато безжалостно и нетактично.
С солдатами Василий Акинфиевич изволит иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него господа взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой мере исправления. Солдаты его любят и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфиевич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже и собственных рублей двадцать пять в месяц прибавит, что Василий Акинфиевич своего в обиду не даст, а, наоборот, за него хоть с самим полковым погрызется. Знают все это, и я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфиевичем, не колеблясь, хоть на самую очевидную смерть.
Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему «благородному». В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом франтовстве, манерничанье, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородный» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки и притом отчаянно фатовским тоном, так что у него выходит нечто вроде «бэгэрэдный». Впрочем, надо оговориться, что Василий Акинфиевич тянул служебную лямку с солдатских чинов. А в ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским бурбонам от завитых и напомаженных армейских моншеров.
С людьми он сходится туго, как и всякий закоренелый холостяк, но, полюбив кого-нибудь, открывает ему вместе с карманом свою наивную, добрую и чистую душу. Но, даже и открывая душу, Василий Акинфиевич не перестает ни на минуту сквернословить, – это тоже его дурная черта.
Меня он, кажется, по-своему любит – я все-таки недурной фронтовик. В минуты денежного кризиса я свободно черпаю из его кошелька, и он никогда не торопит отдачей долга. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапором. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки любят его употреблять в ласкательно-игривом смысле, в память дней своей юности.
Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на мелочные заботы об антабках и трынчиках. Жаль мне бедности его мысли, никогда даже не интересовавшейся тем, что делается за этим узеньким кругозором. Жаль мне его, одним словом, той жалостью, что невольно охватывает душу, если долго и пристально глядишь в глаза очень умной собаки…
Я ловлю себя… А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль?.. Нет, Василий Акинфиевич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни, вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые и красные морды, что смотреть весело… А я?..
Я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня? Управляющий… у него жена, две дочки, два-три соседних помещика, может быть, маленький романчик?..
Завтра выступаем.
11 сентября. Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию «Конский брод». Оказалось, что управляющий имения, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за Василием Акинфиевичем и за мной коляску. Черт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком! Четверня цугом породистых, прекрасных лошадей, резиновые шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе, а на козлах здоровенный детина, одетый не то казачком, не то грумом: в клеенчатом картузе и в красном шарфе вместо пояса. До Ольховатки верст восемь. Дорога чудная: с обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы возов, нагруженные доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфиевич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около ста тысяч пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности если принять во внимание, что Обольянинов – единственный хозяин предприятия.
В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая – Бергер, но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он похож на того Фальстафа,[3]3
…похож на того Фальстафа. – Фальстаф – персонаж из пьес Шекспира «Король Генрих IV» и «Виндзорские кумушки» – плут и обжора.
[Закрыть] которого я видел где-то на выставке, кажется в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию генерального штаба. Толст он необычайно, жир так и сквозит, так и лоснится у него на отвислых щеках, покрытых сетью мелких красных жилок; волосы на голове – короткие, прямые, с проседью, усы торчат воинственными щетками, короткая эспаньолка под нижней губой; глаза под густыми взъерошенными бровями быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул; губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого, беззастенчивого и очень наблюдательного человека. При этом он, должно быть, глух, потому что в разговоре отчаянно кричит.
Я думаю, Бергер нам искренне обрадовался. Таким людям, как он, собеседник и собутыльник нужнее воздуха. Он ежеминутно подбегал то ко мне, то к капитану, обнимал нас за талию и все приговаривал: «Милости просим, господа, милости просим». Василию Акинфиевичу он, к моему немалому удивлению, понравился. Мне – тоже.
Бергер проводил нас во флигель, где нам приготовлены четыре комнаты, снабженные всем нужным и ненужным с такой щедрой заботливостью, как будто бы мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на три. Капитан, по-видимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны хозяев. Только один раз, именно, когда Бергер, выдвинув ящик письменного стола, показал поставленную для нас целую коробку длинных ароматных сигар, Василий Акинфиевич пробурчал вполголоса:
– Ну, уж это лишнее… это уж бэгэрэдство и всякая такая вещь. (Я и забыл упомянуть об его привычке прибавлять чуть ли не к каждому слову: «и всякая такая вещь». Вообще он не из красноречивых капитанов.)
Вводя нас, так сказать, во владение, Бергер очень много суетился и кричал. Мы его усиленно благодарили. Наконец он, по-видимому, устал и, обтирая лицо огромным красным платком, спросил: не нужно ли нам еще чего-нибудь? Мы, конечно, поспешили его уверить, что нам и так всего более чем достаточно. Уходя, Бергер сказал:
– Сейчас я вам пришлю казачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам. Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодной телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер.
– Кушаете? Ну и прекрасно, – сказал он. – А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Еще мой покойный фатер воспитывал его лет двадцать в своем собственном имении… У нас под Гайсином собственное имение было… Вы не думайте, пожалуйста: мы, Бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Собственно, у меня есть даже права на баронский титул, но… к чему?.. Дворянские гербы любят позолоту, а на нашем она давно стерлась. Милости прошу, господа защитники престола и отечества!
Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности он извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана каламянкового пиджака, я скорее склонен думать, что старое венгерское воспитывалось в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино – действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жесты их обычной выразительности и делает неповоротливым язык, но голова остается все время ясной, а дух – веселым.
Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о его оранжерее и конюшнях, о жалованье, которое он платит служащим. Самого себя Бергер сначала отрекомендовал главноуправляющим всеми делами. Но через полчаса он проболтался: оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстаф занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель Ольховатской усадьбы, попросту – эконом, и получает девятьсот рублей в год на всем готовом, кроме платья.
– И куда столько добра одному человеку! – воскликнул наивно капитан, видимо, пораженный теми колоссальными цифрами наших доходов и наших расходов, которыми так щедро сыпал Фальстаф.
Фальстаф сделал лукавое лицо.
– Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек, – он игриво ткнул меня большим пальцем в бок, – ну-ка, возьмите да женитесь… Тогда и меня, старика, не забудете…
Я спросил с небрежным видом человека, видавшего виды:
– И хорошенькая?
Фальстаф так и побагровел от хохота.
– Ага! Забирает? Прекрасно, воин, прекрасно… Атака с места в карьер. Тра-там-та-та-та. Люблю, когда по-военному. – Потом он вдруг, точно от нажима пружинки, сразу перестал смеяться и прибавил: – Как вам сказать?.. На чей вкус… Уж очень она того… субтильна. Жидка больно…
– Бэгэрэдство! – вставил капитан, скривив рот.
– Этого сколько угодно. Гордая. Соседей знать не хочет. У! Бедовая. Прислуга ее пуще огня боится… И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побранила бы. И – никогда! Принесите то-то. Сделайте то-то… Ступайте… И все это так холодно, не шевеля губами!
– Бэгэрэдство! – сказал капитан и презрительно шмыгнул носом.
Так мы просидели часов до одиннадцати.
Под конец Фальстаф совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это по правде сказать, сильно расстраивает мои планы.
Странное дело: как ужасно долго тянется день на новом месте и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. Вот я пишу теперь эти строки, и мне кажется, что я уже давным-давно, по крайней мере месяца два, живу в Ольховатке и что моя уставшая память никак не может зацепиться ни за одно событие.
12 сентября. Сегодня я осмотрел почти всю Ольховатскую экономию… Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац, – одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя львами на подъезде. Вчера он мне показался не таким большим, как сегодня. Перед домом разбиты клумбы; дорожки между ними посыпаны красным песком; посредине фонтан и блестящие шары на тумбах, вокруг – легкий забор из проволочной колючей решетки. За домом – флигель, службы, скотный и птичий дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на трех-четырех десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди.
Я впервые в моей жизни живу так близко, бок о бок, с людьми, тратящими на себя в год десятки, может быть, даже сотни тысяч, с людьми, почти не знающими, что значит «не мочь» чего-нибудь. Блуждая без всякой цели по саду, я никак не мог оторвать мыслей от этого непонятного, чуждого мне и в то же время такого привлекательного существования. Что это за люди? Так ли они думают и чувствуют, как и мы? Чувствуют ли они преимущество своего положения? Приходят ли им в голову те будничные мелочи, которые гнетут нашу жизнь, знают ли они о том, что мы испытываем, соприкасаясь с их высшим миром? Я склонен думать, что они все-таки ни о чем этом не думают и никаких пытливых вопросов себе не задают, и серое однообразие нашей жизни им кажется таким же неинтересным, таким же естественным и таким же для нас привычным и незаметным, каким кажется мне мировоззрение хотя бы моего денщика Пархоменки. Это все, конечно, в порядке вещей, но моя гордость почему-то бунтуется. Меня возмущает сознание, что в обществе этих людей, отшлифованных и вылощенных вековой привычкой к роскоши и утонченному этикету, «я», именно «я», а не кто другой, буду смешон, дик, даже неприятен моей манерой есть и жестикулировать, моими выражениями и наружностью, может быть, вкусами и знакомствами… Одним словом, во мне ропщет человек, созданный по образу и по подобию божию, но – или потерявший то и другое стечением времени, или обокраденный кем-то…
Воображаю, как фыркнул бы мой Василий Акинфиевич, если бы я ему прочитал вслух эти размышления!
13 сентября. Хотя сегодня и роковое число – чертова дюжина, но день выдался очень интересный.
Я опять бродил сегодня по саду. Не помню, где я вычитал сравнение осенней природы с той изумительной неожиданной прелестью, какую иногда приобретают лица молодых женщин, обреченных на верную и скорую смерть от чахотки. Нынче это странное сравнение не выходит у меня из головы…
В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих кленов. Под ногами шуршат желтые, мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пестро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зеленые ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпурный. Небо густое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор. И во всем этом ярком празднике смерти чувствуется безотчетная томная грусть, от которой сердце сжимается медленной и сладкой болью.
Я шел вдоль длинной аллеи акаций, сплетающихся над головой сплошным полутемным сводом. Вдруг до моего слуха коснулся женский голос, говоривший что-то с большим оживлением и смехом. На скамейке, в том месте, где густая стена акаций образовывала что-то вроде ниши, сидели две девушки. (Я так сразу и подумал, что это девушки. Потом мое предположение сразу оправдалось.) Их лиц я не успел хорошенько рассмотреть, но заметил, что у старшей, брюнетки, задорный, сочный тип малороссиянки, а младшая выглядывает подростком, на голове у нее небрежно накинут белый шелковый платок, надвинутый углом на лоб и потому скрывающий волосы и всю верхнюю часть лица. Но мне все-таки удалось увидеть ее смеющиеся розовые губы и веселое сверкание белых зубов в то время, когда, не замечая моего приближения, она продолжала рассказывать на английском языке что-то, вероятно, очень забавное своей соседке.
Некоторое время я колебался: идти ли мне дальше, или вернуться? И если идти, то кланяться им или нет? Мною опять овладели вчерашние сомнения плебейской души. С одной стороны, думал я, эти девушки если не здешние хозяйки, то, наверное, – гостьи, я в некотором роде тоже гость и потому с ними равноправен… Но, с другой стороны, позволяет ли Герман Гоппе[4]4
Герман Гоппе – Гоппе Г. (1836–1885) – издатель журнала «Моды и новости» в котором печатались правила хорошего тона.
[Закрыть] в своих правилах светского такта кланяться незнакомым дамам? Не покажется ли барышням мой поклон смешным, или, что еще хуже, не сочтут ли они его за знак подчиненности служащего, «наемного человека»? И то и другое представлялось мне одинаково ужасным.
Однако, размышляя таким образом, я продолжал подвигаться вперед. Брюнетка первая услышала шум сухих листьев под моими ногами и что-то быстро шепнула барышне в шелковом платке, указывая на меня глазами.
Поравнявшись с ними, но не глядя на них, я прикоснулся пальцами к фуражке и не увидел, а скорее почувствовал, что обе они медленно и едва заметно наклонили головы. Они следили за мной, когда я удалялся: это я узнал по той сковывавшей движения неловкости, которую я всегда испытываю от устремленных на меня сзади пристальных взглядов. На самом конце аллеи я обернулся. В ту же секунду, как это часто бывает, обернулась в мою сторону и барышня в белом платке. До меня донеслось какое-то английское восклицание и звонкий смех. Я покраснел. И восклицание и смех относились, несомненно, к моей особе.
Вечером опять приходил Фальстаф, на этот раз с каким-то изумительным коньяком, и опять рассказывал что-то невероятное о своих предках, участвовавших в крестовых походах. Я его спросил как будто бы нечаянно:
– Вы не знаете, кто эти две барышни, которых я встретил сегодня в саду? Одна брюнетка, такая свеженькая, а другая, почти девочка, в светло-сером платье?
Он широко улыбнулся, отчего все лицо его сморщилось, а глаза совершенно исчезли, и лукаво погрозил мне пальцем:
– Ага! Попался на удочку, сын Марса! Ну, ну, ну, не сердись… не буду, не буду… А все-таки интересно?.. А?.. Ну, уж так и быть, удовлетворю ваше любопытство. Которая помоложе – это молодая барышня, Катерина Андреевна, вот, что я вам говорил, наследница-то… Только какая же она девочка? Разве что на вид такая щупленькая, а ей добрых лет двадцать будет…
– Неужели?
– Да-а! Если еще не больше… У! Это такой бесенок… Вот брюнеточка – так она в моем вкусе… этакая сдобненькая, – Фальстаф плотоядно причмокнул губами, – люблю таких пышечек. Ее звать Лидией Ивановной… Простая такая, добрая девушка, и замуж ей страсть как хочется выскочить… Она Обольяниновым какой-то дальней родственницей приходится, по матери, но бедная, – вот и гостит теперь на линии подруги… А впрочем, ну их всех в болото! – заключил он неожиданно и махнул рукой. – Давайте коньяк пить.
С последним доводом я не мог внутренне не согласиться. Что мне за дело до этих девушек, с которыми я сегодня увиделся, а завтра мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда даже не услышать друг о друге?
Поздно ночью, по уходе Фальстафа (казачок опять почтительно поддерживал его за талию), когда я уже был в постели, Василий Акинфиевич пришел ко мне в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и со свечой в руке.
– А ну-ка, объясните мне, умный человек, одну штуку, – сказал он, зевая и почесывая волосатую грудь. – Вот нас и кормят здесь всякими деликатесами, и винищем этим самым поят, и казачка приставили, и сигары, и всякая такая вещь… А к столу, к своему-то, нас ведь не приглашают. Отчего бы это? Разрешите-ка.
И не дожидаясь моего ответа, он продолжал язвительным тоном:
– Оттого, батенька вы мой, что все эти бэгэрэдные люди и всякая такая вещь… претонкие дипломаты… Да-с… У них какая манера? Я ихнего брата хорошо изучил, шатаясь по вольным работам. Он и любезен с тобой, и обед тебе сервирует (справедливость требует сказать, что капитан выговорил: «сельвирует»), и сигарка, и всякая такая вещь… а ты все-таки чувствуешь, что он тебя рассматривает, как червяка низменного… И заметьте, поручик, это только настоящие, большие «алистократы» (здесь он уже умышленно, для иронии, исковеркал слово) такое обращение с нашим братом имеют. А какой поплоше да посомнительнее, тот больше форсит и ломается: сейчас стеклышко в глаз, губы распустит и думает, что птица… Ну, а у настоящих – первое дело простота… Потому что ими ломаться нечего, когда у них в крови презрение живет к нашему брату… И выходит очень естественно и прелестно, и всякая такая вещь…
Окончив эту обличительную речь, Василий Акинфиевич повернулся ко мне спиной и ушел в свою комнату.
Что ж? Ведь он, по-своему, пожалуй, и прав. Но я все-таки нахожу, что хохотать вслед незнакомому человеку – как будто бы немножко нетактично.
14 сентября. Сегодня я опять встретил их обеих и опять в саду. Они шли обнявшись. Маленькая положила голову на плечо подруги и что-то напевала с полузакрытыми глазами. При виде их у меня тотчас мелькнула мысль, что мои случайные прогулки могут быть истолкованы в дурную сторону. Я быстро свернул по первой боковой дорожке. Не знаю, заметили меня барышни или нет, но очевидно, что мне надо для прогулок выбрать другое время, иначе я рискую показаться назойливым армейским кавалером.
15 сентября. Вечером Лидия Ивановна уехала на станцию. Должно быть, в Ольховатку она больше уже не вернется, потому, во-первых, что следом за ней повезли изрядное количество багажа, а во-вторых, – она и хозяйская барышня очень уж долго и трогательно прощались перед расставанием. Кстати, при этом случае я впервые увидел из своего окна самого Андрея Александровича и его жену. Он – совсем молодчина: стройный, широкоплечий, с осанкой старого гусара; седые волосы на голове острижены под гребенку, подбородок – бритый, усы – длинные, пушистые и серебряные, а глаза – точно у ястреба, только голубого цвета, а то такие же круглые, впалые, неподвижные и холодные. Жена производит впечатление запуганной и скромной особы: она держит голову немного набок, и с губ ее не сходит не то виноватая, не то жалостливая улыбка. Лицо желтое и доброе. Вероятно, она в молодости была очень красива, но зато теперь кажется гораздо старше своих лет. На балконе также появилась какая-то сгорбленная старушенция в черной наколке и зеленых буклях, – вышла, опираясь на палку и еле волоча за собою ноги, хотела, кажется, что-то сказать, но закашлялась, замахала с отчаянным видом палкой и опять скрылась.
16 сентября. Василий Акинфиевич просил меня присмотреть за работами до тех пор, пока он не оправится от внезапных припадков своего балканского ревматизма. «В особенности, – говорил он, – наблюдайте внимательно за приемкой бураков, потому что солдаты и так уж жалуются, что у здешних десятников берковцы чересчур полные. Я, по правде говоря, побаиваюсь, как бы в конце концов не вышло между теми и другими какого-нибудь крупного недоразумения».