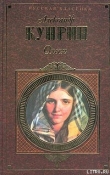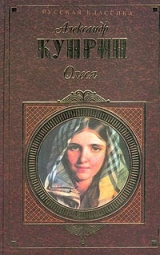
Текст книги "Олеся (Сборник)"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
Последние дни
Неудобно, невесело и досадно влеклись эти пять дней сидения под арестом в карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста, крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. Три-четыре раза в день нужно было выходить из карцера: на топографические работы, на ротные учения, на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы Бердана, со скользящим затвором номер второй, на долбление военных уставов – и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения.
До прибытия Александрова в карцер там уже сидело двое господ обер-офицеров, два юнкера из роты «жеребцов» его величества: Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман – рыжеволосый, белолицый, голубоглазый, потомок тевтонов; Брюнелли – полуитальянец, полурусский, полукавказец, со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного, эффектного контраста. Кстати – они были очень дружны друг с другом.
Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало два непобедимых влечения. Первое: войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью; и второе – оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножичком на деревянной стене: «26 июня 1889 г. здесь сидел обер-офицер Александров, по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость – достояние истории».
Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юнкерам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злоключениях, приведших их в карцер.
В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным, примерить заказанную офицерскую обмундировку. Но черт их дернул идти обратно в лагери не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы!
У них, говорили они, не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль – во что бы то ни стало успеть прийти в лагери к восьми с половиною часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались две очаровательные женщины, по-летнему, легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафешантанная певица, крикнула:
– Бауман, Бауман! Иди к нам скорее. И своего товарища тащи. Да ты не бойся: всего на две минуты. А потом мы вас на лошадях отвезем. Будьте спокойны. Только один флакон раздавим, и конец.
Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом: сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческою Москвою, удачливый театральный антрепренер, в шикарной, якобы мужицкой поддевке, и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха. Давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за александровцев, александровцы – за катковский лицей. Потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество.
Вскоре густой веселый туман обволок души, сознание и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон, им мерещился приезд прямо на батальонную линию и сухой голос Хухрика:
– Конечно, милостивые государыни, патриотизм вещь всегда ценная и возвышенная, и ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но извините: закон есть закон, и устав есть устав. И потому прошу вас удалиться с лагерной линейки.
Рассказал и Александров свое маленькое приключение с апостольским вином и со всехсвятской Дуняшей. Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности, добродушно.
– Какой фатум, – сказал Брюнелли. – Все мы пали жертвами и Вакха и Венеры.
Но потом и разговаривать стало не о чем. Приглядывался к ним обоим Александров, часто думал:
«Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня?.. Но путь их жизней я вижу, точно на ладони, и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли – такого серьезного, – то жизненный путь его еще яснее. Академия генерального штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обое станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им бог этого счастья».
Нет! Жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины Гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером! Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. «Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются?» – «Ах, это известный Александров. Не правда ли – какое мужественное лицо?»
Добрые отношения между Александровым и его собратьями по заключению тихо, беззлобно потухали с каждым днем, пока незаметно не исчезли совсем.
В ночь с четвертого на пятый день ареста тяжелая, знойная, напряженная погода наконец разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли от недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным и угрожающе сонным. Дышать становилось все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычащие громы. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, – наступила тяжелая, глубокая тишина; в камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе, и вдруг ярко-голубая ослепительная молния, вместе со страшным раскатом грома, ворвалась в карцер сквозь железные решетки, и тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобной которой никогда, ни раньше, ни потом, не видывал Александров: необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненгофскую Лефортовскую рощу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрезжил ранний сереющий рассвет.
Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чая с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо и еще сладостнее стало греть горячее восхитительное солнце.
А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый, знакомый голос, призывавший его снизу.
– Александров! Александров! – кричал под окном верный дружок Венсан. – Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю.
– С чем? С окончанием ареста?
– Нет. Сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш Уставчик! Однако живее! Здесь где-то поблизости слоняется зловещий Берди-Паша. Ну, тяните скорее руку! Так!
Венсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множителе сверток казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фельдфебелей и портупей-юнкеров до простых рядовых, с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения увидел Александров свой номер, ровно сотый, и как раз последний; последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще сто номеров для злосчастных юнкеров второго разряда.
«Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне Уставчиком», – горестно подумал Александров и покрутил головой.
Через дней пять-шесть пришли из петербургского главного штаба списки имеющихся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только три дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышления о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось много условий: как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное? Какое третьестепенное?
Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных двадцатилетних воинов.
Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе или, по крайней мере, в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и мало ли чего еще из земных благ.
Пленяла воображение и относительная близость к одной из столиц: особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством Московским, с его семью холмами, с сорока сороками церквей, с Кремлем и Москва-рекою. Со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом.
Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранники, и во всяком случае до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки – но далеко не блестящие, хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры: 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й… 113-й и так далее.
Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазии молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах огромной империи, о новых людях и народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях… Тянул к себе юг: служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой, загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Ведение ее остановилось на шестом классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым – это земной рай, где растет виноград и зреют превкусные крымские яблоки; что красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова; что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы; что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели колтунами, и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его былые доблести и заслуженные им отличия и награды. Не малую роль играли в выборе полка его петлицы – красные, синие, белые или черные: кому что шло к лицу. Случалось, – говорили прежние господа обер-офицеры, – что глубокий второразрядник сокрушенно махал рукой и заявлял: «Мне все равно. Пишите меня в ту часть, где красные петлицы».
Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял: «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь? Одному только богу ведомо, что ждет меня в первом, во втором, в тридцатом, в семьдесят четвертом или в девяносто девятом и сотом полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в Академию и большая судьба. Где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке, где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца, где несчастливая дуэль, где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести, где великие героические подвиги на театре военных действий. Все покрыто непроницаемой тьмой, и все-таки тяни свой жребий».
И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, какой полк хорош и какой плох, который лучше и который хуже? И невольно приходит на память Александрову любимая октава из пушкинского «Домика в Коломне»:
У нас война! Красавцы молодые,
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые,
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк.
Все с ревом так и лезут в бой кровавый,
Ширванский полк могу сравнить с октавой.
Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки. Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец… и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот: «Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: „Вот средство сделать последнее место первым“.
Настал наконец и торжественный день выбора вакансий.
В один из четвергов, после завтрака, дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира:
– Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке! Форма одежды обыкновенная. (Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаям необыкновенным.) Взять с собою листки с вакансиями! Живо, живо, господа обер-офицеры!
Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через три минуты они уже стояли навытяжку у своих столов, и все двести голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артабалевский.
Он скоро показался в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров.
– Садитесь! – приказал он как будто угрожающим голосом и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал: – Вот тут перед вами лежат двести десять вакансий на двести юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжение двухлетнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер первый: фельдфебель первой роты, юнкер Куманин!
Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин.
– Имени светлейшего князя Суворова гренадерский Фанагорийский полк.
Артабалевский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди-Паша умеет писать», – подумал он.
– Фельдфебель четвертой роты, юнкер Тарбеев!
– В лейб-гвардии Московский полк.
– Фельдфебель второй роты, юнкер Пожидаев!
– В двенадцатую артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом.
– Портупей-юнкер, князь Вачнадзе!
– На сослужение с братом в Эриванский гренадерский полк.
Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей-юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни.
Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру: каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу, по его голосу, по названию полка старался представить себе – какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера? И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди-Пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков.
Артабалевский крикнул своим металлическим «первым»:
– Чего молчать! Чего мечтать? Проснитесь, юнкер!
Тогда Александров ткнул наудачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый и маленький городишко, никогда им не слыханный. И, откашлявшись, он громко крикнул:
– Ундомский пехотный полк!
Город Великие грязи. И опять подумал про себя: «Вот средство сделать последнее место – первым».
Раздача вакансий окончилась. Берди-Паша сказал поучительное слово:
– Однако не воображайте, что вы уже в самом деле – господа офицеры. Этого воображать отнюдь не следует. Вы суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему не благоугодно будет собственноручно их утвердить, и пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы – вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере. Ибо многому вы еще не доучились и ко многому не привыкли. Итак, сейчас же построиться на передней линейке для батальонного учения!
О! Злобный азиат!
Глава XXIXТравля
Двести вакансий в разные полки разобраны.
Военные портные уже уведомлены, какого цвета надо пришивать петлички к заказанным мундирам и какого цвета кантики: белого, красного, синего или черного.
Фамилии будущих господ офицеров и названия выбранных ими частей уже летят, летят теперь по почте в Петербург, в самое главное отделение генерального штаба, заведующее офицерскими производствами. В этом могущественном и таинственном отделении теперь постепенно стекаются все взятые вакансии во всех российских военных училищах, из которых иные находятся страшно далеко от Питера, на самом краю необъемной Российской империи.
И вот наконец все вакансии собраны и проверены. Тогда их поручают десяти искуснейшим во всей России писарям, из которых каждый состоит в капитанском чине, и они на ватманской слоновой бумаге золотыми перьями составляют список юнкеров, имеющих быть произведенными в первый офицерский чин и зачисленными на доблестное служение в одном из славных победоносных полков великой русской армии.
А теперь уже выступает на сцену не кто иной, как военный министр. В день, заранее ему назначенный, он с этим драгоценным списком едет во дворец к государю императору, который уже дожидается его.
Конечно, русскому царю, повелевающему шестой частью земного шара и непрестанно пекущемуся о благе пятисот миллионов подданных, просто физически невозможно было бы подписывать производство каждому из многих тысяч офицеров. Нет, он только внимательно и быстро проглядывает бесконечно длинный ряд имен. Уста его улыбаются светло и печально.
– Какая молодежь, – беззвучно шепчет он, – какая чудесная, чистая, славная русская молодежь! И каждый из этих мальчиков готов с радостью пролить всю свою кровь за наше отечество и за меня!
Он со вздохом подписывает свое имя и говорит министру:
– Передайте им всем мои поздравления с производством и мою уверенность в их беспорочной будущей службе.
Очень долги пути государственных бумаг!
Старшие юнкера изводятся от нетерпения – они уже перестали называть себя господами обер-офицерами, иначе рядом с выдуманным званием не так будет сладко сознавать себя настоящим подпоручиком, его благородием и, по праву, господином обер-офицером.
Теперь все они кажутся совсем взрослыми, даже как будто пожилыми. Они стали осторожнее в движениях и умереннее в жестах. У них такой вид, точно каждый боится расплескать чашу, до краев полную драгоценной влагой. Они как-то любовно, по-братски присматривают друг за другом. Стоит самая африканская жарища. Клокочущее нетерпение не знает, во что вылиться. Нервы натянуты до предела. Не дай бог, кто-нибудь под этими давлениями взорвется и сделает такой непозволительный грубый и глупый поступок, который повлечет за собою лишение офицерского чина. Что тогда делать? Скрыть невозможно и нельзя. Отдать в солдаты? Выгнать из училища? Но как же быть, если события так повернутся, что наказанного в Москве государь только что произвел в офицеры в Петербурге? Телеграфировать на высочайшее имя для осведомления императора? Но какое огорчение нанесет это обожаемому монарху! Какое несмываемое пятно для славного, любимого, дорогого Александровского училища!
Ротным командирам и курсовым офицерам известно это волнение молодых сердец, и они начинают чуть-чуть ослаблять суровые требования воинской дисциплины и тяжкие, в жару просто непереносимые трудности строевых учений. Выпускные юнкера в свою очередь чувствуют эти поблажки и впадают в легкую фамильярность с начальством, в ленцу и в небрежность.
На полевом учении, в рассыпном строю, поручик Новоселов (он же Уставчик) командует:
– Перестать стрелять, встать – направление на мельницу. Бегом!
А кто-нибудь из выпускных лениво говорит:
– Зачем бегать, Николай Васильевич? Жара адова. Полежимте-ка лучше.
Уставчик топочет ногами и слабо кричит:
– Вставать-с, в карцер посажу-с!
Выпускной смягчается:
– Да уж, пожалуй, пойдем, Николай Васильевич. Ведь мы вас так любим, вы такой добрый.
– Молчать-с! Перебежка частями!
Или иногда говорили Дрозду, томно разомлевшему от зноя:
– Господин капитан, позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке.
– Э-кобели! – ворчал Дрозд и вдруг властно вскакивал. – Встать! Бежать на третью роту! Да бежать не как рязанские бабы бегают, а по-юнкерски! Эй, ходу, а то до вечера проманежу!
Этот странный Дрозд, то мгновенно вспыльчивый, то вдруг умно и великодушно заботливый, однажды чрезвычайно удивил и умилил Александрова. Проходя вдоль лагеря, он увидел его лежащим, распластав широко ноги и руки, в тени большой березы и остановился над ним. Александров с привычной ловкостью и быстротой вскочил, встряхнул шапку и сделал под козырек.
– Опустите руку, – сказал Дрозд. Поглядел долгим ироническим взглядом на юнкера и ни с того ни с сего спросил: – А ведь небось ужасно хочется хоть на минутку поехать в город, к портному, и примерить офицерскую форму?
– Так точно, господин капитан, – с глубоким вздохом сознался Александров. – Ужасно, невероятно хочется. Да ведь я наказан, без отпуска до самого производства.
– Да, плохое твое дело. Командир батальона ничего не прощает и никогда не забывает. Он воин серьезный.
– Так точно, господин капитан. Серьезнее на свете нет.
– Н-да, плохое ваше дело: и хочется, и колется, и маменька не велит. Вполне понимаю ваше горе…
– Покорно благодарю, господин капитан.
– А главное, – продолжал Дрозд с лицемерным сожалением, – главное, что есть же на свете такие отчаянные сорванцы, неслухи и негодяи, которые в вашем положении, никого не спрашивая и не предупреждая, убегают из лагеря самовольно, пробудут у портного полчаса-час и опрометью бегут назад, в лагерь. Конечно, умные, примерные дети таких противозаконных вещей не делают. Сами подумайте: самовольная отлучка – это же пахнет дисциплинарным преступлением, за это по головке в армии не гладят.
– Так точно, господин капитан.
Оба собеседника замолкают и молчат минуты три-четыре. Вдруг Дрозд загадочно фыркает и презрительно восклицает:
– Ну и бревно же!
– Какое бревно? – с недоумением спрашивает Александров.
– А такое, – равнодушно отвечает Дрозд и медленно отходит от юнкера.
Александров растерян. Кажется ему, что какой-то темный намек сквозил в небрежном разговоре Дрозда, но как его понять? Он идет в барак, отыскивает в нем Жданова, замечательного разгадчика всех начальственных каверз и закавык, и передает ему всю свою странную болтовню с Дроздом. Жданов саркастически улыбается:
– Бревно – это, конечно, ты, мой красавец. Разве ты сразу не мог понять, что сострадательный Дрозд окольным путем тебе советует сделать алегро удирато? То есть убежать самоволкой в город? Конечно, он яснее высказаться не мог и не смел, ибо он все-таки твой прямой начальник. Но, ей-богу, он все-таки отменный парень. А тебе остается только одно – завтра отпуск, и ты без всяких размышлений наденешь на себя мундир и скорым шагом отправишься к своему портному; старайся не терять времени понапрасну. Уходи в толпе и приди в толпе, чтобы не быть ни для кого заметным. Если хочешь, я пойду впереди тебя наблюдательным дозором.
Так Александров на другой день и сделал: ловко втиснулся в густую массу отпускных юнкеров и благополучно выбрался на Ходынское поле. Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска: «Сур. Военный портной». И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивая материю и пестря ее портновским мелком. В трех зеркалах бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось петь на мотив из «Фауста»: «Александров! Это не ты! Отвечай, отвечай, отвечай мне поскорее!»
Он примерил массу вещей: мундир, сюртук, домашнюю тужурку, два кителя из чертовой кожи, брюки бальные и брюки походные. Он с удовольствием созерцал себя, многократного, в погонах и эполетах, а старик портной не уставал вслух восхищаться стройностью его фигуры и мужественностью осанки.
На обратном пути он хотел было сделать маленький крюк, чтобы забежать в Екатерининский институт и справиться у Порфирия о том, как поживает Зиночка Белышева, но вдруг почувствовал, что у него не хватит духа. В лагерь он пришел, когда уже начинало темнеть. Быстрым катышком свалился он в глубь оврага, где протекала холодная быстрая речонка, спешно переоделся в заранее спрятанную каламянковую рубашку и вышел наверх. Первый, кого он увидел, был Дрозд, прогуливавшийся по плацу над купальней, заложивши руки за спину.
– Как поживаете, господин обер-офицер? – спросил Дрозд лениво.
– Покорно благодарю, господин капитан, очень хорошо! – воскликнул Александров, блестя глазами.
Так успели за двухлетнее знакомство и за лагерную страду опроститься и очеловечиться отношения между юнкерами и офицерами.
Только три человека из всего начальственного состава не только не допускали таких невинных послаблений, но злились сильнее с каждым днем, подобно тому как мухи становятся свирепее с приближением осени. Эти три гонителя были: Хухрик, Пуп и Берди-Паша, по-настоящему – командир батальона, полковник Артабалевский.
Первые двое были, пожалуй, уж не так зловредны и безжалостно строги, чтобы питать к ним лютую вражду, ненависть и кровавую месть. Но они умели держать молодежь в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний, вечной недоверчивостью и подозрительностью и, наконец, долгими, вязкими, удручающими нотациями.
Берди-Паша не был выпечен из такого пресного теста. Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер позабыл.
И правда: Берди-Паша кажется лишенным если не всех, то очень многих свойственных обыкновенному человеку достоинств и недостатков, страстей и слабостей. Он не знает ни честолюбия, ни жалости, ни любви, ни привязанности. Ему чужды страх и стыд. Он никогда не хвалит и не делает выговоров. Он только спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти. У него сильный стальной голос, слышимый из конца в конец огромнейшего Ходынского поля, на котором летом свободно располагаются лагерями и производят учение все войска Московского военного округа. Но ни разу он не закричал на юнкера, так же как никогда не показал ему сострадания.
Все в училище, не исключая и офицеров, глубоко убеждены в том, что Берди-Паша просто глуп. Его редкие изречения тщательно запоминаются второкурсниками и передаются из поколения в поколение, обрастая, конечно, добавками, как корабль в далеком пути обрастает ракушками и моллюсками.
Берди-Пашу юнкера нельзя сказать чтобы любили, но они ценили его за примитивную татарскую справедливость, за голос, за представительность и в особенности за неподражаемую красоту и лихость, с которыми он гарцевал перед батальоном на своей собственной чистокровной белой арабской кобыле Кабардинке, которую сам Паша, со свойственной ему упрямостью, называл Кабардиновкой.
Но теперь юнкера, а в особенности выпускные, были обижены тем, что немедленно по окончании торжественного разбора вакансий Берди-Паша бесцеремонно погнал батальон на строевые занятия, как будто наплевав на великую важность происшедшего события.
Всякий порядочный командир батальона дал бы своей части в подобном случае хоть час-два блаженного отдыха после только что пережитых, столь сильных впечатлений.
Это с его стороны невежество, умышленное свинство, пренебрежительный вызов, требующий немедленного воздаяния.
И вот тогда, точно по телеграфу, работающему без проводов, разнесся, начиная с первой роты, самой долговязой, самой шикарной и самой авторитетной, и кончая предприимчивой четвертой – невидимый приказ: «Травить всех по-прежнему, умеренно. Хухру и Пупа – с натиском. А нераскаянного Берди-Пашу не только сугубо, но двугубо и даже многогубо».
Это предложение было принято повсюду с величайшей готовностью. К тому же, надо сказать, всему училищу было известно, что в этом году производство начнется с большим, против всегдашнего, промедлением. По каким-то важным политическим причинам государь опоздает приехать в Петербург. Лишнее промедление обрекало всех юнкеров на длительную скуку. Сугубая травля обещала некоторые развлечения, и она вышла действительно неслыханно разнообразной и блестящей.

![Книга Штабс-капитан Круглов. Книга вторая [СИ] автора Глеб Исаев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shtabs-kapitan-kruglov.-kniga-vtoraya-si-369261.jpg)