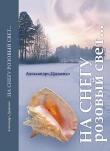Текст книги "Афродизиак (СИ)"
Автор книги: Александр Дунаенко
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Александръ Дунаенко
АФРОДИЗИАК
Когда уйдёшь, мой милый,
Оставь мне на память
Красивые строчки, болящие мной.
Когда уйдёшь, мой милый,
Оставь мне на память
Хотя бы две ночки,
Как свечи, горящие мной.
Когда уйдёшь, мой милый,
Оставь мне на память
Твои тёплые руки,
Так любимые мной.
Когда уйдёшь, мой милый,
Оставь мне на память
Свои глаза и губы -
Они зацелованы мной.
Когда уйдёшь, мой милый,
Оставь мне на память
Твоё слабое сердце -
Ведь оно до краёв наполнено мной
Когда уйдёшь, мой милый,
Возьми себе на память
Меня…Автор неизвестен.
НЕЛЮБИМАЯ
Никто бы не назвал тебя красавицей. Рыжеватая, с острым носом, искривлённые, вечно бледные, губы. Но вопиюще эротично всегда выглядела ты. Стройная фигурка, плотно, до подчёркивания лобка, обтянутая джинсами. Острия маленьких грудок всегда через очень тонкую ткань, без лифчика. Так было летом 75-го, когда мы проезжали на велосипедах мимо речки Бутак и остановились передохнуть. И ты стояла на берегу среди июньской жары, следила кошачьими своими глазами, как я над ледяной бездной черной и прозрачной воды, плавая, собирал для тебя кувшинки. Совсем чужая, едва знакомая, ты чуть улыбалась на берегу, почти равнодушная, хотя в воде, в этой холодной родниковой, хрусталистой воде я купался бесстыдно, абсолютно голый. Ну, пришла мне на ум такая фантазия. Я слышал, что там, откуда ты приехала, у тебя были мужчины. К двадцати годаму девушки уже должны побывать мужчины, и я слышал, что у тебя они побывали. И ты ещё корчила из себя – ну, очень современную девушку. Ну, без предрассудков. И я без предрассудков – наглый такой нудист – разделся, полез в горячую у кромки берега воду, сорвался с подводного обрыва, плюхнулся, ушёл с головой в летнюю красоту нетроганной никем здесь, в отдалении, речки. Ты, современная, ты и бровью не повела, бесцветной своей бровью, на моё бликующее сияние среди немыслимой для нашего века прозрачности речки. Я вышел из воды с кувшинками: подплыл к берегу, наступил на подводный обрывчик, встал в рост из воды, лицом к тебе, современно. Ты и бровью не повела, бесцветной своей, почти отсутствующей, бровью. Скользнула взглядом – бегло так – от моих колен до кувшинок в руках. Жарко – лицо порозовело твоё, но не хотела прыгнуть в воду – ах! – не захватила купальника. Держала – уже теперь свои – кувшинки, а я, жалостливый, набрал в пригоршню воды, горячей, прозрачнейшей, той, что у берега лежала без движения, живой, сонной и горячей, с каплями солнца, я набрал в ладони этой воды и вылил на шейку тебе, набрал ещё и смочил плечи, и блузка, тонкая блузка, стала прозрачной, груди проявились розовыми сосочками через ткань, от тёплой воды оставшимися нежными, не затвердев. Я лил ещё эту воду, эту первую ласку к тебе, и ты даже не двинула своей, почти отсутствующей, бровью, я тоже не выдал ничем волнения от тебя, от некрасивой, но мучительно, колдовски как-то притягательной. Выдержанно, я чуть расстегнул мокрую твою блузку, и больше в тот день у нас не было ничего. И даже потом, когда было, я не любил, не полюбил тебя. Я любил других, а к тебе приходил через годы и месяцы, как будто впереди была целая вечность, и мы не умрём никогда, и в любой момент я могу прийти к тебе, к нелюбимой. А любимые женщины появлялись, потом терялись навсегда, я называл их любимыми. Называл сам, а тебя – раз или два, когда ты попросила об этом. Что ты была одна и единственная, я понял тогда, когда ты, как умерла, уехала насовсем и из нашего города, и от речки Бутак, которую я с тобой, с нелюбимой, никак не могу забыть. 04.12.96г.
КОД ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Сперма мужчины содержит в среднем восемьдесят миллионов сперматозоидов. Если представить супружескую пару, у которой близость происходит регулярно, два раза в неделю, а живут муж и жена, пусть, не пятьдесят, не сорок лет вместе, а хотя бы тридцать, то получается, что женщину на протяжении супружеской жизни призывают к зачатию около ведра сперматозоидов. Сотни миллиардов. Целый Китай. С Бирмой, Индией и Лаосом, вместе взятыми. А за жизнь – два три ребёнка – больше почти не бывает. Все остальные когорты сперматозоидов, помыкавшись в женщине, отходят в мир иной, так и не сумев себя в этой жизни реализовать. Но… Невостребованность этих хвостатых шалунов не является их собственной проблемой. Если их так много, значит, это кому-то нужно?.. Нужно. Ну, да! Кому? Природе. Этой Природе желательно, чтобы сперматозоидов оплодотворилось, как можно больше. Ей как-то и в голову не приходит, что одна женщина не может родить даже один миллиард детей. Ей это абсолютно всё равно. Природа навешиваетна мужчину яйца – генератор спермы, пенис и, как Партия, даёт задание, засеять, как можно больше, посевных площадей. У Природы на этот счёт нет никаких моральных принципов. Сей! – и всё тут!.. Ну, и… мужчина по этому поводу испытывает всю жизнь известное беспокойство. С одной стороны – однажды и навсегда, и только смерть разлучит.С другой – куда же девать всех этих своих претендентов на гражданство? Выдерживает не всякий. Попробовал я когда-то разводить гусей. Не по своей воле – старушка Гурьевна, по доброте душевной, подарила пару. А Маркин, преподаватель биологии в местной школе, сразу сказал, что эксперимент по разведению гусей, заранее обречён на неудачу. Потому что для существования популяции необходим определённый минимум особей. В моём случае – гусиное стадо. Где этих гусей и гусынь несколько десятков. Иначе, в своём небольшом семейном коллективе, гуси перестают нестись – и конец. Гусь вообще по своей природе однолюб. Он всё время при своей супруге-гусыне состоит, ухаживает за ней, одаривает любовным вниманием. До тех пор, пока не посадит её на яйца. Потом влюбляется в другую, которую любит так же беззаветно. Вот для этого-то и нужно гусю стадо. Бывают ли случаи, чтобы гусь, если его разлучает судьба с возлюбленной, вдруг взмывает в небо и оттуда, как лебедь, сложивши крылушки, бросается вниз, чтобы умереть, погибнуть? Рассказов таких нет. Я думаю, причина тут скорее эстетическая, нежели в отсутствии на свете таких верных и благородных гусей. Если с неба падает лебедь – тогда «ох!» и «ах!» – красота-то какая погибла! А, если простой гусь – то, кроме мыслей о борще, такая романтическая смерть ничего не вызывает. Это я про что? Бывают Правила. И бывают Исключения. Правила – это когда Гусь сажает Гусоньку свою на яйца и отправляется дальше для исполнения своего природного долга. Чтобы род гусиный не вывелся, не пропал. И – Исключения. Это, когда Гусь, потерявши свою Единственную Возлюбленную, взлетает повыше и разбивается насмерть. Подозреваю, что и у лебедей то же самое.
Вернёмся же к нашим баранам, то есть, к нам, к мужчинам.
Природа, когда навешивает на мужчину все необходимые приспособления для продолжения рода, одновременно в мозги вводит ему и программу неверности. Кодирует. Мужчины, потому что у них воспитание, долг, совесть со стыдом, конечно, от этого мучаются. У них и борьба всё время идёт с этой аморальной кодировкой, и ломка. Но, в основе своей, остаются предателями, потому что, хоть взглядом, хоть мыслию, а допускают себе отклонение от равномерного моногамного существования. Даже самый первый поцелуй мужчины – самый чистый, самый искренний, это уже поцелуй Иуды… Он будет засматриваться на других женщин. Он будет…
У каждого на этой земле своя роль, своё предназначение.
Иисус знал, чем для него кончится его земная жизнь. Живой человек – он не хотел мучений, он просил Господа – «Пронеси мимо меня эту чашу!..». Так, риторически, просил.Знал, что произойдёт то, что должно произойти. Но трагедия не могла состояться без Иуды. Роли распределены. Расписан распорядок действий. Любимый ученик Христа должен его предать. Потом страдать. Потом повеситься. Потом быть проклятым во всех человеческих поколениях.
Такова была Воля Господа.
Хотел ли этого Иуда? Мог ли упросить Бога пронести мимо него Эту Чашу?..
ТРИ ЦЕЛОМУДРЕННЫЕ НОВЕЛЛЫ
1
Ранний летний вечер. Тёмная аллея в городском парке. Женщина, ей около тридцати, в джинсах, с чёрной сумочкой через плечо, идёт по середине аллеи. Душновато. Батник расстёгнут чуть больше, чем себе смогла бы позволить замужняя женщина и чуть меньше, чтобы к тебе приставали любители лёгкой наживы. Кленовые листья стали поодиночке желтеть, падают на асфальт. Наверное, август. Совершенно случайно, минут через десять, молодая женщина повстречает мужчину. Ему уже за тридцать. По виду или талантливый поэт, или пьяница с хулиганом. Но как окажется впоследствии, очень интеллигентный человек. Учитель. Завуч в средней школе. Ему понравится женщина с чёрной сумочкой через плечо и в голубых джинсах. Дальше они пойдут вместе. У женщины тонкое чувство юмора и приятный, хоть и чуть коварный, смех. Бледные, очень бледные веснушки на её лице, почти незаметные, они начинают нравиться. Чем дольше будет длиться разговор, тем больше мужчине будут нравиться эти веснушки. Аллея кончится. И кончится длинная улица, за поворотом которой – дом женщины. Кончится дорога к дому женщины, по которой с ней в первый раз прошёл слегка лысеющий мужчина, которому чуть за тридцать. Он тоже станет приятнее, чем там, в аллее. Не худощав, а – строен. И близорукость – очки – очень к лицу. Они не остановятся у подъезда, как это делают малознакомые люди, чтобы поставить многоточие или точку в конце маленького пути, который они в первый раз прошли вместе. Потом будет лестница, в сумочке ключ, поворот выключателя – на улице уже темно – вешалка, с которой начинается не только театр, театральные пьесы, но и все новые и не отрепетированные акты пьес домашних. Они всё же так мало знакомы, что мужчина даже не будет читать газеты, когда женщина примется хлопотать на кухне. Потом – ужин. Они так мало знакомы, что всё время будут улыбаться, разговаривая друг с другом. Женщина заметит плохо пришитую пуговицу на пиджаке мужчины. Пиджак – на спинке стула. Рубашка на стройной груди мужчины. Перед тем, как лечьспать, он снимет рубашку, брюки. Слабо выраженные грудные мышцы, дряблые мышцы интеллигента. Хорошо ещё, что нет живота. Но волосат весь – смотреть страшно. Забываешь, что он знает Есенина. Женщина расстегнёт до конца свой светлый батник. Она любит красивое бельё. Наверное, тратит на него уйму денег. Без сумочки и голубых джинсов, божественно обнажённая женщина, держа губами заколки, будет укладывать свои длинные-длинные волосы пред зеркалом. Она видна в нём во весь рост. И – туфельки на необычайно высоком каблуке, которые ещё остались на ней. Потом погаснет свет. Мужчина будет лежать на раскладушке у окна и скоро уснёт. Уснёт и женщина в двух-трёх шагах от него на широкой, как пустыня, кровати. Засыпая, мужчина будет думать, что хорошо бы сделать на «Яву» электронное зажигание, только долго придётся возиться с обмотками. Где-то часов семь – ведь всё вручную…Ему снится сон, как он ездит на мотоцикле по реке, и свечи не заливает, хотя вода доходит до бензобака… Лунный свет будет падать на подушку у лица женщины. Перед сном она подумает, что завтра день рождения у подруги, а она и не знает, что же ей подарить. Может, чеканку?.. И ей тоже приснитсясон, который она потом забудет, но который тоже не будет содержать ничего особенного.
2
Солнце ярко светило в безоблачном небе. Пожухла трава. Сентябрь слегка холодил воздух. Женька-Джек вёл Милку на романтическую прогулку. Он и его подруга давно испытывали друг к другу симпатии, но реализовать их всё никак не находилось подходящей возможности. Теперь же у Женьки-Джека был выходной, Милка помирилась со своим вторым мужем, отправила его в командировку, и впереди ожидался длинный голубой день, который друзья могли провести вместе. Троллейбус в городе ввели недавно, и он возиллюдей с могилок на пляж и обратно, то есть, через весь город. В салоне было настолько тесно, что Милка и Женька-Джек чувствовали себя на седьмом небе от счастья. Боже!Как их прижимали друг к другу! С некоторым опозданием Женька-Джек и Милка заметили, что в салоне уже никого нет, что троллейбус стоит на конечной, а водитель через микрофон интересуется, спят они, или не спят. – Вот дурак, можно ли уснуть, стоя в такой тесноте, – пробурчала Милка, оправляя кофточку. Им удалось найти маленькое уютное местечко у самой реки. Комаров не было. Они собирались в косяки и улетали на юг. Песок не жёгся. Милка и Женька-Джек убрали с него пустые консервные банки, простелили коврик и стали загорать. – Давай, пусть у нас будет дикий пляж, – сказал Женька-Джек, и заинтересованно посмотрел на Милкин, почти прозрачный, кремовый лифчик. – Да ну! – ответила Милка, – дурак ты, что ли? – и повернулась к Женьке-Джеку спиной: – Расстёгивай, только осторожно, пряжечку сломаешь… К воде, откуда-то из кустов, сбежал мальчонка, лет шести. С мячиком. Он так забавно стал играть, плескаться водой! Женька-Джек заботливо ему намекнул, что вода уже холодная, и мальчик может простудиться. – Всё равно не уйду, – ответил мальчик и закричал: – Света, Юля, идите сюда! Пирожки будем делать. Оказывается, это были не настоящие пирожки, а из песка. Ребятишки набирали в ладони воду, смачивали песок и лепили из него безобразные комочки, которые и назывались у них пирожками. Женька-Джек очень быстро освоил эту технологию, и смог бы уже сам повторить все операции с завязанными глазами. Милка уснула. Мамы и папы Юли и Светы и мальчика Эдика спросили, не помешают ли они? Они не помешали. Запахло консервами. На новом месте песок оказался каким-то пыльным, грязноватым. Решили пройти ещё дальше. Там из кустов вышел волк, равнодушно посмотрел, вначале на Милку, потом на Женьку-Джека, зевнул, полакал немного воды из реки и уплыл на другой берег. Это новое место, очевидно, было уже совсем диким местом. Милка легла загорать. Женька-Джек опять забубнил что-то про дикий пляж и стал возиться с Милкиной пряжечкой. – Вы собаку мою не видали? – спросил пожилой охотник, выходя из кустов. У него была кудрявая чёрная борода, ружьё с двумя параллельными стволами, голубые глаза и длинные – по грудь – сапоги. – Мы не видали, – ответил Женька-Джек, подошёл креке и опустил в неё раскалившиеся ладони. Вокруг пальцев зашипела, забулькала вода, и ещё от неё пошёл пар. – Серая такая собака. Уши у неё стоят, – продолжил интересную беседу охотник. – Нет, не видали, – опять ответил Женька-Джек и с тоской посмотрел на белое солнце. Охотник пошёл в речку. Пока он двигался к другому берегу, вода не доходила ему и до колен. В сентябре все наши реки становятся мелководными. – Я пойду, искупаюсь, сказал Женька-Джек. – Здесь же мелко, – отговаривала его Милка, но он пошёл, не оглядываясь. Лежал в холодной воде, на холодном песке дна, и из воды ещё торчали всё время колени. За одну коленку его укусил бзык. Когда Женька-Джек перевернулся на грудь, бык опять его укусил. Было так мелко, что из воды обязательно что-нибудь высовывалось. Женька-Джек, дрожа от холода, вылез на берег. Милка сама осторожно расстегнула пряжечку, чтобы загар ложился ровнее. Бзык, наверное, тот самый, коротко прожужжав, сел на светлую полоску её тела и сказал: «Вступайте в ряды доноров». Прежде, чем стукнуть Милку ладонью по спине и промазать, Женька-Джек прошипел ей, чтобы она сидела и не шевелилась. Она не шевелилась. Бзык улетел довольный, каквсякий человек, которому удаётся кого-нибудь укусить безнаказанно. Потом к реке пригнали на водопой баранов. Ну, не день, а клуб кинопутешествий. Воду пили и лошадь чабана, и её жеребёнок. Пил и сам чабан, отойдя чуть выше по течению. Ещё выше поили стадо свиней. Наступал вечер. Женька-Джек застегнул Милке пряжечку, и она пришлась как раз на середину пятерни, которая чётко отпечаталась на спине Милки. В троллейбусе было совсем свободно, потому что, какой дурак будет сидеть на пляже осенью до самого вечера. Им даже нашлись свободные места. Милка и Женька-Джек сидели рядом. Он взял её руку в свою. И она её не отняла. Хотя и была замужней женщиной.
3
Звали её Вера. К её лицу не шли ни рыжие, ни чёрные, ни белые волосы, а, если бы она постриглась наголо, то её можно было бы принять за малолетнего преступника. Далеко не красавица, Вера, к тому же, в свои двадцать девять лет имела заскорузлую невинность, о чём с кокетливым достоинством предупреждала излишне нахрапистых мужиков. А они обижались: ни кожи, ни рожи, а туда же. Девица нашлась, кому ты в чёрта нужна сто лет! Кузьма Ерофеич приехал в Полтавку молодым специалистом. Ему было тоже около тридцати, он увлекался техникой, спортом и девочками. Вера влюбилась в молодого специалиста с первого взгляда. В колхозном клубе молодой специалист имел возможностьнасладиться танцеванием медленного танго с прилипающей к его натренированному телу Верой. Боже! Как отчаянно она одевалась к этому вечеру! Модельные туфли, лёгкое, с большим вырезом, платье и, самое главное, о чём Вера мучительно раздумывала в течение всего дня, – она не надела лифчика! Забытый, заброшенный, остался он лежать перед зеркалом на туалетном столике, а раскрепощённая дева, закусив удила и победно задравши хвост, поскакала на танцы. Кузьма Ерофеич не смог сразу по достоинству оценить смелых революционных взглядов Веры, потому что прибыл из Актюбинска, крупного областного центра, где девушки на танцы приходят, если так помягче выразиться, совсем налегке. Кроме того, Кузьма Ерофеич не был посвящён в трогательные подробности невинного организма Веры и потому, когда вечером, у плетня, помяв её эмансипированные груди, он решил перейти к следующему этапу знакомства, и получил оплеуху, то очень огорчился, решив, что понапрасну истратил несколько часов своей кипучей молодой жизни на тупую колхозную дуру. Дура же проплакала до утра, упав лицом в мягкую пуховую подушку, предназначенную ей родителями, вместе с периной, чайным сервизом и половиной дома, в безвозмездное приданое. После этого Кузьма Ерофеич имел блестящий успех у Тамарки Зубковой (прямо на цементе молочной фермы. Цемент был мокрым, его полили из шланга, смывая пролившееся молоко. Пахло плесенью, молоком и навозом), Тамарки Рассохиной (мамка в колхозе базу сторожила, а ночью дома одной жуть, как страшно), и Любки Вишиной (эту просто в кустах). Но, несмотря на это, в колхозе утвердилось мнение, что Кузьма Ерофеич дружит с Веркой, а если какая к нему на шею и вешается, так что ж – парень ведь. Тихими июльскими ночами Вера тоже обвивала жадными влюблёнными руками шею Кузьмы Ерофеича. Колхозная общественность к осени уже ожидала свадьбу, а молодой специалист не мог добиться от упорной девушки простой половой взаимности. – Проклятая провинция, – рычал он, мучаясь от бессонницы после безрезультатного свидания, и вспоминая с тоской о прогрессивных идеях, которые заполняли умы молодёжи его родного Актюбинска. Ведь, если представить, то Актюбинск – это, вместе взятые, Инсбрук и Зальцбрук, не говоря уже о таких задрипанных городишках, как Монако, Женева и Сан-Марино. После необычайно насыщенного круговорота передовой актюбинской культурной жизни, вдруг оказаться в такой дыре – в Полтавке, где какая-то щербатая Верка корчит из себя сдобный пряник, чтобы её взяли замуж. Но это же только в кинофильме гордая непокорная девушка может вить верёвки их бандюги и развратника. В жизни бандюга предпочтёт расквасить лишних две-три физиономии, чем попусту тратить время на ритуальные танцы вокруг эгоистической девицы с судорожно сжатыми коленями. Кузьма Ерофеич находился в затруднительном положении. Жениться ему не хотелось. Тем более – на Верке. Его же в Актюбинске друзья засмеют. Но ослиное упрямство старой девы уязвляло его мужское самолюбие. И тогда в голове у Кузьмы Ерофеича созрел коварный план, который был уже неоднократно проверен молодыми людьми в сходных ситуациях, и всегда давал положительный результат. Кузьма Ерофеич решил обольстить несчастную девушку, пообещав жениться на ней в течение 48 часов, и убежать в Актюбинск на любой попутной машине. Подвиг, вполне доступный для молодого мужчины в расцвете лет и всегда достойный подражания. Но, поскольку в щепетильных вопросах обольщения, Вера зарекомендовала себя, как неприступная крепость, то в помощь Кузьма Ерофеич придумал пригласить Бакириху, местную колдунью, сводню и знахарку. Плюнув ребёнку в глаз, она излечивала его от трахомы, шептанием устраняла мастит и бородавки, и даже останавливала такси в городе, если хотела съездить к знакомой бабке за сто километров. Взятые наугад таксисты, всегда соглашались и денег с Бакирихи не брали. Впрочем, отыгрываясь потом на остальных клиентах. Бакириха дала Кузьме Ерофеичу грязный пузырёк и рекомендовала перед обольщением зазнобы накапать ей в кофе, компот или водку, – смотря что будете пить, сукины дети, дай вам Бог счастья. Вера нарумянила свои рыжие щёки, помылась мылом «Легли», надела своё лучшее платье, в котором она в первый раз танцовала с Кузьмой Ерофеичем, и уселась за полированный стол, накрытый чистой скатертью. Кузьма Ерофеич обещал вечером зайти в её избу городского типа, чтобы поговорить с Верой об одном важном деле, касающемся их обоих. По такому случаю, Вера даже надела лифчик, и он торжествующе выглядывал всеми своими частями через просторный вырез танцевального платья. Пусть Кузя знает, что в жёны он берёт порядочную девушку, а не какую-нибудь из вертихвосток, которые на танцах, без лифчиков, об мужиков так и трутся. Вера сердцем чувствовала, что разговор пойдёт именно о замужестве, и потому под радиоприёмник уже положила паспорт, чтобы был под рукой, чтобы долго его нигде не искать. Они выпили по стакану водки. Закусили жареной картошкой. Кузьма Ерофеич вяло заговорил о своей одинокой жизни, о том, что его никто не понимает. Произнося эти шаблонные фразы, он выжидательно поглядывал на Веру. Рыжая нарумяненная Вера перестала есть картошку, вытерла губы носовым платочком, достала помаду и, глядя в зеркальце, несколькими смелыми движениями сделала из себя кинозвезду. Что-то между Софи Лорен и Фернанделем. После этого обаятельно улыбнулась Кузьме Ерофеичу. Чтобы как-то сдвинуть дело с мёртвой точки, Кузьма Ерофеич предложил Вере жениться. Вера согласилась, и они выпили ещё по стакану водки. Стало жарко. Вера обмахивала лицо утренней газетой. За печкой стрекотал сверчок. Кузьма Ерофеич ждал, когда же начнёт действовать бабкино лекарство.
…– Я сниму платье, ты не против? – мы же всё равно поженимся, – сказала Вера, неловко вышла из-за стола и, пошатываясь, стянула через голову своё шикарное платье. – А ты не хочешь посмотреть моё приданое?.. Вера, одно за другим, доставала из сундука тонкое заграничное бельё (хочешь на мне посмотреть?), убегала в соседнюю комнату и появлялась голая сквозь белую ночную рубашку, голая сквозь розовый пеньюар, голая в кружевных плавочках и бюстгальтере. – Ну и Бакириха, – подумал про себя Кузьма Ерофеич и решительно шагнул в комнату, где Вера готовилась к демонстрации очередного костюма. – Должна же быть ещё свадьба, Кузя, – чуть испугавшись для приличия, сказала Вера и попятилась к нетоптаной постели, которая, увы, никогда не могла в подобных случаях предотвратить роковой неизбежности глупого женского счастья. КузьмаЕрофеич за всю свою сознательную жизнь ещё не видел женщины более страстной и жгучей. Казалось, огромное хранилище, в котором любовь собиралась на протяжении многих лет, вдруг прорвало плотину, и весь этот кипящий смертоносный сель чувства обрушился на бедного молодого специалиста. Всё было настолько неожиданно, что в первыймомент Кузьма Ерофеич растерялся. Бесцеремонный, на грани противоречия естеству, перехват инициативы оглушил его. – В конце концов, я женщина, или она женщина, – в замешательстве думал он, слыша, как, вырванные с мясом, пуговицы его рубашки посыпались на линолеум у кровати. Это тебе не Тамарка Рассохина, пронеслось у него в голове, когда влажные жадные губы Веры захлестнули его огнедышащим поцелуем… – Ну, что ты, миленький, что с тобой? – Кузьма Ерофеич услышал над собой участливый голос Веры. Он открыл глаза и увидел, что девушка наклонилась над ним с кружкой холодной воды и, чуть не плача, брызгает ему в лицо. – Ничего, это пройдёт, – слабым голосом ответил Кузьма Ерофеич, – просто что-то в глазах потемнело…Губы Веры нежно прикрыли ему рот, а её безумно ласковые руки…– Кто женщина? Я женщина, или она женщина? – подумал Кузьма Ерофеич, уже с какой-то обречённостью. С третьими петухами чары старой колдуньи перестали оказывать своё зловредное действие, и Вера уснула, оставив, наконец, в покое полурастерзанного Кузьму Ерофеича. Он тоже спал, и ему снилась армия, Курильские острова, где он служил, и где на сотни километров не было ни одной женщины. Проснувшись поздно утром, Кузьма Ерофеич потянул на себя простыню и прикрыл свой бездыханный срам. Вера хлопотала на кухне, пела популярную детскую песенку «Лучше хором, лучше – хором!». Аппетитно пахло жареной картошкой и салатом из огурцов. Перебирая в памяти подробности своего ночного подвига, Кузьма Ерофеич вдруг со всей ясностью представил, что ему, в его положении, теперь и на улице показаться нельзя. К великому своему стыду и страху, он вдруг обнаружил, что женщины перестали его интересовать. Уже сейчас, точно, всё село об этом знает, хотя, он уверен, Вера никому ничего не рассказывала, и даже из дому ещё не выходила. Может, и вправду на неё жениться? А там уже – обратиться к врачам… В сельсовете их расписали за каких-нибудь десять-пятнадцать минут. Вера была в светлом платье с небольшим вырезом, в белых туфельках. На Кузьме Ерофеиче ладно сидел его вчерашний костюм. Чистая, гладко отутюженная, рубашка, И все пуговицы на рубашке и костюме были пришиты крепко-накрепко тонкими руками рыженькой девушки Веры, которая в это утро выглядела необыкновенно красивой.
МЕРА ЛЮБВИ
Я любил тебя. Любил пылко, страстно, сильно. Так не любят. Так не хотят. Это была болезнь. Я так хотел, чтобы ты мне изменила. Изменила. Изменила. Изменила. Потому что я сильно и страстно любил тебя. А так нельзя. От женщины можно сбежать, когда она тебе изменит. Когда изменяет. Замечательный повод! Не подошли характерами. Наскучили тела. С другим, наверное, интереснее. Как узнать, если не попробовать, как с другим? Я тебя любил. И у меня не было выхода. Уйти, бросить, самому переключиться на какую-тодругую женщину, я не мог. Я знал, что это получится у тебя. У тебя получилось. И так здорово, что даже я не ожидал. Это была и не измена вовсе. У тебя с ним ничего не было. Если не считать… Да, если этого не считать, то ничего, конечно, не было. И ты ему рассказала, как любишь меня. Единственного своего и неповторимого. Неповторяемого. Если не считать, то это была и не измена вовсе. А, впрочем, что нас связывало? Чем мы были обязаны друг другу? Встретясь – шутили. Шутя целовалися. Ничем не обязаны. В мире каждую секунду рождаются и гибнут тысячи связей. Шутя, ты рассказала мне про эту свою почти не связь. Взахлёб, с восторгом и радостью, как только можно рассказывать самому близкому человеку. Я не упал, не умер. Со мной не случилось истерики. В конце концов, я сам этого хотел. Во рту что-то пересохло. Почему не попить водички? Воды целый графин. Я сам этого хотел. Я представлял, как мне будет легко. И руки и ноги развязаны. То было какое-то чувство вины: обманул – и не женюсь. Ну, в конечном счёте, всё равно выходит, что обманул. А тут – прекрасный случай: вот видишь, сама виновата. Ай-ай-ай, какая бессовестная! И у меня и руки и ноги развязаны. И никакого чувства вины. Но я тебя любил. Оказалось, что любил, даже с развязанными ногами. Как бы я ни прятал, как бы ни скрывал это от самого себя, я любил тебя. Почему-то я чувствовал, что, хотя 40 лет, это ещё не предел, а, если и предел, то не последний, но… как будто должно было что-то, самое дорогое, потеряться безвозвратно, и я должен отвернуться, не заметить, и даже забыть, что оно у меня было. Потом ты плакала, говорила, что то, что случилось, совсем не случилось. А любишь ты меня. Но мне-то была какая разница. Мненужно было тебя бросить, и я дождался уважительной причины. Ах ты, бессовестная! Изменница. А я – свободен. Как пень. Как перст. Как сокол. Хочу – к Людке пойду. Хочу – к Нинке Васильевой. Пока ты плакала, мучаясь угрызениями совести, я ходил по бабам. Самый простой способ разлюбить, забыть женщину – это поспать, либо позаниматьсябессонницей с другой женщиной. Я завлёк женщину, кинулся на неё спать, но у меня ничего не вышло. Я думал, что это какая-то ошибка, и кинулся ещё и ещё. Женщина нормальная. Прекрасные пропорции. Совершенная, гладкая кожа. Глубокие глаза. Она мне говорила: “Что с вами?”, да, она была ещё и молода, как ты, называла меня на “вы”. Была внимательна, тактична и терпелива, даже без меры. Ведь, всё равно, у меня ничего не получилось. И не могло. Я тебя любил. Я любил тебя. Во всём виновата была, конечно, ты. Сучка проклятая. Проститутка. За всё, что сам я с тобой сделал, я злился на тебя. Тогда, когда у меня ничего не получилось, я побежал к тебе. Я всё-таки побежал к тебе. Я вырвалтебя из тёплого гнезда твоих родителей и трахнул тут же, в подъезде, стоя, осыпая ругательствами и проклятьями. И были ещё встречи, короткие и безумные, как прыжки в пропасть. Был какой-то восторг предсмертия любви, её сладострастная агония. Расстались обычно. Так, как обычно расстаются навсегда. Ты выходила замуж. У тебя была новая любовь. И я благодарил Бога, что, в сущности, всё кончилось так благополучно. Ты определена. И я, наконец-то, свободен. Когда любовь, когда эта жгучая страсть, покинула моё тело, моё сознание, я, конечно, смог опять зажить спокойной, размеренной жизнью одинокого сорокалетнего мужчины. Который неподконтролен, никому ничего не обязан. Который встречается с женщиной, когда ему нужна женщина и давит в огороде колорадского жучка в промежутках времени, когда женщина не нужна. Когда захотел – выпил. И постирал себе носки, когда захотел. Через пару лет моей прекрасной независимой жизни я встретил тебя в скверике Туглук-батыра. Коляска, ребёнок. Хороший ребёнок. Хохотун, весь в тебя. Но увидел меня, и ему захотелось плакать. Потом, дома, я посмотрелся в зеркало. Что-то, действительно, было в облике жалостное. И я подумал, что,видимо, на всё в жизни отпускается какая-то мера. Зла, терпимости, добра, здоровья. Мера любви. Я много, беспорядочно влюблялся. И мне везло на удивительных, замечательных, прекрасных женщин. Они безоглядно доверялись моим обманчивым восторгам. И, благодаря им, я прожил много мучительно-счастливых и разных жизней. А с тобой что-то сломалось. После тебя. Там, в сквере, среди фраз о быте, семье и погоде, я вдруг случайно запнулся. Всё было хорошо. Светило солнце. В коляске играл ребёнок. А в больших твоих глазах, если заглянуть туда глубже, оставалась на всю нашу с тобой, уже разделенную, жизнь, твоя любовь первая, и моя – последняя.