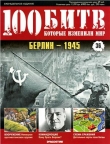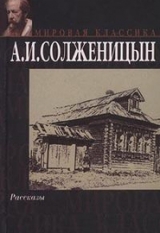
Текст книги "Адлиг Швенкиттен (Односуточная повесть)"
Автор книги: Александр Солженицын
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Солженицын Александр И
Адлиг Швенкиттен
Солженицын Александр Исаевич
Адлиг Швенкиттен
Односуточная повесть
Памяти майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балуева.
1
В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что наш передовой танковый корпус вырвался к балтийскому берегу! И значит: Восточная Пруссия отрезана от Германии!
Отрезана – пока только этим дальним тонким клином, за которым ещё не потянулся шлейф войск всех родов. Но – и прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия! Окружена!
Это уже считайте, товарищи политработники, и окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина – рукой подать, если и не нам туда заворачивать.
Уже пять дней нашего движения по горящей Пруссии – не было недостатка в праздниках. Как одиннадцать дней назад мы прорвали от наревского расширенного плацдарма – то пяток дней по Польше ещё бои были упорные, – а от прусской границы будто сдёрнули какой-то чудо-занавес: немецкие части отваливались по сторонам – а нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами; спаньё на мягком, а то и под пуховиками; в погребах – продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей; ещё ж и даровая выпивка, кто найдёт.
И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и мыслях. Ну, после стольких-то лет военных жертв и лишений – когда-то же чуть-чуть и распуститься.
Это чувство заслуженной льготы охватывало всех, и до высоких командиров. А бойцов – того сильней. И – находили. И – пили.
И ещё добавили по случаю окружения Пруссии.
А к утру 26го семеро бригадских шоферов – кто с тягачей, кто с ЗИСов скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчётов. И несколько – схватились за глаза.
Так начался в бригаде этот день. Слепнущих повезли в госпиталь. А капитан Топлев, с мальчишеским полноватым лицом, едва произведенный из старшего лейтенанта, – постучал в комнату, где спал командир 2го дивизиона майор Боев, – доложить о событии.
Боев всегда спал крепко, но просыпался чутко. В такой постели дивной, да с пышным пуховиком, разрешил он себе снять на эту ночь, теперь натягивал, гимнастёрку, а на ковре стоял в шерстяных носках. На гимнастёрке его было орденов-орденов, удивишься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (ещё и с Хасана было, ещё и с финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл). И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками: приятная эта тяжесть – одна и радость солдату.
Топлев, всего месяц как из начальника разведки дивизиона – начальник штаба, уставно, чинно откозырял, доложил. Личико его было тревожно, голос ещё тёпло-ребяческий. Из 2го дивизиона тоже на смерть отравились: Подключников и Лепетушин.
Майор был роста среднего, а голова удлинённая, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень и нос как чуть-чуть бы свёрнут к боковой глубокой морщине – как будто неуходящее постоянное напряжение.
С этим напряжением и выслушал. И сказал не сразу, горько:
– Э-э-эх, глупеньё...
Стоило уцелеть под столькими снарядами, бомбёжками, на стольких переправах и плацдармах – чтоб из бутыли захлебнуться в Германии.
Хоронить – да где ж? Сами себе место и выбрали.
Пройдя Алленштейн, бригада на всяк случай развернулась на боевых позициях и здесь – хотя стрелять с них не предвиделось, просто для порядка.
– Не на немецком же кладбище. Около огневой и похороним.
Лепетушин. Он и был – такой. Говорлив и услужливо готовен, безответен. Но Подключников? – высокий, пригорбленный, серьёзный мужик. А польстился.
2
Земля мёрзлая и каменистая, глубоко не укопаешь.
Гробы сколотил быстро, ловко свой плотник мариец Сортов – из здешних заготовленных, отфугованных досок.
Знамя поставить? Никаких знамён никто никогда не видел, кроме парада бригады, когда её награждали. Всегда хранилось знамя где-то в хозчасти, в 3м эшелоне, чтоб им не рисковать.
Подключников был из 5й батареи, Лепетушин из 6й. А речь произносить вылез парторг Губайдулин – всего дивизиона посмешище. Сегодня с утра он уже был пьян, и заплётно выговаривал заветные фразы – о священной Родине, о логове зверя, куда мы теперь вступили, и – отомстим за них.
Командир огневого взвода 6й батареи, совсем ещё юный, но крепкий телом лейтенант Гусев слушал со стыдом и раздражением. Этот парторг – по легкоте проходимости политических чинов? или, кажется, по непомерному расположению комиссара бригады? – на глазах у всех за полтора года возвысился от младшего сержанта до старшего лейтенанта, и теперь всех поучал.
А Гусеву было всего 18 лет, но уже год лейтенантом на фронте, самый молодой офицер бригады. Он так рвался на фронт, что отец-генерал подсадил его, ещё несовершеннолетнего, на краткосрочные курсы младших лейтенантов.
Кому как выпадает. А рядом стоял Ваня Останин, из дивизионного взвода управления. Большой умница и сам хорошо вёл орудийную стрельбу за офицера. Но в сталинградские дни 42го года – из их училища каждого третьего курсанта выдернули недоученного, на фронт. Отбирал отдел кадров, на деле Останина стояла царапинка о принадлежности к семье упорного единоличника. И теперь этот 22-летний, по сути, офицер носил погоны старшего сержанта.
Кончил парторг – Гусева вынесло к могилам, на два шага вперёд. Хотелось не так, хотелось – эх! А речь – не высекалась. И только спросил сжатым горлом:
– Зачем же вы так, ребята? Зачем?
Закрыли крышки.
Застучали.
Опускали на верёвках.
Забросали чужой землёй.
Вспомнил Гусев, как под Речицей бомбанул их Юнкерс на пути. И никого не ранил, и мало повредил, только в хозмашине осколком разнёс трёхлитровую бутыль с водкой. Уж как жалели ребята! – чуть не хуже ранения. Не балуют советских солдат выпивкой.
В холмики встучали надгробные столбики, пока некрашенные.
И кто за ними надсмотрит? В Польше немецкие военные надгробья с Пятнадцатого года стояли. Ищуков, начальник связи, – на Нареве выворачивал их, валял, – мстил. И никто ему ничего не сказал: рядом смершевец стоял, Ларин.
Гусев проходил мимо затихшей солдатской кучки и слышал, как из его взвода, из того же 3го расчёта, что и Лепетушин был, подвижный маленький Юрш поделился жалобно:
– А – и как удержаться, ребята?
Как удержаться? в том и сладкая косточка: думаешь – пройдёт.
Но – промахнуло серым крылом по лицам. Охмурились.
Командир расчёта Николаев, тоже мариец, очень неодобрительно смотрел суженными глазами. Он водки вообще не принимал.
А жизнь, а дело – течёт, требует. Капитан Топлев пошёл в штаб бригады: узнать, как похоронки будем писать.
Начальник штаба, худой, долговязый подполковник Вересовой, ответил с ходу:
– Уже комиссар распорядился: "Пал смертью храбрых на защите Родины".
Сам-то он голову ломал: кого теперь рассаживать за рули, когда поедем.
3
Ошеломительно быстрый прорыв наших танков к Балтийскому морю менял всю картину Прусской операции – и тяжёлая пушечная бригада никуда не могла поспеть и понадобиться сегодня-завтра.
А комбриг уже не первый день хромал: нарыв у колена. И уговорил его бригадный врач: не откладывать, поехать сегодня в госпиталь, соперироваться. Комбриг и уехал, оставив Вересового за себя.
Ни дальнего звука стрельбы ниоткуда. Ни авиации, нашей ли, немецкой. Как кончилась война.
День был не холодный, сильно облачный. Малосветлый. Пока – сворачивались со своих условных огневых позиций, и все три дивизиона подтягивались к штабу бригады.
Тихо дотекало к сумеркам. Уже и внедрясь в Европу, счёт мы вели по московскому времени. Оттого светало чуть не в девять утра, а темнело, вот, к шести.
И вдруг пришла из штаба артиллерии армии шифрованная радиограмма: всеми тремя дивизионами немедленно начать движение на север, к городу Либштадту, а по мере прибытия туда – всем занять огневые позиции в 7-8 километрах восточнее его, с основным дирекционным углом 15-00.
Всё-таки сдёрнули! На ночь глядя. Да так всегда и бывает: когда меньше всего охота двигаться, а только бы – переночевать на уже занятом месте. Но поражало 15-00. Такого не было за всю войну: прямо на восток! Дожили. Привыкли от 40-00 до 50-00 – на запад, с вариациями.
Нет, ещё раньше разила начальника штаба потребность немедленно заменить перетравившихся шоферов. Запасных – почти не было. С каких рулей снимать и что оставить без движения? Больше всех пострадал 1й дивизион, и подполковник Вересовой запросил штаб артиллерии оставить его на месте, за счёт него докомплектовать тягу 2го и 3го.
Выхода и нет. Разрешили.
Переломиться к ночному движению – трудны только самые первые минуты. А вот уже двадцать четыре крупнокалиберные пушки-гаубицы подцепляли тракторами – все нагло с фарами. За ними строились подсобные машины. Всё вокруг рычало.
"...километров восточнее" – это очень не всё. Топографическая карта, километр в двух сантиметрах, вот передавала складки местности, да не все, конечно; шоссе и просёлочные дороги, и какие обсажены, а какие нет; и извивы реки Пассарге, текущей с юга на север, и отдельные хутора, рассыпанные по местности, – да все ли хутора? а ещё сколько там троп? А хутора – с жителями, без жителей?
Подполковник наудачу прикинул: 2й дивизион вот тут, поюжней, 3й– вот тут, посеверней.
Разметили примерными овалами.
Майор Боев стоял с распахнутой планшеткой и хмуро рассматривал карту. Сколько сотен раз за военную службу приходилось вот это ему – получать задачу. И нередко бывало, что расположение противника при этом не сообщалось, оставалось неизвестным: начнётся боевая работа – тогда само собой и прощупается. А сейчас – ещё издали, за 25 километров от того Либштадта, – как угадать, где пустота, а где оборванный немецкий фланг? А главное: где наша пехота? и той ли дивизии, какая сюда назначена? Ведь наверняка отстали, не за танками им угнаться, растянулись – и насколько? И где их искать?
Но привычно твёрдый голос Вересового не выдавал сомнений. Стрелковая дивизия – да, наверно, та самая, что и была. Растянулась, конечно. Да немцы в ошеломлении, наверно стягиваться будут к Кёнигсбергу. Штаб бригады – будет в Либштадте или около. Где-нибудь там и штаб дивизии.
А в чём был смысл – занять огневые позиции до полуночи? В темноте топопривязки не сделаешь, только по местным ориентирам, приблизительно, такая приблизительная будет и стрельба.
Да при орудиях – сильно неполный боекомплект.
Тылы отстали. Что делать, подвезут.
Боев посмотрел на Вересового исподлобья. С начальством и близким не договоришься. Как и тому – со своим. Начальство – всегда право.
По зимней дороге и с малым гололёдом ещё надо дотянуться невредимо до этого Либштадта, часа бы за три. За тучами – луна уже должна быть. Хоть не в полной тьме.
Слитно рычали тракторы. Вся колонна, светя десятками фар, вытягивалась из деревни на шоссе.
Выбирались едва не полчаса. Потом гул отдалился.
4
А какой подъём от Победы!
И от тишины, глухоты, – всё это тоже знаки Победы.
И от этого – всюду брошенного, ещё тёплого немецкого богатства. Собирай, готовь посылки домой, солдат пять килограмм, офицер – десять, генерал – пуд. Как отобрать лучшее, не ошибиться? А уж сам тут – ешь, пей, не хочу.
Каждый дом квартировки – как чудо. Каждая ночёвка – как праздник.
Комиссар бригады подполковник Выжлевский занял самый видный дом в деревне. В нижнем этаже – даже не комната, а большой зал, освещённый дюжиной электрических ламп с потолка, со стен. И шёл же откуда-то ток, не прерывался, тоже чудо. Здешняя радиола (заберём её) подавала, в среднем звуке, танцевальную музыку.
Когда Вересовой вошёл доложиться, Выжлевский – крупноплечий, крупноголовый, с отставленными ушами, сидел, утонувши в мягком диване у овального столика, с лицом блаженным, розовым. (Этой голове не военная фуражка бы шла, а широкополая шляпа.)
На том же диване, близ него, сидел бригадный смершевец капитан Тарасов всегда схватчивый, доглядчивый, легкоподвижный. Очень решительное лицо.
Сбоку распахнута была в обе половинки дверь в столовую – и там сервировался ужин, мелькнули две-три женские фигуры, одна в ярко-синем платьи, наверно немка. А была и политотдельская, переоделась из военного, ведь гардеробным добром изувешаны прусские шкафы. Тянуло запахом горячей пищи.
Вересовой с чем пришёл? В отсутствие комбрига он был формально старший, и мог бы сам принять любое дальше решение. Но, прослужив в армии уже полтора десятка лет, хорошо усвоил не решать без политруков, всегда надо знать их волю и не ссориться. Так вот насчёт перевозки штаба? – не сейчас бы и ехать?
Но явно: это было никак невозможно! Ждал ужин и другие приятности. Такой жертвы нельзя требовать от живых людей.
Комиссар слушал музыку, полузакрыв глаза. Доброжелательно ответил:
– Ну, Костя, куда сейчас ехать? Среди ночи – что там делать? где остановимся? Завтра встанем пораньше – и поедем.
И оперуполномоченный, всегда уверенный в каждом своём жесте, чётко кивнул.
Вересовой не возразил, не поддакнул. Стоял палкой.
Тогда Выжлевский в удобрение:
– Да приходи к нам ужинать. Вот, минут через двадцать.
Вересовой стоял – думал. Оно и самому-то ехать не хотелось: эти прусские ночлеги сильно размягчают. И ещё соображение: 1й дивизион стоит разукомплектованный, не бросить же его.
Но и взгреть могут.
Тарасов нашёлся, посоветовал:
– А вы – снимите связь и с армией, и с дивизионами. И вот, для всех мы будем – в пути, в переезде.
Ну, если смершевец советует – так не он же и стукнет?
А ехать на ночь – и правда, выше сил.
5
Весь вечер сыпал снежок, притрушивая подледеневшее шоссе. Ехали медленно не только от наледи, но чтоб и лошади не сильно отстали.
В Либштадте простились, обнялись с комдивом 3го, он северней забирал.
В пути глядя на карту при фонарике: выпадало Боеву переехать на восточный берег Пассарге, потом ещё километра полтора по просёлочной, и поставить огневые, наверно, за деревней Адлиг Швенкиттен, – так, чтобы вперёд на восток оставалось до ближнего леса ещё метров шестьсот прозора и не опасно стрелять под низким углом.
Мост через Пассарге оказался железобетонный, целёхонький, и проверять проходимость не надо. Левый западный берег крутой, с него уклонный съезд на мост.
Тут – оставили маяка, для лошадиных саней. Никаких лошадей, ни телег, моторизованным частям по штату не полагалось, и начальство мыслило, что таковых, разумеется, нет. Но ещё от орловского наступления и потом когда шли все батареи нахватали себе бродячих, трофейных, бесхозных, а то и хозных лошадей и потянули на них подсобный тележный обоз. Во главе такого обоза ставишь грамотного сержанта – и он всегда свои батареи нагонит, найдёт. Трактора Аллис-Уильмерс – конечно, отличные, но с ними одними и пропадёшь. Потом, и особенно ближе к Германии, нахватывали вместо наших средних лошадок да крепких немецких битюгов, лошадиных богатырей. Зимой меняли телеги на сани. Вот сегодня бы без саней – от огневых до наблюдательных, по снежной целине, сколько бы на себе ишачить?
Снегопад поредел, а выпало, смотри, чуть не в полголени. На орудийных чехлах наросли снежные шапочки.
Нигде – никого ни души. Мертво. И следов никаких.
Вмеру посвечивая фарами, поехали по обсаженной, как аллейка, дороге. И тут никого. Вот – и Адлиг. Чужеродные постройки. Все дома темны, ни огонька.
Послали поглядеть по домам. Дома деревни – пустые и все натопленные. Часов немного, как жители ушли.
Значит и недалеко они. Ну, одни б молодки убежали в лес, – нет, все сплошь.
По восточной окраине Адлига вполне уставлялись восемь пушек, однако, всё ж, не двенадцать, да и бессмысленно бы так. Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою Шестую батарею – метров восемьсот поюжней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен.
Но и до чего ж – никого. В Либштадте не поискали, а от самого Либштадта никого живого не видели. Где ж пехота? Вообще из братьев-славян– ни души.
И получалось непонятно: вот поставим здесь орудия – слишком далеко от немцев? Или, наоборот, зарвались? Может, они и в этом ближнем леске сидят. Пока – выдвинуть к тому леску охранение.
Делать нечего. Трактора рычали. Шестая утягивалась по боковой дороге в Кляйн картой. Карта – всегда много говорит. Если в карту вглядываться, в самом и безнадежьи что-то можно увидеть, догадаться.
Боев никого не торопил, всё равно саней подождём. В беззвестье он, бывало, и попадал. Попадал – да на своей земле.
Радист уже связался со штабом бригады. Ответ: скоро выезжаем. (Ещё не выехали!) А новостей, распоряжений? Пока никаких.
Вдруг – шаги в прихожей. Вошёл, в офицерской ладной шинели, – командир звукобатареи, оперативно подчинённой Боеву. Давний приятель, ещё из-под Орла, математик. И сразу же свою планшетку с картой к лампе развёртывает. Думает он: вот, прямая просёлочная на северо-восток к Дитрихсдорфу, ещё два километра с лишком, там и центральная будет, туда и тяните связь.
Смотрит Боев на карту. Топографическую читал он быстрей и точней, чем книгу. И:
– Да, будем где-то рядом. Я – правей. Нитку дам. А топографы?
– Одно отделенье со мной. Да какая ночью привязка? Наколют примерно. И к вам придут.
Такая и стрельба будет. Приблизительная.
Торопится, и поговорить некогда. Хлопнули дружеским пожатием:
– Пока?
Что-то не сказано осталось. И своих бы комбатов наставить, так и они заняты. И – лошадей пождать.
И прилёг Боев на диванчик: в сапогах на кровать – неудобно. А без сапог не солдат.
6
Для кого война началась в 41м, а для Боева – ещё с Хасана, в 38м. Потом и на финской. Так и потянулось сплошной войной вот уже седьмой год. Два раза перебывал на ранениях – так та ж война, а в родной край отпусков не бывает. В свою ишимскую степь с сотнями зеркальных озёр и густостайной дичью, ни к сестре в Петропавловск вот уж одиннадцатый год путь так и не лёг.
Да когда в армию попал – Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на воле? Южная Сибирь долго не поднималась от гражданской войны, от подавленного ишимского восстания. В Петропавловске, там и здесь, – заборы, палисадники ещё разобраны, сожжены, а где целы – покривились. Стёкла окон подзаткнуты тряпками, подзатянуты бумагой. Войлок дверной обивки где клоками висит, где торчит солома или мочало. С жильём – хуже всего, жил у замужней сестры Прасковьи. Да и с обувью не лучше: уж подшиваешь, подшиваешь подошвы – а пальцы наружу лезут. А с едой ещё хуже: этого хлеба карточного здоровому мужику – ничто... И везде в очереди становятся: где – с пяти утра, а где набегают внезапной гурьбой, не спрашивая: а что будут давать? Раз люди становятся – значит, что-то узнали. И – нищих же сколько на улицах.
А в армии – наворотят в обед борща мясного, хлеба вдосыть. Обмундирование где не новенькое, так целенькое. Бойцы армии – любимые сыны народа. Петлицы малиновые пехотные, чёрные артиллерийские, голубые кавалерийские, и ещё разные (красные – ГПУ). Чёткий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок – и жизнь твоя осмыслена насквозь: жизнь – служба, и никто тут не лишний. Рвался в армию ещё до призыва.
Так – ни к чему, кроме армейского, не приладился, и не женился, – а позвала труба и на эту войну.
В армии понял Павел, что он – отродный солдат, что родная часть ему – вот и дом. Что боевые порядки, стрельбы, свёртывания, передвижки, смены карт, новые порядки – вот и жизнь. В 41м теряли стволы и тягу – но дальше такого не случалось, только если разворотит орудие прямым попаданием или на мине трактор подорвётся. Война – как просто работа, без выходных, без отпусков, глаза – в стереотрубу. Дивизион – семья, офицеры – братья, солдаты – сынки, и каждый своё сокровище. Привык к постоянной передряге быта, переменчивости счастья, уже никакой поворот событий не мог ни удивить, ни напугать. Нацело – забыл бояться. И если можно было напроситься на лишнюю задачу или задачу поопаснее всегда шёл. И под самой жестокой бомбёжкой и под густым обстрелом Боев не к смерти готовился, а только – как операцию заданную осмыслить и исполнить получше.
Глаза открыл (и не спал). Топлев вошёл. Лошади – притянули.
Боев сбросил ноги на пол.
Мальчик он ещё, Топлев, хлипок для начальника штаба. Но и комбата ни одного отпустить не хотелось на штаб, взял с начальника разведки.
Позови Боронца.
Крепок, смышлён старшина дивизиона Боронец, и глаза же какие приёмчивые. Уже сам догадался: из саней убирает лишнее – трофеи, барахло. Трое саней – под погрузку, на три наблюдательных – катушки с проводом, рации, стереотрубы, гранаты, чьё и оружие, чьи и мешки, из взводов управления, и продукты.
– После Либштадта – кого видел по дороге? Пехоту?
Боронец только чмокнул, покачал большекруглой головой.
– Ник-к-кого.
Да где ж она? Совсем её нет?
Вышел Боев наружу. Мутнела пасмурная ночь, прибеленная снегом. Висела отстоенная тишина. Полная. Сверху снежка больше не было.
Все трое комбатов – тут как тут. Ждут команды. Один всегда – при комдиве, это Мягков будет, как и часто. А Прощенков, Касьянов – по километру влево, вправо, на своих наблюдательных, и связь с комдивом только через огневые.
Ну, уже многое видали, сами знают сынки. Сейчас самое важное – правильно выбрать места наблюдательных. Ещё раньше: на какую глубину можно и нужно внедриться. В такой темноте, тишине и без пехотной линии – как угадать? Мало продвинешься – будешь сидеть бесполезно, много продвинешься – и к немцам не чудо попасть.
– А всё ж таки понимай, ребята: вот такая тишина, и такая пустота – это может быть очень, очень серьёзно.
Топлеву:
– Ищи, Женя, пехоту, нащупывай всеми гонцами. Найдёшь – пусть командир полка меня ищет. Это уж... слишком такое... Из бригады – узнавай, узнавай обстановку. А я выберу НП – свяжусь с тобой.
И прыгнул в передние сани.
7
В отсутствие комбата старшим офицером 6й батареи был командир 1го взвода старший лейтенант Кандалинцев. А по годам он был и старше всех бригадных командиров взводов: под 40 лет. И росту изрядного, хотя без статной выправки, плечи не вразвёрт, голова прежде времени седая, и распорядительность разумная – его и другие комвзвода "батей" называли.
А Олег Гусев, хотя и вырос среди уличных городских сорванцов, – от Кандалинцева ещё много жизненного добирал, чего б ниоткуда не узнать.
Ещё раньше, чем поставили все четыре пушки в боевое положение, Кандалинцев распорядился выставить на 50 метров вперёд малым веером– охранение. А замолкли оттянутые от огневых трактора – разрешил расчётам чередоваться у орудий. Гусеву же показал на каменный сарайчик, близко позади:
– Пойдём пока, костям на покой.
Чуть сдвинув батарею, можно было поставить её и ближе к удобным домам, но отсюда стрелять будет лучше.
Да сменные в расчётах туда и побежали спать. Гусев тоже в два дома заходил и покрутил приёмники, надеясь, что попадётся на своём питании, заговорит, нет, молчали глухо. Приёмники в домах – это была заграничная новость, к которой привыкали боязно: по всему Советскому Союзу они на всю войну отобраны, не сдашь – в тюрьму. А тут вот...
Очень уж хотелось Олегу узнать что-нибудь о нашем прорыве, какие б ещё подробности. А батарейные рации ловили только одну нашу станцию на длинных – и никакой сводки о прорыве не было.
Кандалинцева призвали в 41м из запаса, два года он тяжко провоевал на Ленинградском фронте, а после ранения прислали сюда, в бригаду, уже скоро тоже два года.
Когда можно хоть чуть отдохнуть – Кандалинцев никогда такого не пропускал.
Пошли в сарайчик, легли рядом на сено.
А тишина-а-а.
– А может немцы в обмороке, Павел Петрович? Отрезаны, отброшены, к Кёнигсбергу жмутся? Может быть, вот так и война кончится?
Хотя Олег от войны совсем не устал, ещё можно и можно. Отличиться.
– О-ох, – протянул Кандалинцев.
И лежал молча. Но ещё не заснул же?
А Кандалинцев-то всё это знал-перезнал, он все партийные чистки на том прошёл. И – несупротивным, усталым голосом:
– Нет, Олег, ничего у нас не переменится. Смотри бы, хуже не стало. Колхозов? – никогда не отменят, они очень государству полезны. Не теряй время, поспим сколько.
8
Да, война – повседневное тяжкое бремя со вспышками тех дней, когда и голову легко сложить или кровью изойти неподобранному. Однако и на ней не бывает такого угнетённого сердца, как тихому интеллигенту работать в разоряемой деревне девятьсот тридцатого-тридцать первого года. Когда бушует вокруг злобно рассчитанная чума, видишь глаза гибнущих, слышишь бабий вой и детский плач – а сам, как будто, от этой чумы остережён, но и помочь никому не смеешь.
Так досталось Павлу Петровичу сразу после института, молоденькому агроному, принявшему овощную селекционную станцию в Воронежской области. Берёг ростки оранжерейной рассады, когда рядом ростки человеческие и двух лет, и трёх месяцев отправляли в лютый мороз санями – в дальний путь, умирать. Видишься и сам себе душителем. И втайне знаешь, ни с кем не делясь, как крестьяне против колхоза сами портят свой инвентарь. А то лучшие посевные семена перемалывают в муку на едево. А скот режут – так и не скрывают, и не остановить. Потом активисты сгребают последнее зерно из закромов, собирают "красный обоз", тянут в город: "деревня везёт свои излишки", а там, в городе, впереди обоза пойдёт духовой оркестр.
От тех месяцев-лет стал Павел Петрович всё окружающее воспринимать как-то не вполноту, недостоверно, будто омертвели кончики всех нервов, будто попригасли и зрение его, и смех, и обоняние и осязание – и уже навсегда, без возврата. Так и жил. В постоянном пригнёте, что райком разгневается за что – и погонят со службы неблагонадёжного беспартийца. (Хорошо если не арестуют.) И гневались не раз, и теми же омертвелыми пальцами подал заявление в партию, и с теми же омертвелыми ушами сиживал на партийных собраниях. Да какая безалаберность не перелопачивала людям мозги и душу? – от одной отмены недели, понедельник-среда-пятница-воскресенье, навсегда, чтоб и счёту такого не было, "непрерывка"-пятидневка, все работают-учатся в разные дни, и ни в какой день не собраться вместе с женой и с ребятишками. Так и погремела безразрывная гусеница жизни, как косые лопатки траков врезаются в землю.
И с этими навсегда притупленными чувствами Павел Петрович не вполноту ощутил и отправку на войну в августе сорок первого, младшим лейтенантом от прежних призывов. И с тем же неполночувствием, как чужой и самому себе, и своему телу, воевал вот уже четвёртый год, и на поле лежал под Ленинградом, тяжело, пока в медсанбат да в госпиталь. И как до войны любой райкомовский хам мог давать Кандалинцеву указания по селекции, так и на войне уже никогда не удивлялся он никаким глупым распоряжениям.
Вот и война кончилась. Как будто пережил? Но и тут малочувствен оставался Павел Петрович: может ещё и убьют, время осталось. Кому-то ж и в последние месяцы умирать.
Неомертвелое – одно чувство сохранилось: молодая жена, Алла. Тосковал.
Ну, как Бог пошлёт.
9
Сани шли без скрипа, по теплу. Чуть кони фыркнут.
Ночь становилась посветлей: за облаками – луна, а облака подрастянуло. Видны – где, вроде, лесочки, где поле чистое.
Прикрывая снопик ручного фонарика рукавом полушубка, Боев поглядывал на карту – по изгибам их заметенной полевой дороги определяя, где расставаться с комбатами и каждый на свой НП, по снежной целине.
Кажется, вот тут.
Касьянов и Прощенков соскочили с саней, подошли.
– Так не очень от меня удаляйтесь, не больше километра. Работать вряд ли придётся, наверно с утра передвинут. Ну всё же, на разный случай, покопайте.
И – разъехались. Лошади брали уверенно. Местность – мало волнистая, тут и высотку не сразу выберешь. Если до утра не свернут – надо будет подыскать получше.
И всё так же – ни звука. Ни – передвинется какая чернота в поле.
Кого любишь, того и гонишь. Позвал сметливого Останина:
– Ванечка, возьми бойца, сходи вперёд на километр – какой рельеф? И не найдёшь ли кого? Да гранаты прихватите.
Останин с вятским причмоком:
– Щас в поле кого издали увидишь – не окликнешь. "Кто это?" – а тебя из автомата. Или, с нарошки "Wer ist da?", а тебя – свои же, от пуза.
Ушли.
А тут – вытащили кирки и лопаты, помахивали. Верхний слой уковало, как и на могилах сегодня. Лошадей отвели за кустики. Радист, с рацией на санях, вызывает:
– Балхаш, Балхаш, говорит Омск. Дай Двенадцатого, Десятый спрашивает.
Двенадцатый – Топлев – отзывается.
– Из палочек нашли кого?
– Нету палочек, никого, – очень озабоченный голос.
Вот так так. Если и вкруг Адлига пехоты до сих пор нет – и у нас её нет. Где ж она?
– А что Урал?
– Урал говорит: ищите, плохо ищете.
– А кто именно?
– Ноль пятый.
Начальник разведки бригады. Ему б самому тут и искать, а не в штабе бригады сидеть, за тридцать вёрст. Да что ж они с места не сдвинулись? Когда ж – тут будут?
Копали трудно.
Ну, да окопчика три, не в полный профиль. Перекрывать всё равно нечем.
Проворный Останин вернулся даже раньше, чем ждался.
– Товарищ майор. С полкилометра – запад в лощину. И она, кажись, обхватом справа от нас идёт. А я налево сходил, наискосок. Вижу, фигуры копошатся. Еле опознались: заматерился один, катушка у него заела, – так и услышал: свои.
– Кто же?
– Правый звукопост. Тут до них одной катушки нам хватит и будет прямая связь с центральной. Хорошо.
– Ну что ж, тогда тянем. Пусть твой напарник ведёт.
Да – по кому пристреливаться? И с какой привязкой, все координаты на глазок.
– А больше никого? Пехоты нет?
– И следов по снегу нет.
– Да-а-а. Двенадцатый, двенадцатый, ищи палочки! Разошли людей во все стороны!
10
Теперь стало повидней малость: и лесок, что от Адлига слева вперёд. И справа прочернел лес пораскидистей – но это уже, очевидно, за большой тут лощиной.
А штаб бригады перестал отзываться по рации. Хорошо, наверно уже поехали. Но не предупредили.
Топлев очень нервничал. Он и часто нервничал. Он-то был старателен, чтобы всё у него в порядке, никто б не мог упрекнуть. Он – малой вмятинки, малой прогрызинки в своей службе не допускал, ещё прежде, чем начальство заметит и разнесёт. Да часто не знаешь, что правильно делать.
И сейчас места не находил. То – цепочку охранения проверить. То – к пушкам 4й-5й батареи. Из каждого расчёта дежурят человека по два. А остальные растянулись по домам. Ужинают? – есть чем в домах. Прибарахливаются? – тоже есть, а в батарейном прицепе всё уложится. (Осталось в деревне несколько стариков-старух, ничего возразить не смеют.)
Это просто – несчастье, что разрешили из Германии посылки слать. Теперь у каждого солдата набухает вещмешок. Да не знает, на чём остановиться: одного наберёт, потом выбрасывает, лучшего нашёл на свои пять килограмм. Топлеву было это всё – хоть и понятно, но неприятно, потому что делу мешало.