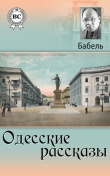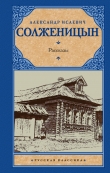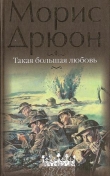Текст книги "Рассказы и крохотки"
Автор книги: Александр Солженицын
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Яков Ананьевич огорчённо посмотрел ей вслед и с большим сокрушением, закрыв глаза, покачал головой.
Лидия Георгиевна быстро шла по полутёмному коридору, зажав комочек носового платка в руке. Там и здесь ребята убирали, переносили прошлогодние щиты – результаты соцсоревнования, карикатуры на прогульщиков, стенные газеты.
В расширении, у чулана, где стояли ящики с вакуумными трубками, двое мальчиков с третьего курса окликнули её: они при разборке сняли сверху и теперь не знали, что делать с макетом – с тем самым объёмным макетом, который, подняв на четырёх шестах, они несли на октябрьской и первомайской демонстрациях перед колонной техникума.
Утверждённое на ящиках, здание, такое уже известное и любимое в мелочах, живо стояло перед ними: белое, с положенными в тех самых местах, где надо, голубыми и зеленоватыми отливами; с той же характерной полубашенкой на углу; с теми же подъездами – большим и малым; с огромными окнами актового зала и точным счётом обыкновенных окон в четыре этажа, каждое из которых уже было кому-то предназначено.
– Может, его это…? – не глядя в глаза и виновато обминаясь, спросил один из мальчиков, – …порубить? Чего! И так повернуться негде…
5
Иван Капитонович Грачиков не любил военных воспоминаний, а своих – особенно. Потому не любил, что на войне худого черпал мерой, а доброго – ложкой. Потому что каждый день и шаг войны связаны были в его пехотинской памяти со страданиями, жертвами и смертями хороших людей.
Также не любил он, что и на втором десятке лет после войны жужжат военными словами там, где они совсем не надобны. На заводе он и сам не говорил и других отучал говорить: «На фронте наступления за внедрение передовой техники… бросим в прорыв… форсируем рубеж… подтянем резервы…» Он считал, что все выражения эти, вселяющие войну и в самый мир, утомляют людей. А русский язык расчудесно обможется и без них.
Но сегодня он изменил своему принципу. В приёмной первого секретаря обкома он сидел с директором техникума, ожидая (в то время как в его собственной приёмной сидели люди и ждали его самого). Грачиков нервничал, звонил отсюда своей секретарше, выкурил две папиросы. Потом присмотрелся к голове Фёдора Михеевича, безрадостно вобранной в плечи, и показалось ему, что вчера тут было засеяно сединою меньше полполя, а сегодня больше. И чтобы тот не кручинился, Грачиков стал ему рассказывать один смешной случай, который произошёл с людьми, знакомыми им обоим, в те короткие дни, когда дивизия их отдыхала во втором эшелоне. Это было уже в сорок третьем году, после ранения Фёдора Михеевича.
Однако зря он рассказывал – Фёдор Михеевич не рассмеялся. А сам Грачиков так и знал, что лучше не разживлять воспоминаний войны. По связи их, уже невольно, пришёл ему в голову и следующий день, когда дивизия получила срочный приказ перейти Сож и развернуться.
Там был разбитый мост. Сапёры ночью отремонтировали его, и Грачиков поставлен был дежурным офицером у входа на переправу: никого не пропускать, пока не пройдёт их дивизия. А мост был тесен, края развалены, негладок настил, и скопляться нельзя было, потому что «юнкерсы» одномоторные два раза выкруживали из-за леса и бросались пикировать, правда – бомбы в воду. И переправа, начавшаяся ещё до рассвета, затянулась за полдень. Тут подсобрались и другие части, тоже охотники переправиться, но ждали очереди в мелком соснячке. Вдруг выехало шесть каких-то крытых (ординарец Грачикова называл «скрытых») новеньких машин, одна в одну, и сразу, обгоняя колонну дивизии, полезли втиснуться на переправу. «Сто-о-ой!» – свирепо кричал Грачиков переднему шофёру и бежал ему наперехват, а тот ехал. Рука Грачикова едва было не дёрнулась или, кажется, уже дёрнулась к кобуре. Тут пожилой офицер в плащ-накидке из первой кабины открыл дверцу и так же свирепо крикнул: «А ну-ка, сюда, майор!» – и повертом плеча сбросил полнакидки – и оказался генерал-лейтенантом. Грачиков подбежал, робея. «Куда руку тянул? – грозно кричал генерал. – Под трибунал хочешь? А ну, пропусти мои машины!» Пока он не приказал пропустить его машины, Грачиков готов был выяснить всё по-хорошему, без крика, и, может, ещё пропустил бы. Но когда сталкивались лбами справедливость и несправедливость, а у второй-то лоб от природы крепче, – ноги Грачикова как в землю врастали, и уж ему было всё равно, что с ним будет. Он вытянулся, козырнул и откроил: «Не пропущу, товарищ генерал-лейтенант!» – «Да ты что-о! – взвопил генерал и сошёл на подножку. – Как фамилия??» – «Майор Грачиков, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите узнать вашу!» – «Завтра же будешь в штрафной!» – яровал тот. «Хорошо, а сегодня займите очередь!» – отбил Грачиков, шагнул перед радиатор их машины и стал, чувствуя, что наливается до бурости вся шея его и лицо, но зная, что не соступит. Генерал запахнулся во гневе, подумал, захлопнул дверцу, и повернули шесть его машин…
Наконец от Кнорозова вышли несколько человек – из областного сельхозуправления и из сельскохозяйственного отдела обкома. Секретарь Кнорозова Коневский (он держался с таким пошибом, и такой у него был письменный стол, что новичок вполне бы его и принял за секретаря обкома) сходил в кабинет и вернулся.
– Виктор Вавилович примет вас одного! – объявил он непреклонно.
Грачиков мигнул Фёдору Михеевичу и пошёл.
У Кнорозова ещё задержался главный зоотехник. Вывернув голову, сколько мог, и извернувшись весь так, будто сами кости у него были гибкие, зоотехник смотрел в большой лист, лежащий перед Кнорозовым, где были красивые цветные диаграммы и цифры.
Грачиков поздоровался.
Высокий гологоловый Кнорозов не обернулся к нему, только скосился:
– Сельского хозяйства на тебе нет. А ходишь – пристаёшь. Жил бы спокойно.
Сельским хозяйством он часто попрекал Грачикова. А сейчас, как знал Грачиков, Кнорозов надумал с сельским хозяйством не только направиться, но и прославиться.
– Так вот, – сказал Кнорозов зоотехнику, медленно и веско опуская пять выставленных длинных пальцев полукружием на большой лист, будто ставя огромную печать. Он сидел ровно, не нуждаясь в спинке кресла для поддержки, и чёткие жёсткие линии ограничивали его фигуру и для смотрящего спереди, и для смотрящего сбоку. – Так вот. Я говорю вам то, что вам сейчас нужно. А нужно вам – то, что я сейчас говорю.
– Ясно, Виктор Вавилович, – поклонился главный зоотехник.
– Возьми же. – Кнорозов освободил лист.
Зоотехник осторожно, двумя руками, выбрал лист со стола Кнорозова, скатал в трубку и, опустив голову, плешью вперёд, пересек этот очень просторный, со многими стульями, рассчитанный на многолюдные заседания кабинет.
Думая, что сейчас пойдёт за директором техникума, Грачиков не сел, только упёрся в кожаную спинку кресла перед собой.
Кнорозов, даже сидя за столом, выказывал свою статность. Долгая голова ещё увышала его. Хотя был он далеко не молод, отсутствие волос не старило его, но даже молодило. Он не делал ни одного лишнего движения, и кожа лица его тоже без надобности не двигалась, отчего лицо казалось отлитым навсегда и не выражало мелких минутных переживаний. Размазанная улыбка расстроила бы это лицо, нарушила бы его законченность.
– Виктор Вавилович! – выговаривая все звуки полностью, сказал Грачиков. Полупевучим говорком своим он как бы наперёд склонял к мягкости и собеседника. – Я – ненадолго. Мы тут с директором – насчёт здания электронного техникума. Приезжала московская комиссия, заявила, что здание передаётся НИИ. Это – с вашего ведома?
Всё так же глядя не на Грачикова, а перед собой вперёд, в те дали, которые видны были ему одному, он растворил губы лишь настолько, насколько это было нужно, и отрубисто ответил:
– Да.
И, собственно, разговор был окончен.
Да?..
Да.
Кнорозов гордился тем, что он никогда не отступал от сказанного. Как прежде в Москве слово Сталина, так в этой области ещё и теперь слово Кнорозова никогда не менялось и не отменялось. И хотя Сталина давно уже не было, Кнорозов – был. Он был один из видных представителей волевого стиля руководства и усматривал в этом самую большую свою заслугу.
Чувствуя, что начинает волноваться, Грачиков заставлял себя говорить всё приветливее и дружелюбнее:
– Виктор Вавилович! А почему бы им не построить себе специальное, для них приспособленное здание? Ведь тут одних внутренних переделок…
– Сроки! – отрубил Кнорозов. – Тематика – на руках. Объект должен открыться немедленно.
– Но окупит ли это переделки, Виктор Вавилович? И… – поспешил он, чтобы Кнорозов не кончил разговора, – и, главное, воспитательная сторона! Студенты техникума совершенно безплатно и с большим подъёмом трудились там год, они…
Кнорозов повернул голову – только голову, не плечи – на Грачикова и, уже отзванивая металлом, сказал:
– Я не понимаю. Ты – секретарь горкома. Мне ли тебе объяснять, как бороться за честь города? В нашем городе не бывало и нет ни одного НИИ. Не так легко было нашим людям добиться его. Пока министерство не раздумало – надо пользоваться случаем. Мы этим сразу переходим в другой класс городов – масштаба Горького, Свердловска.
Но Грачикова не только не убедили и не прибили его фразы, падающие, как стальные балки, а он почувствовал подступ одной из тех решающих минут жизни, когда ноги его сами врастали в землю, и он не мог отойти.
Оттого что сталкивались справедливость и несправедливость.
– Виктор Вавилович! – уже не сказал, а отчеканил он тоже, резче, чем бы хотел. – Мы – не бароны средневековые, чтобы подмалёвывать себе погуще герб. Честь нашего города в том, что эти ребята строили – и радовались, и мы обязаны их поддержать! А если здание отнять – у них на всю жизнь закоренится, что их обманули. Обманули раз – значит, могут и ещё раз!
– Обсуждать нам – нечего! – грохнула швеллерная балка побольше прежних. – Решение принято!
Оранжевая вспышка разорвалась в глазах Грачикова. Налились и побурели шея его и лицо.
– В конце концов что нам дороже? камни или люди? – выкрикнул Грачиков. – Чтó мы над камнями этими трясёмся?
Кнорозов поднялся во всю свою ражую фигуру.
– Де-ма-го-гия! – прогремел он над головой ослушника.
И такая была воля и сила в нём, что, кажется, протяни он длань – и отлетела бы у Грачикова голова.
Но уже говорить или молчать – не зависело от Грачикова. Он уже не мог иначе.
– Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить, Виктор Вавилович!! – упоённо крикнул он. – Это – дольше и трудней! А в камнях мы если завтра даже всё достроим, так у нас ещё никакого коммунизма не будет!!
И замолчали оба.
И стояли не шевелясь.
Иван Капитонович заметил, что пальцам его больно. Это впился он в спинку кресла. Отпустил.
– Не дозрел ты до секретаря горкома, – тихо обронил Кнорозов. – Это мы проглядели.
– Ну и не буду, подумаешь! – уже с лёгкостью отозвался Грачиков, потому что главное он высказал. – Работу себе найду.
– Какую это? – насторожился Кнорозов.
– Черновую, какую! Полюбите нас чёрненькими! – говорил Грачиков в полный голос.
Кнорозов долгим полусвистом выпустил воздух через сжатые зубы.
Положил руку на трубку.
Взял её.
Сел.
– Саша. Соедини с Хабалыгиным.
Соединяли.
Здесь, в кабинете, – ни слова.
– Хабалыгин?.. Скажи, а что ты будешь делать с неприспособленным зданием?..
(Разве «будет делать» – Хабалыгин?..)
– …Как – небольшие? Очень большие… Сроки – это я понимаю… В общем, пока довольно с тебя над одним зданием голову ломать… Соседнего – не дам. Построишь ещё лучше.
Положил трубку.
– Ну, позови директора.
Грачиков пошёл звать, уже думая над новым: Хабалыгин переходит в НИИ?
Вошли с директором.
Фёдор Михеевич вытянулся и уставился в секретаря обкома. Он любил его. Он всегда им восхищался. Он радовался, когда попадал к нему на совещания и здесь мог зачерпнуть, зарядиться от всесобирающей воли и энергии Кнорозова. И потом, до следующего совещания, бодро хотелось выполнять то, что было поручено на предыдущем: повышать ли успеваемость, копать ли картошку, собирать металлолом. То и дорого было Фёдору Михеевичу в Кнорозове, что дá так да, а нéт так нет. Диалектика диалектикой, но, как и многие другие, Фёдор Михеевич любил однозначную определённость.
И сейчас он вошёл не оспаривать, а выслушать приговор о своём здании.
– Что, обидели? – спросил Кнорозов.
Фёдор Михеевич слабо улыбнулся.
– Выше голову! – тихо твёрдо сказал Кнорозов. – От каких же ты трудностей теряешься!
– Я не теряюсь, – хрипловато сказал Фёдор Михеевич и прокашлялся.
– Там у тебя рядом общежитие начато? Достроишь – будет техникум. Ясно?
– Ясно, да, – заверил Фёдор Михеевич.
Но в этот раз как-то не получил заряда бодрости. Закружились сразу мысли: что это – на зиму глядя; что учебный год – на старом месте; что опять-таки и новый техникум будет без актового и физкультурных залов; и общежития при нём не будет.
– Только, Виктор Вавилович! – озабоченно высказал Фёдор Михеевич вслух. – Тогда проект придётся менять. Комнатки – маленькие, на четырёх человек, а надо их – в аудитории, в лаборатории…
– Со-гла-суете! – отсекая движением руки, отпустил их Кнорозов. Уж такими-то мелочами его могли бы не тревожить.
По пути в раздевалку Грачиков похлопал директора по спине:
– Ну, Михеич, и то ничего. Построишь.
– И перекрытие над подвалом менять, – разглядывал новые и новые заботы директор. – Для станков-то его мощней надо. А из-за перекрытия, значит, и первый этаж разбирать, какой уже построили.
– Да-а… – сказал Грачиков. – Ну что ж, рассматривай так, что тебе в хорошем месте дали участок земли, и котлован уже выкопан, и фундамент заложен. Тут перспектива верная: к весне построишь и влезешь, мы с совнархозом подможем. Скажи – хорошо хоть это здание отбили.
Оба в тёмных плащах и фуражках, они вышли на улицу. Дул прохладный, но приятный ветер и нёс на себе мелкие свежие капли.
– Между прочим, – нахмурился Грачиков, – ты не знаешь, Хабалыгин в министерстве на каком счету?
– О-о! Он там большой человек! Он давно говорил: у него там дружки-и! А ты думаешь – он мог бы помочь? – с минутной надеждой спросил Фёдор Михеевич. – Нет. Если б мог помочь, он бы тут же и возражал, когда с комиссией ходил. А он – соглашался…
Прочно расставив ноги, Грачиков смотрел вдоль улицы. Ещё спросил:
– Он что? Специалист по релейным приборам?
– Да ну, какой специалист. Просто – руководитель с опытом.
– Ну, бувай! – вздохнул Грачиков, с размаху подал и крепко пожал ему руку.
Он шёл к себе, обдумывая Хабалыгина. Конечно, такой НИИ – не заводик релейной аппаратуры. Тут директору и ставка не та, и почёт не тот, и к лауреатству можно славировать.
Изловили и клеймили в областной газете какого-то шофёра с женой-учительницей, которые развели при доме цветник, а цветы продавали на базаре.
Но как поймать Хабалыгина?..
Пешком, медленно пошёл Фёдор Михеевич, чтоб его хорошенько продуло. От безсонницы, и от двух порошков нембутала, и от всего, что он передумал за эти сутки, внутри у него стояло что-то неповоротливое, отравное – но ветром этим свежим оно по маленьким кусочкам из него выдувалось.
Что ж, думал он, начнём опять сначала. Соберём всех девятьсот и объявим: здания у нас, ребята, нет. Надо строить. Поможем – будет быстрей.
Ну, сперва со скрипом.
Потом ещё раз увлекутся, как увлекает работа сама по себе.
Поверят.
И построят.
Ещё годок переживём и в старом, ладно.
…А пришёл, сам не замечая, – к новому, сверкающему металлом и стеклом.
Второе, рядом, – чуть поднялось из земли, заплыло песком и глиной.
В безлукавой памяти Фёдора Михеевича после вопросов Грачикова зашевелились какие-то оборванные, повисшие нити о Хабалыгине – и кончиками тянулись друг к другу связаться: и как оттягивал приём объекта в августе, и его радостный вид в комиссии.
И странно – о ком он только начал доумевать по дороге сюда, того и увидел первого на заднем большом дворе строительного участка: Хабалыгин в твёрдой зелёной шляпе и хорошем коричневом пальто решительно ходил по размокшей глине, пренебрегая тем, что измазал полуботинки, и распоряжался несколькими рабочими, видно своими же. Двое рабочих и шофёр стягивали из кузова грузовика столбы – и свежеокрашенные, и уже посеревшие, послужившие в столбовской службе, с отрубленными гнилыми концами. Двое других рабочих, наклонясь, что-то делали, как показывал им Хабалыгин командными взмахами коротких рук.
Фёдор Михеевич подошёл ближе и разглядел, что они забивают колья – но забивают не по-честному, не по прямой, а с каким-то хитрым долгим выступом, чтобы побольше двора прихватить к институту и поменьше оставить техникуму.
– Да Всеволод Борисович! Имейте же вы совесть! Что вы делаете? – вскричал обделённый директор. – Ребятам в пятнадцать-шестнадцать лет дышать надо! побегать! – куда я их буду выпускать?
Хабалыгин как раз занял важную точку, откуда определялась последняя линия его злонаходчивого забора. Расставив ноги поперёк будущей черты, он утвердился и уже поднял руку для взмаха, когда услышал Фёдора Михеевича, подступившего к нему вплотную. Так и держа ладонь ребром перед головой, Хабалыгин лишь чуть повернул голову (да зашеек у него был такой, что особенно головой не разворочаешься), чуть подобрал верхней губой нелёгкие щёки свои, оклычился и проворчал:
– Что? Что-что?
Не дожидаясь ответа, он отвернулся, в створе ладони проверил своих разметчиков, одного выровнял кивками четырёх сложенных пальцев и окончательно, взмахнув короткой рукою, прорубил ею воздух.
Не только воздух, он разрубил, кажется, и самую землю. Нет, не разрубил – он так взмахнул, как проложил бы некую великую трассу. Он взмахнул, как древний полководец, показавший путь войскам. Как первый капитан, наконец-то проложивший верный азимут к Северному полюсу.
И лишь исполнив свой долг, обернулся к Фёдору Михеевичу и объяснил ему:
– Так – надо, товарищ дорогой.
Рабочие носили столбы.
Захар-Калитa1963
Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом.
Давно мы на него целились, но как-то всё дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают, указателей нет, и на карте найдёшь не на каждой, хотя битва эта по Четырнадцатому веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по Девятнадцатому. Таких битв не на одних нас, а на всю Европу в полтысячи лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий – битва материков.
Может, мы и подбираться вздумали нескладно: от Епифани через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в сёдлах, за рули не тащили, а через Дон, ещё не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои велосипеды по пешеходным двудосочным мосткам.
Задолго, с высоты, мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились – потеряли её. Опять стали вытягивать вверх – и опять показалась серая игла, теперь уже явнее, а рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная, постройки невиданной, какая только в сказке может примерещиться: купола её были как бы сквозные, прозрачные, и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили – то ли есть они, то ли нет.
Хорошо догадались мы в лощинке у колодца напиться и фляжки наполнить – это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос: «Где Поле Куликово?» – посмотрел на нас как на глупеньких:
– Да не Куликовó, а Кули́ково. Подле поля-то деревня Кули́ковка, – а Куликóвка вона, на Дону, в другу сторону.
После этого мужичка мы пошли глухими просёлками и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день – ни души, в стороне где-то и помахивала тракторная жатка, и здесь тоже люди были не раз, и придут не раз, потому что засеяно было всё, сколько глаз охватывал, и доспевало уже, – где греча, где свекла, клевер, овёс, и рожь, и горох (того гороху молодого и мы полущили), – а всё же не было никого в тот день, и мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о девяти из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень под теперешним наносом, легли и дóкости растворились в земле, чтоб только Русь встряхнулась от басурманов.
Весь этот некрутой и широкий взъём на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за шесть веков, разве обезлесел. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружьи, с вечера 7 сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней (да только пеших было больше), дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать – едва ли не четверть миллиона русских, больше двухсот тысяч. Тогда народ наш в седьмую ли долю был так люден, как сейчас, и эту силищу вообразить невозможно – двести тысяч!
И из каждых десяти воинов – девять ждали последнего своего утра.
А и через Дон перешли наши тогда не с добра – кто ж по охоте станет на битву так, чтоб обрезать себя сзади рекою? Горька правда истории, но легче высказать её, чем таить: не только черкесов и генуэзцев привёл Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. (И Олега тоже понять бы надо: он землю свою проходную не умел иначе сберечь от татар. Жгли его землю перед тем за семь лет, за три года и за два.) Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном ощитить свою спину от своих же, от рязанцев: не ударили бы, православные.
Игла маячила впереди, да уже не игла, а статная, ни на что не похожая башня, но не сразу мы могли к ней выбиться: просёлки кончались, упирались в посевы, мы обводили велосипеды по межам – и наконец из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравяневшая, заглохшая, заброшенная, а ближе к памятнику уже и совсем явная, уже и с канавами, старая дорога.
Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник, кусок глухого пустопорожнего поля, только что не в ковыле, а в жёстких травах – и лучше нельзя почтить этого древнего места: вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь! – как по восходу солнца сшибаются Телебей с Пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясёт копьями и с перекажёнными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро – и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча тумана встала от Непрядвы и Дона.
И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами.
Тут-то, в самой заверти злой сечи, – если кто-то сумел угадать место, – поставлен и памятник, и та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла проста: со всех пяти куполов соседние жители на свои надобности ободрали жесть, и купола просквозились, вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой, и издали кажется маревом.
А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдёшь пощупать – не поймёшь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше ста лет, а придумка – собрать башню из литья – вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна бы лили. Две площадки, одна на другую, потом двенадцатерик, потом он постепенно скругляется, сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями, потом уходит вверх, как труба в четыре раздвига (а самые раздвиги отлиты как бы из органных тесно сплоченных труб), потом шапка с насечкой и надо всем – золочёный крест, попирающий полумесяц. И всё это – метров на тридцать, всё это составлено из фигурных плит, да так ещё стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни щёлки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит, – пока время, а больше внуки и правнуки не прохудили там и сям.
Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли как на пустое место, не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли: почему так? Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершён поворот её истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги?.. А вот – никому не нужно, никому невдомёк.
И как же мы были рады ошибиться! Сперва невдали от памятника мы увидели седенького старичка с двумя парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге, размером с классный журнал. Мы подошли, узнали, что это – учитель литературы, ребят он подхватил где-то недалеко, книга же была совсем не из школы, а ни мало ни много как Книга Отзывов. Но ведь здесь музея нет, у кого ж хранится она в диком поле?
И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был Смотритель Куликова Поля! – тот муж, которому и довелось хранить нашу славу.
Ах, мы не успели выдвинуть объектив! Да и против солнца нельзя. Да и Смотритель не дался бы под аппарат (он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался). Но описывать его – самого ли сразу? Или сперва его мешок? (В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный и не очень, видно, тяжёлый, потому что он, не утомляясь, его держал.)
Смотритель был ражий мужик, отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а ещё рубаха была привольно расстёгнута, кепка посажена косовато, из-под неё выбивалась рыжизна, брился он не на этой неделе, на той, но черезо всю щеку продралась красноватая свежая царапина.
– А! – неодобрительно поздоровался он, так над нами и нависая. – Приехали? На чём?
Он как бы недоумевал, будто забор шёл кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, составленные в кустах. Хоть он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать.
– Предупреждаю! Посадку не мять! Велосипедами.
И тем сразу было нам установлено, что здесь, на Поле Куликовом, не губы распустя ходят.
На Смотрителе был расстёгнутый пиджак – долгополый и охватистый, как бушлат, кой-где и подштопанный, а цвета того самого из присказки – серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда, мы подумали сперва – орденская; нет – звезда октябрёнка с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он навыпуск длинную синюю в белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить; зато перепоясана была рубаха армейским ремнем с пятиконечной звездою. Брюки офицерские диагоналевые третьего срока заправлены были в кирзовые сапоги, уже протёртые на сгибах голенищ.
– Ну? – спросил он учителя, много мягче. – Пишете?
– Сейчас, Захар Дмитрич, – повеличал его тот, – кончаем.
– А вы? – строго опять. – Тоже будете писать?
– Мы – попозже. – И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили: – А когда этот памятник поставлен – вы-то знаете?
– А как же!! – обиженно откинулся он и даже захрипел, закашлялся от обиды. – А зачем же я здесь?!
И, опустив осторожно мешок (в нём звякнули как бы не бутылки), Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул её – тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому и год поставлен – 1848.
– Это что ж такое?
– А вот, товарищи, – вздохнул Захар Дмитрич, прямодушно открывая, что и он не так силён, как выдал себя вначале, – вот и понимайте. Это уж я сам с плиты списал, потому что каждый требует: когда поставлен? И место, хотите покажу, где плита была.
– Куда ж она делась?
– А чёрт один из нашей деревни упёр – и ничего с ним не сделаем.
– И знаете – кто?
– Ясно знаю. Да долю-то буковок я у него отбил, управился, а остальные до сих пор у него. Мне б хоть буковки все, я б тут их приставил.
– Да зачем же он плиту украл?
– По хозяйству.
– И что ж, отобрать нельзя?
– Ха-га! – подбросил голову Захар на наш дурацкий вопрос. – Вот именно что! Власти не имею! Ружья – и то мне не дают. А тут – с автоматом надо.
Глядя на его расцарапанную щеку, мы про себя подумали: и хорошо, что ему ружья не дают.
Тут учитель кончил писать и отдал Книгу Отзывов. Думали мы – Захар Дмитриевич под мышку её возьмёт или в мешок сунет, – нет, не угадали. Он отвёл полу своего запашного пиджака, и там, с исподу, у него оказался пришит из мешочной же ткани карман не карман, торба не торба, а верней всего калитá, размером как раз с Книгу Отзывов, так что она входила туда плотненько. И ещё при той же калите было стремечко для тупого чернильного карандаша, который он тоже давал посетителям.
Убедясь, что мы прониклись, Захар-Калитá взял свой мешок (да, таки стекольце в нём позванивало) и, загребая долгими ногами, сутулясь, пошёл в сторонку, под кусты. То разбойное оживление, с которым он нас одёрнул поначалу, в нём прошло. Он сел, ссутулился ещё горше, закурил – и курил с такой неутолённой кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера и были ему братья, свояки и сыновья и он не знал теперь, как жить дальше.
Мы решили пробыть тут день до конца и ночь: посмотреть, какова она, куликовская ночь, опетая Блоком. Мы, не торопясь, то шли к памятнику, то осматривали опустошённую церковь, то бродили по полю, стараясь вообразить, кто где стоял 8 сентября, то влезали на чугунные плоскости памятника.
О, здесь были до нас, здесь были! Не упрекнуть, что памятник забыт. Не ленились идолы зубилом выбивать по чугуну и гвоздями процарапывать, а кто послабей – углем писать на церковных стенах: «Здесь был супруг Полунеевой Марии и Лазарев Николай с 8-V-50 по 24-V»; «Здесь были делегаты районного совещания…»; «Здесь были работники Кимовской РКСвязи 23-VI-52»; «Здесь были…»; «Здесь были…».
Тут подъехали на мотоцикле трое рабочих парней из Новомосковска. Они легко вскочили на плоскости, стали разглядывать и ласково обхлопывать нагретое серо-чёрное тело памятника, удивляясь, как он здорово собран, и объясняли нам. За то и мы им с верхней площадки показали, чтó знали, о битве.
А кому теперь уж так точно это знать – где было и как? По летописным рассказам, монголо-татары на конях врубались в пешие наши полки, редили и гнали нас к донским переправам – и уже не защитою от Олега обернулся Дон, а грозил гибелью. Быть бы Дмитрию и тогда Донским, да с другого конца. Но верно он всё расчёл и сам держался, как не всякий сумел бы великий князь. Под знаменем своим он оставил боярина в убранстве, а сам бился как ратник, и видели люди: рубился он с четырьмя татарами сразу. Однако и великокняжеский стяг изрубили, и Дмитрий с помятым панцырем еле дополз до леса, – нас топтали и гнали. Вот тут-то из лесной засады в спину зарьявшимся татарам ударил со своим войском другой Дмитрий, Волынский-Боброк, московский воевода. И погнал он татар туда, как они и скакали, наступая, только заворачивал крутенько и сшибал в Непрядву. С того-то часа воспрянули русские: повернули стенкою на татар, и с земли поднимались, и всю ставку с ханами, и Мамая самого, гнали сорок вёрст через реку Птань и аж до Красивой Мечи. (Но и тут легенда перебивает легенду, и из соседней деревни Ивановки старик рассказывает всё по-своему: что туман, мол, никак не расходился, и в тумане принял Мамай обширный дубняк обок себя за русское войско, испугался: «Ай, силён крестьянский Бог!» – и так-то побежал.)





![Книга Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I] автора Елизавета Магнусгофская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-trinadcat-okkultnye-rasskazy-sobranie-rasskazov.-tom-i-334293.jpg)