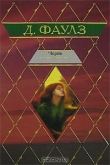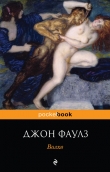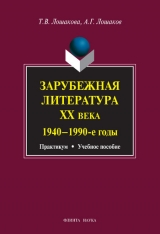
Текст книги "Зарубежная литература ХХ века. 1940–1990 гг.: учебное пособие"
Автор книги: Александр Лошаков
Соавторы: Татьяна Лошакова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В сборнике освенцимских рассказов писателя «Прощание с Марией» представлена гротескная деэволюция человеческого сознания, показан сам лагерь и «путь» к нему не только отдельного человека, но и мира в целом – путь к апокалипсической бездне, который поэт из шаламовского рассказа «Шерри-бренди» определил словами «мир в дороге».
Преддверие лагерного ада – оккупированный город (рассказ «Прощание с Марией») и городская тюрьма («Мальчик с Библией»). Легкость преодоления последней черты, стремительность движения акцентированы вводной фразой следующего, собственно освенцимского, рассказа: «…итак, я уже на медицинских курсах» (т. е. в концлагере). С внешним и внутренним хронотопом бытия героя соотносится и заглавие рассказа, которое звучит парадоксально уютно, по-домашнему: «У нас в Аушвице…». «У нас» – потому что законы цивилизованного мира в локальном лагерном пространстве не нарушились, а «сгустились», приобретя откровенно циничный характер. По мысли писателя, лагерь, в широком понимании этого слова, начинается в большом мире, где насилие стало «нормой» межчеловеческих отношений, где все сферы бытия охвачены торгом. Эмблемой такой жизни, напоминающей бессмысленное коловращение, становится карусель, изображенная в рассказе, давшем название сборнику. В «обычный базарный день» под звуки «визгливой музыки» она медленно движется, окруженная «безнадежной пустотой».
Образ карусели в «Прощании с Марией», приобретающий качество символа, эмблемы, ассоциативно связывается с известным стихотворением Чеслава Милоша «Campo di Fiori» [Милош 2006], написанном поэтом в Варшаве в 1943 г. Речь в нем также идет о карусели. О той варшавской карусели, которая была установлена на площади Красинских (т. е. перед стеной гетто) как раз накануне восстания в гетто. И когда начались бои, карусель продолжала работать, доставляя удовольствие детям, молодежи, прохлаждающейся публике. «Милош сравнивал "веселые толпы" варшавян с римскими торговцами, которые сразу после казни Джордано Бруно вернулись к своим обыденным занятиям и радостям – "розовым креветкам", "корзинам маслин и лимонов". И заканчивает мыслью об "одиночестве в смерти", которой противостоит поэт» [Блонский 2009].
Здесь, на Кампо ди Фьори,
Сжигали Джордано Бруно,
Палач в кольце любопытных
Мелко крестил огонь,
Но только угасло пламя —
И снова шумели таверны,
Корзины маслин и лимонов
Покачивались на головах.
Я вспомнил Кампо ди Фьори
В Варшаве, у карусели,
В погожий весенний вечер,
Под звуки польки лихой.
Залпы за стенами гетто
Глушила лихая полька,
И подлетали пары
В весеннюю теплую синь.
А ветер с домов горящих
Сносил голубками хлопья,
И едущие на карусели
Ловили их на лету.
Трепал он девушкам юбки,
Тот ветер с домов горящих,
Смеялись веселые толпы
В варшавский праздничный день.
(Пер. Н. Горбаневской)
Как человек с чуткой совестью, поэт Милош испытывал душевную неловкость за это стихотворение, ибо в его основе лежит прием параллелизма: человеческому равнодушию к смерти себе подобных («Торгуют, смеются, любят / Близ мученического костра») как бы противопоставляется философская позиция поэта, возвысившегося и над безразличием толпы, и над равнодушием истории:
Я же тогда подумал
Об одиночестве в смерти,
О том, что, когда Джордано
Восходил на костер,
Не нашел ни единого слова
С человечеством попрощаться,
С человечеством, что оставалось,
В человеческом языке.
Как бы оправдываясь, Милош позже будет говорить, что это «стихотворение было „обыкновенным человеческим откликом на то, что происходило весной 1943 года“, и мы, конечно, охотно соглашаемся, что это отклик прекрасный и благородный. В ту чудовищную Пасху поэт спас – как кто-то хорошо сказал – „честь человеческой поэзии“. <…> „Campo di Fiori“ не сумело преодолеть „конфликт жизни с искусством“» [Там же].
В лагерном сверхтексте Боровского за цинической маской повествователя вполне угадываются и чувство неловкости, испытываемое поэтом вследствие осознания невозможности преодолеть на лагерном материале «конфликт жизни с искусством», и чувство вины уцелевшего. В рассказе «У нас в Аушвице» за безмятежным тоном интонации, спокойным ритмом повествования о том, что такое есть «лагерный» человек и какие «чудеса культуры» находятся «в нескольких километрах от печей», – за всем этим обнаруживается горькая ирония автора. Скептическим комментарием сопровождаются упоминания о «городских», которые «реагируют на лагерь, как дикари на огнестрельное оружие», о «симпатичном парне» Адольфе, который «не понимает соотношения предметов и представлений и цепляется за значение слов, как если бы они были реальностью. Он говорит "камераден" и думает, что мы действительно товарищи; он говорит "уменьшать страдания" и думает, что это возможно. На воротах лагеря сплетенные из железных прутьев буквы: "Труд дает свободу". Пожалуй, они и впрямь в это верят, эти эсэсовцы и заключенные немцы. Те, которые воспитывались на Лютере, Фихте, Гегеле, Ницше».
Имена великих мыслителей прошлого, перечнем которых завершается цитируемый фрагмент, переводят сюжетное повествование на более высокий, аналитически обобщающий уровень – на уровень философских размышлений о катастрофическом состоянии мира и человека.
Содержание рассказа «У нас в Аушвице» составляют девять писем, адресованных повествователем любимой девушке в соседний женский концлагерь. Эпистолярная форма позволила Боровскому органично соединить художественные и публицистические элементы. Так, в письме седьмом главным «объектом наблюдения» становятся История и Цивилизация, сотворенные руками человека. Ретроспективный взгляд, устремленный на них с высоты освенцимского опыта, вынуждает автора письма отвергнуть традиционные, стереотипные представления: «Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. <…> Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! <…> Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.
Я говорю "нет" красоте, если в ней таится издевательство над человеком. Нет – истине, которая об этом издевательстве умалчивает. Нет – добру, которое его дозволяет». И далее: «Что будет мир знать о нас, если немцы победят? <…> О нас умолчат поэты, адвокаты, философы, священники. Они создадут красоту, добро и истину. Создадут религию».
Казалось бы, круг замкнулся: История на новом витке повторяет себя; Цивилизация все так же находит оправдание убийству и террору, облекая рабство в более изощренную форму [9]9
В конце ХХ века знаменитый польский иконописец Ежи Новосельский в одном из интервью говорил по этому поводу: «.Освенцим, опыт которого мы знаем, это только одно из проявлений природы, истории. <…> Тех вещей, которые немцы делали в Освенциме, было в истории немало. То же самое чинили вавилоняне, ассирийцы. Разница только в количестве <…> Немцы не были исключением» [Podgorzec 1993: 55, 57–58].
[Закрыть]. И все-таки «я считаю, что достоинство человека поистине заключено в его мысли и в его чувствах». Фраза, завершающая письмо, по сконцентрированному в ней смыслу близка «морали бунта» Камю. Позитивный, с точки зрения французского мыслителя, метафизический бунт против бессмысленности существования парадоксальным образом позволяет человеку обнаружить смысловую ценность каждой конкретной личности и в конечном итоге смысловую ценность мира.
Хронологически «У нас в Аушвице» – первый из освенцимских рассказов, созданных Боровским. В последующих он откажется от прямых философских обобщений, комментариев и моральных оценок. Соответственно изменится и образ рассказчика: и прежде не тождественный, но все же духовно эквивалентный личности автора, он трансформируется в цинично-невозмутимого форарбайтера Тадека. Этот «расторопный» лагерный старожил предстанет перед читателем в рассказах, названия которых способны создать ощущение безмятежного спокойствия («Люди шли и шли», «День в Гармензе»), настроить на восприятие героико-возвышенного повествования («Смерть повстанца»). Заглавия парадоксально соотносятся с текстом, проникнуты иронией, помогающей преодолеть абсурд происходящего. Использует Боровский и прием прямого шокирующего воздействия на читателя, в частности посредством таких заглавий, как «Пожалуйте в газовую камеру» («Proszç panstwa do gazu»). Отметим, что в этом заглавии зафиксированы и те семантические изменения, которые происходили в лагерных условиях с языком.
Внимание писателя привлекает то, что в философской науке принято называть «экзистенцией» человека. В лагере с его максимальной концентрацией зла («мы не отыскиваем зло, мы утопаем в нем»), с каждодневной угрозой массовой смерти («крематорий – наша повседневность») воплощена в реальность глобальная экзистенциальная ситуация: человек перед лицом смерти, человек в ситуации выбора. А выбор невелик: «безобразная, свальная смерть» в газовой камере либо жизнь в лагере и «та же камера, только смерть еще безобразней, еще страшней» [Боровский 1989: 199]. Но человек не ропщет, он покорно принимает свою участь, до последнего вздоха надеясь на чудо, на возможность уцелеть.
Трагизм ситуаций, изображенных в рассказах Боровского, пишет А. Виртх, «заключается не в конечном выборе, а в невозможности его достижения. Предметом трагедии является не выбор, а невозможность выбора. Появление таких ситуаций, бесчеловечность которых состоит в отсутствии альтернативы, Боровский описывает как черту нового времени» [Wirth 1965: 43].
Действительно, на первый взгляд, нет выбора для человека, попавшего в общественно-репрессивную систему, которая «трактует его как вещь и отказывает ему в праве быть человеком» [Wirth 1965: 51]. Однако нельзя не учитывать еще одну исключительно важную для Боровского идею – идею «человека, который решил не сдаваться». Она нашла воплощение, в частности, в рассказе «Мальчик с Библией». «Мальчик, который читал Библию» обладает редким, но все же существующим (вопреки общим закономерностям аномального «каменного мира») качеством – «упрямством духа» (В. Франкл), позволяющим наполнять жизнь смыслом даже в абсурдных и безысходных ситуациях до последнего мгновения.
По убеждению В. Франкла, в экстремальной ситуации лагеря человек все же обладает свободой: он сам решает, какова будет его позиция по отношению к обстоятельствам, будет ли определяться его поведение ценностями и смыслами, локализованными в ноэтическом пространстве: «Телесно-душевный упадок зависел от духовной установки, но в этой духовной установке человек был свободен! Заключив человека в лагерь, можно было отнять у него все <…>, но у него оставалась эта свобода, и она оставалась у него буквально до последнего мгновения, до последнего вздоха. Это была свобода настроиться так или иначе, и это "так или иначе" существовало, и все время были те, которым удавалось подавить в себе возбужденность и превозмочь свою апатию. Это были люди, которые шли сквозь бараки и маршировали в строю, и у них находилось для товарища доброе слово и последний кусок хлеба. Они являлись свидетельством того, что никогда нельзя сказать, что сделает лагерь с человеком: превратится ли человек в типичного лагерника или все же даже в таком стесненном положении, в этой экстремальной пограничной ситуации останется человеком. Каждый раз он решает сам. <…>
Конечно, они были немногочисленны – эти люди, которые выбрали для себя возможность сохранить свою человечность: всепрекрасное так же трудно, как и редко, как сказано в последней фразе «Этики» Бенедикта Спинозы» [Франкл 1990: 143–144].
Примечательно, что выводы, к которым приходят Боровский и Шаламов, одинаково беспощадны: «…лагерная жизнь убедила нас, что весь мир подобен лагерю: слабый работает на сильного, а если у него нет сил или он не хочет работать, – ему остается или воровать, или умереть. Справедливость и нравственность не правят миром, преступления не караются, а добродетель не награждается, и то и другое забывается одинаково быстро. Миром правит сила» (Т. Боровский); «Лагерь мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве социальном и духовном» (В. Шаламов). Но какими бы неутешительными и жесткими не были эти выводы, за ними кроется жизнеутверждающее начало. Это подтверждает уже сам факт написания «колымских» и «освенцимских» рассказов, запечатлевших трагедию сознания человека двадцатого столетия.
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Творчество З. Налковской и Т. Боровского в литературном процессе 1940—1950-х годов.
2. Прозаические циклы З. Налковской («Медальоны») и Т. Боровского («Прощание с Марией»): идейное и жанровое своеобразие.
3. Проблематика и поэтика «малой прозы» З. Налковской.
4. Особенности повествования и способы выражения авторской позиции в «Медальонах».
5. Художественный мир новелл Т. Боровского.
• Структурно-содержательная целостность сборника «Прощание с Марией».
• Образ повествователя и его эволюция.
• Концепция человека и проблема трагического.
• Художественная деталь, ее роль в создании подтекста.
• Характер и функции иронии.
• Семантика заглавий.
• Роль предметного мира, специфика пейзажа.
• Творчество Т. Боровского в аспекте художественных принципов «новой прозы» В. Шаламова.
Вопросы для обсуждения. Задания
1. Первый опыт создания «лагерных» произведений в польской литературе принадлежал Ежи Анджеевскому и был запечатлен в рассказе писателя «Поверка» (1942), опубликованном в сборнике «Ночь» (1945). Анджеевский предпринял попытку художественно смоделировать фрагмент лагерной действительности, которая находилась вне сферы и его личного опыта, и опыта его современников, еще не до конца осознавших тогда, в самый разгар войны, насколько кардинально удалилась История от своего «исходного состояния».
Поэтика рассказа ориентирована на традиции психологической прозы межвоенного периода, прозы о «познании душевной жизни» (Л. Гинзбург). Сохраняя тот уровень представлений о человеке, который был присущ данному типу литературы, автор вводит читателя во внутренний мир персонажа, исследует в деталях динамику его мыслей, ощущений, эмоций. Проблема «автора» как таковая решается традиционно: автор «не имеет никаких сюжетных контактов со своими персонажами, последовательно дистанцирован от изображаемого им мира, не воплощен в какое-либо действующее лицо, но проявляется как "всепроникающий" дух рассказа» [Манн 1994: 441]. В изображенном писателем мире сохраняются такие категории, как доброта, совесть, долг, достоинство, грех, раскаяние. Вполне традиционна и классическая концепция трагизма, основанная на выборе между двумя противоположными системами ценностей. Анджеевский сконструировал свое произведение, используя принцип оппозиции: «мир зла и мир добра; мир дьявола, преступников, палачей и мир людей – терпеливых жертв, обладающих моральным преимуществом и благородством» [Stçpierï 1969: 167, 168].
Писатели, обратившиеся к теме лагеря несколько лет спустя, – З. Налковская и Т. Боровский – отчетливо понимали: чтобы рассказ «о мире, о котором искусство никогда до сих пор не говорило» [Rudnicki 1956: 627], обрел достоверность, необходимо отказаться от традиционных моделей и средств художественного выражения, от уже существовавшей в литературе поэтики прозаических жанров.
Каким творческим преобразованиям подверглись в прозе каждого из художников традиционные формы отражения действительности?
Чем, на ваш взгляд, определяется «некая единая тональность» (В. Ведина) их произведений?
2. Раскройте концептуальную роль эпиграфа в «Медальонах» Налковской? Как соотносится эпиграф с содержанием первого («Профессор Шпаннер») и заключительного («Дети и взрослые в Освенциме») рассказов сборника?
3. Как решается в «Медальонах» проблема автора?
4. «Медальоны» литературная критика относит к числу лучших произведений, разоблачающих зверства фашизма. Подумайте над вопросом: только ли пафосом разоблачения исчерпывается значение и актуальность книги Налковской?
5. Раскройте содержание «философской формулы», о которой рассуждает Боровский в рассказе «У нас в Аушвице». Как она реализована в последующих произведениях цикла «Прощание с Марией»?
6. Боровский намеренно придал повествователю своих рассказов (студент Тадеуш) черты автобиографичности, что позволило критикам отождествлять созданный автором образ «типичного лагерного конформиста, ловкача без угрызений совести, <…> умеющего обеспечить себе сносную жизнь и в результате умножить свои шансы на выживание» [Lisiecka 1965: 57, 59] с самим автором.
Как вы думаете, почему в «освенцимских» новеллах автор целиком передоверил и описание, и оценку лагерной действительности повествователю-конформисту? Какую эволюцию претерпевает образ повествователя в рамках цикла? Аргументируйте свой ответ.
7. Охарактеризуйте композиционную структуру цикла «Прощание с Марией». Какие художественные средства и приемы создают его целостность?
8. Раскройте смысл названия сборника «Прощание с Марией». Какую роль играет это заглавие в создании идейно-художественной целостности цикла?
9. Прочитайте новеллу Боровского «Прощание с Марией», помещенную в Приложении. Проанализируйте повествовательные приемы писателя.
10. Прочитайте рассказ Боровского «Мальчик с Библией» и ответьте на следующие вопросы:
1) Согласны ли вы с мнением тех исследователей, которые характеризуют рассказ как произведение, изображающее мир, «лишенный ценностей» и «в довершение ко всему абсолютно однородный, без исключений» [Buryla 1999: 36; Wirth 1965: 166]?
2) Как репрезентировано в «Мальчике с Библией» пространство бытовое и бытийное, онтологическое?
3) Какую роль играет в рассказе микродиалог?
4) Какие интерпретации допускает трагический финал рассказа (убийство «мальчика с Библией»)?
11. В прозе Боровского «смысловой коэффициент» текста повышается за счет художественных деталей, которые, выходя за пределы собственно портрета, пейзажа или интерьера, трансформируются в сторону импликации глубинного смысла, приобретают звучание символа и формируют подтекст. Опираясь на тексты произведений, покажите, какие «детали-символы» являются наиболее значимыми для идейно-философской концепции книги Т. Боровского?
12. Как в содержательно-композиционном плане соотносится «Мальчик с Библией» со следующей новеллой цикла – «У нас в Аушвице»?
13. Что представляет собой «чудовищная цивилизация» лагеря, изображенная в освенцимских новеллах? В чем, по Боровскому, состоит «мироподобие» лагеря, его соответствие глобальной идеологической модели?
14. Новеллу «Битва под Грюнвальдом» можно рассматривать в качестве своеобразного эпилога лагерного текста Боровского. Образ рассказчика получает здесь свое последнее воплощение: это человек, который смог дожить до освобождения, человек, который находится на новой ступени своего бытия. Можно ли признать этот финал счастливым? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст новеллы.
Рекомендуемая литература
Тексты
Боровский Т.У нас в Аушвице. (Журнальный вариант) // Иностранная литература. 1988. № 10.
Боровский Т.Прощание с Марией. Рассказы. М.: Художественная литература, 1989.
Электронный ресурс: Тадеуш Боровский. Сборник прозы «Прощание с Марией». Режим доступа: http://belolibrary.imwerden.de/books/foreign/borowski_maria.htm; http://www.belousenko.com/wr_Borowski.htm.
Критические работы
Британишский В.О Тадеуше Боровском // Иностранная литература. 1998. № 10. С. 105–108.
Британишский В.Жизнь и гибель Тадеуша Боровского // Речь Посполитая поэтов: очерки и статьи. СПб.: Алетейя, 2005. С. 342–352.
Древновский Т.Предисловие // Т. Боровский. Прощание с Марией. Рассказы. М.: Художественная литература, 1989. С. 5—22.
Лошакова Т. В.Об экзистенциальном содержании эпиграфа в «Медальонах» Зофьи Налковской // Res philologica. Ученые записки Северо-двинского филиала Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архангельск, 2004. Вып. 4. С. 293–295.
Лошакова Т. В.Экзистенциальная проблематика «Медальонов» З. Налковской // Творчество Зофьи Налковской и славянские культуры: мат-лы Междунар. научн. конф. (19–22 мая 2004) / Отв. ред. С. Ф. Мусиенко. Гродно: ГрГУ, 2005. С. 122–132.
Станюкович Я. В.Место Тадеуша Боровского в современной польской литературе // Художественный опыт литератур социалистических стран. М.: Наука, 1967. С. 125–161.
Старосельская Н.Возвращенные имена // Литературное обозрение. 1991. № 9. С. 44–49.
Юзовский Ю.Польский дневник // Новый мир. 1966. № 2. С. 164–191.
Дополнительная литература
Ведина В. П.Послевоенная польская проза. Проблематика и поэтика. Киев: Наукова думка, 1991.
Гелескул А.Испепеленный гневом // Иностранная литература. 2008. № 9. С. 92–94.
Гусев Ю.Литература перед лицом Апокалипсиса (Геноцид как рецепт всеобщего счастья) // Итоги литературного развития в ХХ веке в проблемно-типологическом освещении. Центральная и Юго-Восточная Европа. М.: Индрик, 2006. С. 148–177.
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
1. «Лагерная» проза в контексте русской и западноевропейской литературы 2-й половины ХХ века.
2. Личность и творческая судьба Т. Боровского.
3. Новаторские черты поэтики и эстетики Т. Боровского.