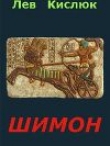Текст книги "Комната с выходом. 5 и 6 части"
Автор книги: Александр Гайворонский
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Александр Гайворонский
Комната с выходом. 5 и 6 части
Предисловие к части пятой.
– Савва пришёл! – радостно воскликнул один из присутствующих в Зеркальной Комнате и выступил вперёд, навстречу грузноватому человеку с седой, коротко стриженой головой. Умные и немного лукавые глаза оглядели присутствующих. Во всей внешности пожилого, относительно других, мужчины просматривалась интеллигентность, некая породистость и бывалость. Недельная небритость только добавляла шарма. Он стоял, опираясь на массивную палку с резным набалдашником и склонив голову на бок. Ни тени замешательства, ни удивления, ни вопроса на спокойном и обаятельном лице. Видимо, гордый нрав не позволял выдать эмоциональное напряжение, которое испытывает каждый появившийся в Комнате впервые. Кажется, он даже не услышал восторженной реплики подошедшего к нему здешнего завсегдатая.
– Савва, ты узнаёшь меня? Нет?
– Он не может тебя помнить, потому что, возможно, ошибся дверью. Или это какая-то случайность, такое тоже бывает. А ты здесь завсегдатай. Так лучше не обниматься лезь, а подумай чем можно помочь человеку.
Савва с любопытством слушал разговор незнакомых ему людей и продолжал выжидать разрешения непонятной для него ситуации.
– Да-да, его надо отвести… Но я этого никогда не делал!
– Но ты единственный, кто узнал его, кто хотел его видеть, значит, ты ближе к нему, чем другие. Придётся тебе. Сам он не решится и дорогу не найдёт, так и будет стоять в растерянности и страхе. Ты хоть что-то знаешь, а он – ничего. Помоги ему.
Савва слегка качнулся, вскинул подбородок, не меняя выражение лица. Создавалось впечатление, что он хоть и слышит, но не всё правильно понимает. Смысл же последней фразы, кажется, дошёл до его сознания и некоторым образом возмутил. Но поскольку, страх и растерянность всё-таки имели место, возмущаться и опровергать сказанного Савва не стал. У него не было достаточных сил принимать участие в разговоре. Только чувство собственного достоинства, как последнюю опору и щит одновременно, не выпускал он из своих рук. И ещё грабовую палку, способную стать в любую секунду хоть каким-то оружием.
– Идёмте, Савелий, – осторожно взял его под руку узнавший его человек, – я провожу.
Но Савва гордо отдёрнул локоть, не позволяя дотрагиваться до себя, и всё же двинулся вослед человеку, вызвавшемуся в качестве провожатого.
Замысловато преломляясь во множестве зеркал и словно тая в них, шествующая пара исчезла. Их путь был не ведом остальным. Но уверенность в том, что один из них, а именно провожатый, вернётся, не вызывала ни у кого сомнений. Как и то, что второй, которого звали Савва, отправится дальше по строго индивидуальному маршруту и обязательно найдёт то место, откуда ему откроются парадные двери и в нашу Комнату, и во многие другие.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
И снился нам с Саввой сон…
Как грустно, туманно кругом,
Тосклив, безотраден мой путь,
А прошлое кажется сном,
Томит наболевшую грудь…
Мы так и шли, выйдя из «зеркальной комнаты» – я спереди, Савва чуть сзади. Честно говоря, мне с самого начала было неведомо, куда мы шли. Интуитивно я знал только общее направление.
Мой спутник по мере продвижения вперёд постепенно успокаивался – это чувствовалось по его дыханию. Кроме того, несколько раз он порывался что-то сказать, а может и заговорить, словно хотел загладить неприятный момент, когда проявил по отношению ко мне некоторую несдержанность в Комнате.
Прошло ещё немного времени, и он всё же заговорил.
– А я вспомнил тебя, Александр. Мы в каком-то роде… встречались однажды.
– Да. Это было так давно, что немудрено забыть.
– Давно, это верно. Почти в прошлой жизни. Или как это точнее сказать?
– Что-то вроде того. Вы знаете, куда нам идти дальше?
– Отчего же не знаю – знаю. Теперь знаю наверняка. Скоро уже. Только что это у тебя за официальный тон вдруг – «выкать» начал?
Я примирительно взглянул на Савву.
– Да Сав, конечно. Так куда ты меня ведёшь? Ведь верно – теперь ты меня ведёшь, а не наоборот?
– А вот мы и пришли. Это моя территория. Заходи, будь как дома, Сашок.
Савва распахнул деревянную рассохшуюся дверь, непонятно откуда возникшую из плотного серого тумана, и мы прошли в небольшую, но светлую комнатушку.
Хорошо подогнанные сосновые половицы кое-где всё же поскрипывали. На стенах – старенькие выцветшие обои с рядами более темных, нежели остальной фон, пятнен и торчащими гвоздиками – вероятно, на них совсем недавно крепились картины или иконы. Потолки побелены давно, в углах чуть закопчённые. Крепкий дубовый столик и две приземистые табуретки – вот и вся мебель. В некоторых местах помещеньица когда-то стояли шкаф и ещё кой-какая мебель – это обнаруживали прямоугольные контуры на обоях с более насыщенными цветами. А под ними выделялись соответствующие участки на полу, с менее затёртой поверхностью.
На столе красовался изящный стеклянный графинчик, наполненный прозрачной жидкостью, два гранёных стаканчика по сто граммов каждый, глиняный горшок, закрытый вощёной бумагой и связка зелёного лука. Пахло свежим деревом, пряностями и свечкой.
– Присаживайся, Сашок, поговорим, водочки выпьем с дороги. Я ждал тебя.
– Как это ждал? Ты же только что не помнил меня.
– Садись, садись. Помнил, не помнил. Всё ему расскажи да наизнанку ещё вывернись. Знаю я тебя. Сейчас начнёшь душу теребить.
Савва хитро улыбался. Сразу было видно – окончательно пришёл в себя человек и своего любимого конька оседлал. Ну что ж, он здесь хозяин, а я гость. Подчинюсь его правилам…
* * *
Он взялся рассказать одну таинственную историю из своего далёкого детства. И по мере повествования, я обнаружил, что знаю её. Более того – эта история каким-то мистическим образом переплеталась с моим прошлым.
Иногда в качестве передышки, Савва разливал в стаканчики по 30-50 граммов водки, мы выпивали, закусывали ядрёным огурчиком из горшка, и продолжали беседу. Незаметно пролетало время, быстро кончилась и водка.
– Ты остановился на том, как шёл то ли в пионерский лагерь, то ли в детский сад…
– Нет-нет, – Савва постучал по стакану горлышком пустого хрустального графинчика, стряхивая последнюю, отчаянно цепляющуюся за своё прежнее пристанище каплю, пока та, нервно вздрогнув, не оторвалась. – Нет. Это был поход на природу нашей детсадовской группы в сопровождении воспитательницы. Июнь-месяц, погожее утро. Мы идём гуськом по узкой тропинке. Слева густые заросли высокого кустарника, осока скользит своими пилками по голым коленкам, а справа плетёный ивовый забор, сквозь который весело вибрируют по нашим счастливым детским лицам солнечные лучи.
Савва умолк ненадолго, задумчиво опустив взгляд на стакан в своей руке, поперекатывал его грани пальцами. Другой рукой медленно и осторожно поднял второй стакан, протянул мне, посмотрел прямо в глаза и тепло улыбнулся.
– Будем! – сказал он. Седая голова вскинулась. Короткий звучный глоток, удовлетворённый символический кряк и хруст малосольного огурчика.
– Так вот. Идём вереницей, я в хвосте, поотстал немного. Воспитательница носится взад-вперёд, покрикивает бодро: подтянитесь, мол, не отставать. И что-то, знаешь, стало меня сзади словно за лямку моих шортиков тянуть. Я не говорю буквально тянуть… А так, будто сила какая-то придерживает да приговаривает: «Погоди, дружок, не торопись, не пропусти своего, успеешь ты ещё с ними!». И тут чуть впереди в заборе калитка незаметная – плавно так приоткрылась внутрь, и меня словно втянуло туда. Никто из впереди идущих, разумеется, ничего и не заметил. Последней Фимка семенила. Я только ноги её, одетые в сандалики потрёпанные, да гольфики полусползшие помню.
Оказался я на большом дворе. Вдали изба роскошная. Окна резные, крыльцо высокое, и барышня на том крыльце в сарафане длинном стоит. Одной рукой за перила держится, второй мне призывно машет.
– А больше никого не было? – вставил я вопрос, поскольку он у меня уже наготове был, а Савва прервался, лучок откусывая.
– Никого. А ты откуда знаешь? – удивленные мудрые глаза моего собрата уставились на меня, но лишь на мгновенье. – Ах, да! Ладно, слушай дальше. Пока только она. Красивая, волосы русые, в пучок сзади завязаны, и словно знакомая мне. Даже не так – родная какая-то, домашняя, нежная… как мать. Улыбается, на меня глядя… Глаза ласковые и добрые. Я смотрю на неё завороженный и с места не двигаюсь. В душе творится что-то, объяснить трудно. Да и что может объяснить в такой ситуации четырёхлетний малец!..
– Постой-ка, Савелий, – прерываю я рассказ своего друга, – но ведь война шла, это же 41-42 годы, как я понимаю, если тебе там 4 года было…
– Не перебивай, Саша! Ты суть улови, а исторические детали не так важны.
– Хорошо, молчу, – угомонившись, я хулю себя за невыдержанность и бестактность, словно только что попытался уличить Савву в неправде.
– Что она вытворяла! Это был божественный танец! Представляешь, девочка моего возраста, ну, может, на год постарше, крутилась в танце в центре комнаты, просматриваемой через открытую настежь широченную дверь дома. Я стоял, обомлев перед крыльцом, и ноги мои словно парализовало. Как столб замерев, стою и пожираю глазами эту девочку. Музыка? Не помню, звучала ли она, но… мне казалось, музыка была. Может она исходила от самого танца, может, звучала только в моей голове… Не знаю. Но волшебные движения танцующего ангела уже сами по себе были музыкой…
Савва замолчал с мечтательной улыбкой на лице. Глаза лучились, взгляд фиксировал в пространстве невидимый мне объект. Однако я знал больше, чем могло показаться предполагаемому постороннему наблюдателю. Я знал, и знал Савва. Он обо мне, я о нём. Стоило ли тогда говорить, впихивать в словесную форму то, что и так было известно нам обоим? Да, стоило.
Мысль материальна, облачённая в слова – на порядок больше, в действие – мысль сродни божественному акту сотворения мира. Нам надо было это. Сотворить. И мы продолжали, пока не осознавая точно своей задачи.
– Сав, а женщина, стоящая у двери, и та…
– Саня, тормози. Я… – немного нервозно вновь оборвал меня Савелий и тронул пустой графинчик. К нему же обратилось и моё внимание.
Что-то, видимо, случилось с нами. А может, с миром, окружающим нас. Словно пробуждение ото сна или резкое протрезвление. Но лишь на миг.
Кто-то постучал в дверь и откликом на наше мысленное сожаление, что водка как всегда кончается не вовремя, было появление головы через чуть приоткрытую дверь.
– Что, небось водка кончилась? – спросила ехидно улыбающаяся голова.
Савва так и не обернулся, затылком поприветствовав вторгшегося в наш диалог. Глянул на пустой стопарик, щёлкнул по нему пальцем, бросил на меня озорной с прищуром взгляд и бодро сказал, явно обращаясь не ко мне:
– Так принёс бы что ли!
– Без проблем! – отозвалась голова. – И даже мешать не буду, знаю, каковó это всё.
Об пол приглушённо стукнулась донышком непочатая бутылка. Дверь мягко прикрылась и щёлкнула замочным язычком. Мы переглянулись. Не столько удивлённо, сколько благодарно-солидарно.
– Ай, молодец, – почти в унисон произнесли мы.
Я поднялся с низенькой табуретки, у которой ножки были отпилены наполовину от первоначальной и стандартной для стульев длины, шагнул к двери, подхватил ледяную бутылку и через положенный щелчок порвавшегося пластика отвинтил пробку…
– А что это он про… «понимаю, какого это всё»? Что он имел в виду, он что – знает? – недоуменно размышлял Савва, пока я разливал. – Что «каковó»? Кому «каковó»?
– Да ладно тебе. Он, вообще кто? Я ведь тут никого не знаю.
– Друг мой Коля.
– Мне показалось лицо знакомым, где-то мы с ним виделись.
– Ха! Память напряги! Вы с ним в одном кино снимались. Как бы.
Что-то начало всплывать. Да, точно, кино. «Мама вышла замуж». Съёмки велись в Ленинграде. Я тогда гостил у бабушки на улице Вавиловых. Мелькнул в эпизоде пацаном, играющим в песочнице. В очёчках, в легком свитерке сижу, в камеру стараюсь не смотреть, а мимо проезжает, грохоча дизелем, трактор с Михаилом Ефремовым за рулём. Кажется, со мной рядом ещё какой-то паренёк сидел. Помню, полдня снимали, основное время угрохали на сцену, так и не вошедшую в фильм.
– Бурляев Николай, – догадался я.
– Точно, он. Только… что он здесь делает, и почему так…? Робко вошёл, скромно удалился… И это странное «каковó»…
Савва хмыкнул, но я отчётливо понял – он знает и причину появления здесь Николая, и смысл брошенной им фразы. Я покосился на пол, куда Бурляев поставил бутылку. Там лежал одинокий цветок, гвоздичка, то ли оброненная, то ли умышленно оставленная нежданным гостем. Почему-то о цветке я умолчал, сделал вид, что не заметил. Ни поднимать не стал, ни как-то комментировать сей странный факт. Мне почудилось, что за дверью толпится много людей и число их прибывает. Возникло ощущение, что все они, кроме одного меня, посвящены во что-то очень важное. Лишь неловкость и некоторая тревога в душе ворохнулись.
* * *
Виду я не подал, чувствовал, что это меня напрямую не касается, так что отложил выяснение на потом.
А пока мы оба переживали нечто схожее – что-то произошло. Мы словно хотели проснуться, но безуспешно, по-новому смотрели друг на друга: и узнавали, и одновременно не узнавали сидящего напротив человека, испытывая некое дежавю, и, не сговариваясь, переменили тему.
Мне пришлось долго подыскивать слова, последовательность изложения, но Савва настаивал на ТОМ рассказе. Своё повествование он на время прекратил, переключив всё внимание на меня и мою историю. Когда-то, не так давно, мы с ним поверхностно уже обсуждали её, но, видимо, пришёл срок поговорить поподробнее.
И я решил начать с середины.
…Огромный детина возглавлял шайку, преследующую меня в стенах заброшенного полуразрушенного здания. Я блуждал в путанице ветвящихся коридоров, влетал в полутёмные, захламлённые комнаты, распахивая телом двери, задыхался от бега и пыли. Разбивая стекла руками, выпрыгивал в окна, и снова оказывался в злосчастном нескончаемом лабиринте. Сзади гремели выстрелы, гневная брань и злорадный смех. Понимая, что, будучи безоружным, мог спастись только бегством, я лихорадочно наращивал скорость, пытался оторваться в поисках укрытия. Ноги, обутые в старые кроссовки, проскальзывали на резких поворотах, кругом толстым слоем лежала пыль, я не вписывался в виражи, больно ударялся об углы, распахнутые двери, косяки. Разнокалиберные снаряды – от ПМ-овской девятимиллиметровой пули до ремингтоновской картечи и свинцовых «орехов» 12 калибра – шлепались в стены, рикошетили вокруг со свистом и верещанием, обдавали меня ворохами штукатурки и щепок, но, слава Богу, основной цели не находили. Открывшийся за очередным поворотом холл обнаруживал в своем дальнем углу дверь с лестницей, ведущей наверх. Это, как мне показалось, давало шанс. Один пролёт, третий, десятый… Уверенность в своих силах, жажда спасения и спортивная закалка заметно увеличивали расстояние между мной и грузными преследователями. Тяжёлое, хриплое дыхание и бухающие шаги оставались далеко внизу. Теперь приходилось лишь молить о том, чтобы глухие стены внезапно разверзлись очередным коридором. Но его всё не было. Только махонькие окошки у самого потолка тесных межмаршевых площадок, заваленных бетонным крошевом…
На каком-то уровне очередная площадка оказалась более просторной и имела выход. Вот только куда? Невольно я метнулся за поворот, упёрся в наглухо заколоченные створки неработающего лифта и понял, что загнал себя в тупик. Это был конец.
Тут же навалилась страшная усталость. Я повернулся, сделал в слабой надежде два шага в сторону лестницы, посмотрел на ступеньки, ведущие вниз, затем задрал голову. Откуда-то сверху, из зияющей сумеречной пустоты уныло свисали остатки обвалившегося лестничного марша с торчащей из бетона гнутой арматурой. Тонкий лучик света, проникающий сюда явно извне, только усугублял беспросветное отчаяние. Тело моё от бессилия и нелепости всего произошедшего сложилось пополам, ладони упёрлись в колени… Тяжело дыша и смирившись с судьбой, я ждал. Совсем недолго.
…Кривая ухмылка на разгорячённой и блестящей от пота харе главаря ничего хорошего не предвещала и никаких надежд не оставляла. Золотая цепь, перстень-печатка, рыжая фикса, синие от татуировок руки, башнеобразная, непропорционально большая даже для такого атланта голова и полтора центнера веса. И ведь ещё бежал! Правда, запыхался, конечно. А в глазах смесь спокойного триумфа, звериной ярости и беспощадной решимости убить.
* * *
А с чего же всё началось?
Когда-то мы сидели вместе на одной зоне под Челябинском. До этого ожидали этапа в магнитогорской тюрьме ИЗ 70/2 в переполненной общей камере (общаке), рассчитанной на 30 человек (а сидело нас 70). У него была большая семья (тюремное собщество, неформальное объединение зеков – общий стол, общие тактические интересы, взаимовыручка, взаимная ответственность), первая семья в хате, во главе которой – он, лидер по кличке Лёха Башай. То ли от «башка» – странной и жутковатой формы голова вызывала при первом знакомстве неприятную оторопь, – то ли от «большой»: Леха, неуклюжий, звероподобный гигант или не выговаривал, или просто проглатывал букву «л», и когда произносил слово «большой» получалось «башой» («Я башой, а вы все маикие»). «Рулевой» Лёха (из числа местных челябинских блатарей), имеющий первую «ходку» в 16 лет, сквозь пальцы смотрел на выкрутасы «дружественной» ему семейки ещё вчерашних малолеток-отморозков. Каждую ночь они учиняли беспредел в виде дебиловатых тюремных розыгрышей и провокаций: «вертолёты» (поджёг бумажек, вставленных между пальцами ног спящего зека, когда тот от внезапной боли начинал бешено вращать ногами, как пропеллером), «гладиаторские разборки» в результате стравливания между собой наиболее слабых, глупых и беззащитных сидельцев и прочие так называемые «приколы». Вообще камера считалась «беспредельной», о чём я узнал за время пребывания в ШИЗО (штрафном изоляторе). Там мне достался в качестве сокамерника бывалый вор Султан (Славка Солодовниченко). Выяснив причину моего 15-суточного «ареста» (драка с одним из придурков, которому я чуть не перерезал горло заточенной ложкой, вовремя разняли), Султан просветил меня, молодого и неопытного, относительно порядков и ситуации на тот момент во всей тюрьме. Знал он и Лёху Башая, тюремный телефон нёс о нем плохую информацию: беспредельщик, кумовской (то есть стукач, сексот оперотдела). Солодовниченко предложил мне способ перевода в другую камеру, где сидели его «кенты по салу», старые «воры с понятиями», которые не обидят и школу преподадут. «Ты малый способный, умный, крепкий, таким надо помогать», – приговаривал Слава. Едва не решив вопрос с контролёрами о моём переводе (по всему было видно, тюремщики уважали Султана), он внезапно исчезает из ШИЗО. То ли его тогда к следователю увели, то ли к адвокату, но он пропал. По окончании штрафного срока меня вернули в прежнюю камеру, где я прокантовался полгода в семье дерзкого и гордого «Пушкаря», единственного успешно противостоящего Башаю и практически никак от него не зависящего. Много чего было в камере, в том числе и серьёзная потасовка с подручным Башая, обострившая мои отношения с «рулевым».
С Пушкарём нас разлучил этап. На зону мне пришлось отправиться с беспредельщиком Лёхой. На мне, единственном из своенравной и гордой семьи Пушкаря (остальные этапировались кто куда), отыграться Лёхе не удалось – в зоне меня тепло встретили местные авторитеты, а сам Лёха в первые же дни по-своему хорошо устроился: с чьей-то подачи, может кума (начальника оперчасти) или самого хозяина (начальника колонии) оседлал СВП (секцию внутреннего порядка, местную «группировку» зеков-общественников), то есть стал её руководителем. Теперь беспредел продолжался на «законных» основаниях. В мою сторону руководитель СВП ещё на протяжении года поглядывал с затаённой яростью, а потом вроде как забыл, поскольку персона моя растворилась в недосягаемом для сэвэпэшников, кэмээсников (КМС – культ-массовая секция) и прочих козлов мире промзоновских цеховиков, касту неприкасаемых. Нашей крышей были чиновники из управы (управления исправительно-трудовыми учреждениями), да местные авторитеты, многих из которых обычные зеки и в глаза никогда не видели. Законспирированные бендежки таких «королей» не всем ментам-то разрешалось посещать. Зона была огромной, а промзона с её многопрофильным производством вмещала в себя множество корпусов, связанных между собой аж подземными переходами. В них и обустраивала лагерная элита роскошые апартаменты со всеми благами технического прогресса. Там было всё – от японских телевизоров и видеомагнитофонов до шикарных девочек, завозимых с воли по ночам.
Башаю по прошествии пяти лет голову всё же проломили. Видимо, где-то зарвался. Из областной больницы назад в колонию ему вернуться было не суждено. Я освободился по звонку, отсидев положенные годы, и обосновался в тихом городке на Волге, подальше от Челябинска.
Я бы и не вспомнил никогда о монстре Лёхе, и времени прошло более двадцати лет, и жизнь закружила. Да вот напасть, случилось то, от чего поговорка предостерегает не зарекаться… Нет, на этот раз не от тюрьмы. От сумы.
* * *
Имел я бизнес процветающий. Нина – жена-красавица, дочь – Анастасия, от первого брака – школу заканчивала. Мать Насти, первая моя жена, рано умерла, попивала, в итоге совсем спилась. Я ничего сделать не мог: и лечил, и увещевал, и клятвы брал, и поколачивал, даже выгонял из дома и сам уходил. Не вышло, да и дочка удерживала от крайностей. Итог – цирроз, печёночная недостаточность. А по большому счёту просто любви не было настоящей. Ни там, ни там.
Мачеху четырехлетняя Настёна как мать восприняла. Нинуля сама дочкой ещё была – 20 лет всего, а мне уже 36 тогда стукнуло. Машинами я торговал. Сам гонял из Европы. И под заказ, и на свой страх. На каких только авто поездить не пришлось – от скромных «тольяттинцев» и демократичных «баварцев» до амбициозных «штуттгартцев» и спортивных «итальяшек». Уже отделку арендованного салона в полторы тысячи метров завершал, как грянул первый гром. Апрель 1991 года, «Павловская реформа». Следом, только голову поднять успел, второй удар – середина лета 1993 года. Мы как назло всей семьёй за кордоном были, нежились в теплых водах Гольфстрима, деньги прожигали. Мог ведь всё предусмотреть, подстраховаться! «Сгорело» практически всё. Машин двадцать на таможнях зависло, заказчик отказывался забирать, рубли советские превратились в прах, а вскоре и доллар взлетел. Это был третий и последний для меня удар… Если не считать ненасытных бандитских крыш, от которых мне хоть и удавалось отбиваться, но опять же стоило это недёшево.
И вот же судьба-злодейка. Узнаю я как-то, что на моей беде ручку позолотил некто Лёша Челябинский. Кто такой, откуда? Оказалось, тот самый Башай. Чистая случайность, конечно, а не происки мстительного беспредельщика. Был он в наших краях в пересыльной тюрьме в качестве «смотрящего», вот его местная братва и привлекала для разных разборок. Как уж получилось, что Лёха так поднялся, погоняло новое себе придумал, не знаю, не интересовался. Время лихое, путаное. Однако вышло так, что мне пришлось с ним встретиться.
Нужно было лично, с глазу на глаз, объяснить, что старых каторжан не пристало авторитетному вору обижать, пусть даже давние счеты имеются. Всё же на одной киче чалились. Мне тогда подумалось, что жизнь изменила Башая к лучшему.
Ну и встретились. Аудиенцию организовали мне прямо в изоляторе, т.е. в тюрьме. Подробности опущу. Он, конечно, узнал меня, и как я не надеялся на благие перемены, их я не нашел. Мало того, Башай, не скрывая своего пренебрежения, велел в общак платить суммы, ставшие для меня по тем временам непосильными. Надсмотрщика приставил – Крыню. Тот ещё отморозок. Этот гад должен был вовремя сдирать оброк и следить за моим хозяйством, чтобы я чего не утаил.
Наведя справки, мне стало многое понятным. Лёше Челябинскому нужно было собрать солидную сумму для московских покровителей, чтобы выкупить свободу, вот он и злобствовал. Ходили слухи, что жить ему осталось немного – уж больно много врагов он себе нажил за то недолгое время, пока «смотрящим» в нашем районе числился, да и старые грешки – как шило, в мешке не утаишь. И хоть христоматийная воровская каста значительно была оттеснена представителями новой волны: бандитами-беспредельщиками, «апельсинами» да «лаврушниками» (ворами, коронованными за деньги), вес она ещё имела и свои попранные права просто так отдавать не собиралась.
…Однажды все мои попытки урегулировать взаимоотношения с Челябинским потерпели окончательную неудачу, а мзда, якобы, в воровской общак, непомерно к тому времени возросла. Платить было нечем. Тогда Крыня затребовал мою личную машину в счёт погашения «процентов по задолженности», и намекнул на загородный дом. Я строил его долго, вложил немало средств и сил, так что достался он мне потом и кровью. Это был мой первый и, я считал, последний дом в жизни. Родовое гнездо. Деревьев я понасажал в поместье на целый лес. Оставалось помимо дочки ещё сына родить, что мы и планировали с Ниной, воспитать и на ноги поставить. А тут Крыня, мерзкое животное, со своими грязными вонючими лапами. Я не смог этого снести, хоть и понимал, что грандиозного конфликта мне не избежать.
Когда, вернувшись домой из города, я увидел Крыню с бригадой костоломов у своих ворот, – они пришли за автомобилем – да ещё свою Нину, отбивающуюся от недвусмысленных приставаний Крыни, разум мой на мгновенье помутился. Но только на мгновенье. Затем пришло отрезвление, позволившее мне понять, что до сих пор я воспринимал реальность не так, как должно быть.
Я, как и большинство граждан нашей многострадальной Родины, в те бесславные девяностые находился в зомбированном состоянии – от безвластия, беспредела, духовной и идеологической дезориентации. Многие тогда понимали, что происходящее – явление хоть и временное, но безвозвратно лишающее нас прежних ценностей, уверенности в завтрашнем дне, защищённости. Далеко не каждый отдавал себе отчет в том, что сохранить достоинство и благополучие можно только полагаясь на себя. Кто-то покидал страну, кто-то уходил в политику, во власть, а кто-то пополнял ряды криминального воинства. Остальные, сами того не осознавая, являли собой безропотное блеющее и мычащее стадо, оставшееся без пастуха. И не важно, коммерсант ли ты, бизнесмен, государственный служащий или безработный – это уже зависело от талантов, жизнестойкости, приспособляемости, случая – всё одно овца. Или корова. Или курица. Каждого кто-то да пользовал – стриг, доил, откармливал на мясо, держал в роли обслуживающего персонала или шута. Вот такой биполярный мир. А скорее триполярный. С одной стороны – стадо, а с другой – мафиозное государство-уродец и уголовная братия. И, конечно, в таких условиях случалось всякое: бунтарские волнения, самостийные образования, противопоставляющие себя всему и вся, религиозная и оккультная ажитация, «бегство в астрал», симуляция опыта колобка (я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл), смертоносные выплески отчаяния и протеста.
И вот я прозрел. Исчез страх за себя и семью, за будущее. Я словно поднялся над землёй высоко-высоко и посмотрел вниз. Я отчётливо, ясно и контрастно увидел безликую толпу рабов и деловито снующих повсюду надсмотрщиков и рабовладельцев. И те, и другие, и третьи выглядели жалкими беспомощными букашками. Так, мельтешит что-то внизу, шевелится. Биомасса. Пшено.
Только укротив животный, физический страх (за жизнь, здоровье, деньги, социальный статус) можно стать морально (или внутренне?) независимым и духовно всемогущим. Внезапно обнаружился свой собственный ключ к управлению судьбой, способ влияния на окружающий мир. Оставалось лишь пожелать, и любая твоя прихоть исполнялась. Такая вот штука. Фантазия ли, психологическая установка или чудо мысли, не берусь дать точное определение, да и «заморачиваться» не хочу. Главное, работает. Проверено.
…Мой дом стоит на взгорке. К гаражу ведёт асфальтированная дорога. Я плавно подкатил к воротам, заставив братков чуть расступиться и поровнялся с их черным джипом, припаркованным тут же. Выключил зажигание, поставил машину на ручник и вышел. Вряд ли моё лицо что-то выражало. Во всяком случае, теоретически Нина хоть и могла бы потом описать всё произошедшее на её глазах, но по необъяснимым причинам таких деталей, как выражение моего лица, она не помнила. Всё, мол, выглядело, как во сне.
Я подошёл к Крыне, стоящему с нагловатой улыбкой, посмотрел в его глаза (странно, что никто не дёрнулся, все стояли молча, хотя только что галдели, ржали и шуршали кожей своих курток) и тихо произнёс:
– Башай умер, тебя за собой зовёт. И этих всех.
Под «этими» я подразумевал не только крыневскую свиту, но и вообще всех подручных «смотрящего». Сколько уж их там было – две или три сотни, не ведаю. Сзади я ощутил едва уловимое движение. Смотрел строго перед собой, не оборачиваясь, и видел лишь несколько смутившееся бандитское лицо, с которого сошла улыбка, забегавшие вдруг глаза и дёрнувшиеся губы в намерении сказать что-то. Взгляд Крыни рассеянно перебегал с меня на происходящее сзади. А за моей спиной явно что-то происходило. Я лишь могу реконструировать события, как я их себе представляю. Видимо, странная сцена подействовала гипнотически на бритоголовых «гоблинов». Они отошли от гаража, обошли с разных сторон свой джип, кто-то, возможно, даже потрогал дверные ручки, но открывать двери, а уж тем более садиться в машину никто не стал, сбились в кучку и зачем-то встали позади джипа. И тут что-то щелкнуло, клацнуло, как затвор передернуло, и более чем двухтонный Гранд Чероки сорвался с ручника. Именно в этот момент и я оглянулся. Опять же непонятно почему, растерявшиеся боевики продолжали стоять как бараны, даже когда набирающий скорость джип подмял под себя одного из них. Другой, словно очнувшись от ступора, попытался удержать сбрендившего «американца», нелепо упёршись плечом в заднее стекло и быстро перебирая скользящими по асфальту ногами. Ещё двое безвольно отпрянули в стороны под натиском оттолкнувшего их Гранда. Скрежет дублёной кожи об сухое грязное днище, глухое хряканье под колесами… А появившийся из-под переднего бампера пыльный, мятый, шевелящийся клубок придал грубый реалистичный штрих к в общем-то весьма сюрреалистической картине. Когда ёрзающее на асфальте «существо» обрело некоторые узнаваемые формы, было видно, как руки придерживают неестественно вывернутую голень – колесо всё же проехалось по ноге. Раздался стон, затем вопль, а укатившийся метров на сорок джип, разогнавшись под горку до приличной скорости, сошёл с асфальта, и только начав заваливаться на бок, с хрустом врезался в старый тополь. Напоследок скрипнул покорёженным металлом и опрокинулся. Несколько пар тупых глаз ещё несколько секунд смотрели в его сторону, невзирая на стоны и ругань пытающего обратить на себя внимание калеку.