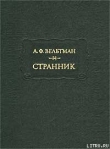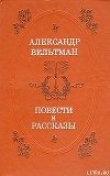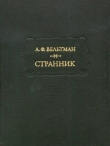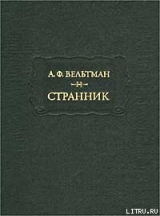
Текст книги "Отрывки"
Автор книги: Александр Вельтман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
ИЛЬЯ ЛАРИН
РАССКАЗ
(Отрывки)
<…> Некогда в Бессарабии, в благополучном городе Кишиневе, в один прекрасный вечер Пушкин, Г<орчаков>[23]23
Горчаков Владимир Петрович – см. прим. 2 к отрывку из «Воспоминаний о Бессарабии».
[Закрыть] и я на широком дворе квартиры Л<ипранди>,[24]24
Липранди Иван Петрович – см. прим. 3 к «Памятному ежедневнику».
[Закрыть] помнится, играли в свайку[25]25
Свайка – русская народная игра, состоящая в метании большого толстого гвоздя в лежащее на земле кольцо.
[Закрыть] и распивали чай.
– Здравствуйте, господа! – раздался подле нас осиплый, но громкий голос.
Это был Ларин в его обычной одежде, с железной дубиной, с полпуда весу, в руках.
– Что тебе? – спросил серьезно Л<ипранди>.
– Ах собака! Известно что: чем гостей встречают?
– А знаешь, чем провожают?
– На! провожай! – крикнул он, приподняв железную свою дубину и засадив ее в землю до половины.
Мы все захохотали на эту выходку; этого только и нужно было ему.
– Эй! Как зовут твоего, братец, денщика? Ты! Подай Илье Ларину, всесветному барину, стакан чаю с ромом!
С этой минуты Ларин прикомандировался к нам и забавлял нас своими выходками. <…>
Однажды в Кишиневе, у г. О<рлова>,[26]26
Орлов Михаил Федорович (1788–1842) – генерал-майор, командир 16-й пехотной дивизии в Кишиневе (1820–1823), декабрист.
[Закрыть] в числе штабных ежедневных гостей обедали званые: А. С. Пушкин, Л<ипранди>, Г<орчаков> и я; после обеда сидели все у камина. Разговор был о литературе и литераторах. Пушкин сердился на современных молодых поэтов и говорил, что большая часть из них пишут стихи потому только, что руки чешутся.
– А у тебя, Пушкин, что чешется? – спросил О<рлов>.
Пушкин не успел дать ответа, потому что в это самое время показалась в дверях пресмешная красная рожа, в длинном сертуке, с палкой в руках, ж крикнула:
– Здравствуй, О<рлов>! Настоящий орел! руку!
О<рлов> окинул взором неожиданного гостя и столь же неожиданно скомандовал, становясь перед ним:
– Во фронт! Руки по швам! Налево круг-ом! Скорым шагом марш-марш!
По слову неожиданный гость исполнил команду и вышел, маршируя.
Это был Ларин, с которым мы познакомились впоследствии у Л<ипранди>. <…>
В 18.. году, перед самым отъездом Л<ипранди> в турецкую кампанию, рано утром денщик вбежал в комнату и разбудил его криком:
– Барин, барин! Георгий убил Зоицу!
– Что такое? Как убил? Каким образом? – спросил Липранди.
– Ятаганом убил наповал! Извольте посмотреть.
Встревоженный Липранди выбежал. Зоица лежала мертвая, распростертая подле крыльца. Ятаган по рукоять под самым сердцем. Арнаут Георгий, закрыв лицо руками, стоял над ней.
– Георгий! – крикнул Липранди, – что ты сделал?
Разбросив вдруг руки, бледный, Георгий обвел кругом помраченный взор.
– Делайте со мной что хотите! Я убил Зоицу! – отвечал он.
– Злодей! Зачем ты убил ее?
– Закон велел, – отвечал Георгий, глубоко и тяжело вздохнув.
– Какой закон?
– Мой! Я не ее одну убил… не ее одну… ах! не ее одну!.. Я убил и кровь свою!..
Георгий был магометанин; Липранди понял страшный предрассудок и не знал, что говорить. Все стоявшие вокруг также молчали, пораженные ужасом.
– Грешен я! Делайте со мной что хотите! – продолжал Георгий, сложив руки и опустив голову. – Я любил ее… Я говорил ей сегодня в последний раз: Зоица, я еду с барином на войну… Крови своей я не отдам христианам… Послушай меня: бог один… прими мою веру!.. Три раза сказала она: нет!.. а не сказала: Георгий, лучше убей меня; веры не переменю; а без тебя мне все равно не жить… – Зоица! – сказал я ей: – крови своей не оставлю я в неверной утробе… я пролью ее… так велит закон!.. Она побоялась смерти,… побежала от меня… от меня побежала!..
Георгий закрыл лицо руками, и вдруг снова разбросив руки, он ударил себя в грудь.
– О! да и ее я не оставил бы здесь живую!.. Она забыла бы меня, полюбила бы другого! Все равно: не теперь, так после я бы убил и ее и того, кого бы она полюбила! Делайте со мной что хотите!
Преступника отвели в тюрьму. Когда его призвали к допросу:
– О чем тут разговаривать, – сказал он, – велите рубить мне голову! <…>
– А помнишь молдованского бояра, что дом верх ногами построил? Что дочка – Пульхеренька-пупочка?[27]27
Пульхеренька-пупочка – Варфоломей Пульхерия Егоровна (см. отрывок из «Воспоминаний о Бессарабии» и рассказа «Два майора»).
[Закрыть] где она?
– Помню; вышла замуж.
– Ах малявочка!.. А помнишь, по ней сходил с ума Владимир Петрович[28]28
Горчаков.
[Закрыть] да Пушкин. Помнишь, он стихи ей писал?
– Помню, помню.
– Ну, а помнишь ли, дуэль у него была с егерским полковником,[29]29
Имеется в виду дуэль А. С. Пушкина с командиром 33-го Егерского полка подполковником С. Н. Огаревым, которая была прервана и отложена.
[Закрыть] на Малине![30]30
Малина – пригород Кишинева в 1820-е годы.
[Закрыть] За что бишь? Да! офицера обидел, офицер не пошел на дуэль, так за него пошел сам полковник. А я прихожу к нему чем свет: Здравствуй, малявка, Александр Сергеевич! А он сидит себе голиком на постеле, да в стену из пистолета попукивает… Помнишь?
– Помню, помню. <…>
ДВА МАЙОРА
РАССКАЗ
(Отрывок)
Бояр Иордаки Дольничан был некогда бояр третьего разряда; это не более как чиновник, имеющий какую-нибудь мошию,[31]31
имение, усадьбу (молд.).
[Закрыть] хутор и более ничего. Но в молодости он был ловкий, сметливый молдован. Как человека угодливого и расторопного, его определили во время Турецкой кампании в 10 году исправником одного из цынутов Бессарабии; а это значило то же, что дать ему в аренду сто тысяч душ.
Иордаки Дольничан как нельзя лучше исправлял должность, славно угощал весь штат наместника, давал обеды и даже балы и, таким образом ^приобретая почет у русских, возносил выю свою и пред боярами первого разряда: точно так же растолстел, как они, откормил свой подбородок и затылок, точно так же одел качулу[32]32
шапку (молд.).
[Закрыть] из сереньких бархатных смушек, точно так же сидел на диване, подвернув под себя ноги и кричал своему чубукчи-паше,[33]33
слуге, ведающему курительными принадлежностями (молд.).
[Закрыть] арнауту: "Хэ, мой! Иоане! ада чубуче![34]34
давай трубку! (молд.).
[Закрыть]"
По-русски он научился не хуже русского, употреблял аристократическое предсловие вроде поговорки: "Государь мой, я вам скожу" и величался не куконом Иордаки, а Егором Дмитриевичем.
Кукона Марьола так во всем ему соответствовала, так способствовала приобретать расположение русских, и так любила их, и переняла у барынь все манеры, язык, гостеприимство, подчивание, аханье, всплескивание руками, качанье головой, та-та-та, та-та-та, что ее невозможно было уже никакими средствами отличить от какой-нибудь матушки-сударыни-барыни. Ее иначе и не называли, как по-русски: Марья Дмитриевна. Она даже умела не хуже салонной угорелой хозяйки почадить перед каждым из гостей ладаном любезности и поднести изустную конфекту. От бывшей куконы в ней не осталось ничего, вот пи на столько, как говорят греки и молдаване, откусывая ноготь на большом пальце правой руки.
У них была единородная дочь Пульхерица. Тип древних русских девушек: писаная красавица, кровь с молоком. В те времена, когда еще не грех было всем неверным подданным султана представлять в дар или продавать своих красавиц дочерей в гарем его султанского высочества, за нее можно было бы приобрести по крайней мере сто мешков золота. Если б она жила во времена Александра,[35]35
Парис, сын троянского царя Приама, похитивший жену спартанского царя Менелая Елену, носил прозвище Александр, т. е. отражающий мужей.
[Закрыть] не Великого, а известного под именем Париса, сына Приамова, он не похитил бы жены Менелая, не было, бы Троянской войны, и слепец Гомер вместо Илиады пел бы у него на свадьбе Мититику.[36]36
Мититика – молдавский танец с пением.
[Закрыть]
Улыбка как будто приделана была к ее устам наглухо. Она, в противоположность матери, необыкновенно как мало говорила, но внимательно слушала; и если какой-нибудь русский кавалер относился к ней с каким-нибудь кондитерским выражением или смешил ее притупившейся уже от времени остротой, она так мило произносила вполовину по-французски, вполовину по-русски: ах! quel vous etes![37]37
какие вы! (франц.).
[Закрыть] – , что невозможно было не пожелать жениться на ней и на пяти стах тысячах приданого. Но излишество женихов ужасно как вредно для девушки. Дом Егора Дмитриевича ежедневно, с утра до полуночи, а иногда даже до рассвета, был набит женихами. По утру приезжал с визитом один разряд женихов – чиновный, к обеду другой – штаб-офицерский, а к вечеру третий – офицерский. <…>
СЧАСТЬЕ – НЕСЧАСТЬЕ
РОМАН
(Отрывки)
Но вот, наконец, переправа через Днестр, за Днестром Бессарабия, еще сорок верст и – благополучный город Кишинев. Прибыли. Суруджи ведет приезжего прямо в гостиницу Исаевны. Тут является перед Михаилом Ивановичем <Гораздовым> неизбежное лицо – фактор Иоська. Знаете, что такое за лицо фактор Иоська, или Мошка, или Шлемка? Это просто черт в образе жида, который прикомандировывается к вам для прислуги, непрошенный, незванный.
– А вам же нужно казенную квартиру? – сказал Иоська, – позалуй-те подорожную, я вытребую. – И Иоська пропал с подорожной и бумагами, напугал всю квартирную комиссию[38]38
Квартирная комиссия ведала размещением по квартирам прибывших в город.
[Закрыть] экстренным чиновником, за которым вслед едет зд! таре-маре – великий генерал. Через час квартира была отведена в длинном одноэтажном доме, где у крайнего окна сидела дебелам кукона, а у прочих шести по куконице.
Квартира – роскошь, особенно для дорожного человека, у которого разбиты бока: вокруг стен широкие, пуховые диваны с мягкими, как воланы, подушками.
Только что Михайло Иванович сбросил с себя шинель и форменный сертук, как вошел в комнату какой-то служитор с подносом в руках, в красной феске, в перепоясанном длинном фередже и коротеньком фермелэ сверху.
– Пуфтим, боерь, кусаит! – сказал он, кланяясь, па смешении языков. – Кафэ си дульчац!..
– Что это такое? – спросил Михайло Иванович.
– Кукона Смарагда и куконицы… мульт куконицы, мнега кукопицы: Аника, Семферика, Марьолица, Зоица, Пульхерица, Ралука, паслат на боерь кафэ си дульчац! пуфтим, боерь, кусаит!.. хороса куконица, хороса дульчац!.. Я капитан Микулай, – продолжал посланец, принесший кофе и различные сорты варенья на поклон от куконы и кукониц, – я слузил государски; инарал командирски дают мне пумаг, такой пальсой пумаг, лисит: капитан Микулай, слузил государски, слузил на поцта.
– Покорнейше благодарю, очень благодарен, – повторял Михайло Иванович, кланяясь бывшему капитану-ди-почт, т. е. смотрителю почтовой станции.
– Турки придот на Молдова, мы придот на Кишенау, – продолжал капитан Микулай.
– Очень благодарен, покорнейше благодарю, – повторял Михайло Иванович.
– Куконица фрумоас, хороша куконица, – начал снова капитан Микулай, целуя сложенные три пальца.
– Очень благодарен, поблагодарите пожалоста!
– Хороса, хороса! – прибавил капитан Микулай и, наконец, оставил в покое утомленного Михаила Ивановича. <…>
В описываемое время Кишинев, областной город Бессарабии, был уже энаком, по слуху, всему литературному русскому собратству и напоминал места изгнания Овидия и его «Печали». Здесь посреди роскошной природы, так называемой, в ученом историческом мире, "Getharum solitudo campestris et inaquosa inter Porata et Danaster",[39]39
«бедствовавший из-за своего таланта» (лат.).
[Закрыть] жил и новый поэт-изгнанник, «laesus ab ingenio suo»,[40]40
«пустынными и безводными Гетскими равнинами между Прутом и Днестром» (лат.).
[Закрыть] и также писал поэмы; но не эпические, не эпистолические, не элегические, а «Кавказского пленника» и «Цыган».
Старый город на отлогом склоне горы к озеру Быку делился: на нагорье, где жили вельможи, называемые качула-маре, боиери и мазилы, в своих курте и касах – мазанках; на топкую улицу, которая в городах Италии по сие время называется ghetto, то есть готской, а в просторечии жидовской; и на Болгарию, или предместье болгар, садовников и огородников по р. Быку. Новый, русский город, на горе, обстроился уже при содействии губернской архитектуры. Его украшали и деревянные тесовые и кирпичные штукатуренные здания. На самой возвышенности была митрополия, экзархия армянская, и аллеи вновь насаженного сада, воспетого в подражание московскому бульвару. Далее, на игривой местности двух балок, обнимающих весь город, как две руки, были сады, в числе которых и сад, называемый Малина, прославленный дуэлями Пушкина…
На другой день по приезде в благополучный град Кишинев, после утреннего кафэ ши дульчац, принесенных капитаном Микулаем как угощение приезжего и во внимание к нему куконы Смарагды и дочерей ее, кукониц: Аники, Семферики, Марьолицы, Зоицы, Пульхерипй и Ралуки, фактор Иоська возбудил в Михаиле Ивановиче любопытство осмотреть город и его достопримечательности.
День был праздничный, погода была какого-то живительного свойства, дышалось как-то свободно и легко, текущих дел еще не было; а потому Михайло Иванович подумал-подумал и решился идти сперва в митрополию, потом бродить по городу в сопровождении прикомандировавшегося к нему Иоськи. Насмотрелся на атлетическую борьбу булгарскую, на джок молдаванский, на музыку цыганскую, на кущи жидовские; зашел в бакалею греческую, в кафене турецкую, взглянул безучастно на явный признак просвещения – на вывеску «Marchande de modes» французскую, послушал арфистку и певицу тирольскую, полюбовался на коня арабского, на арнаута, стоящего с трубкой на запятках, и на его великолепную одежду албанскую, на суруджи, сидящего на козлах, и на его одежду венгерскую, на толпу колонистов и на их штаны немецкие и, в заключение разменял бумажку русскую на медное серебро австрийское.
Приехать из глухого переулка белокаменной Москвы на перекресток брожения и столкновения всех древних народов Азии и Европы и найти их в такой дружбе и согласии очень приятно.
ПРИМЕЧАНИЯ
В Дополнения включены отдельные стихотворные и прозаические произведения Вельтмана, а также их фрагменты, иллюстрирующие творческую историю «Странника» показывающие, как развивались поднятые романом темы в последующем творчестве писателя. Часть предлагаемых сочинений Вельтмана и отрывков публикуется впервые, другие печатались при жизни писателя и с тех пор не переиздавались.
НАЧЕРТАНИЕ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ БЕССАРАБИИ
(Отрывок)
Книга вышла в 1828 г., отрывки из нее были напечатаны в «Московском телеграфе» (1828, № 4). Сочинение вызвало большой интерес у читателей и ученых. Ее читал Н. В. Гоголь. Годом позже «Московский телеграф», указывая, что «сию книгу можно причислить к составляющим хорошие материалы для истории» (1829, № 6, с. 184), писал: «Нам приятно думать, что занятие военного службою не навсегда отвлечет г-на Вельтмана от занятий историею и что со временем можем мы надеяться увидеть дальнейшие труды его; изданная им книга, как начало, подает нам надежды, что в нем литература русская может увидеть достойного сподвижника на поприще истории» (там же, с. 186). Напечатанные в «Дополнениях» фрагменты были использованы писателем при работе над «Странником».
БЕГЛЕЦ
ПОВЕСТЬ
Отрывки
Работа над произведением началась в 1824–1825 гг. Публикуя два отрывка из задуманной повести в стихах в «Сыне Отечества» (1825, 18, 19, под псевдонимами «Ал. В……» и «Александр В…н»), автор указал: «Кишинев. 2 сентября 1825». Эти фрагменты были перепечатаны в «Полярной звезде. Карманной книжке для любителей и любительниц чтения на 1832 г.» (М., 1832) и «Радуге. Карманной книжке для любителей и любительниц чтения на 1833 год» (М., 1832). Вельтман продолжал писать и переделывать повесть до 1831 г. (см.: ОР ГБЛ, ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 12). Подготавливая отдельное издание «Беглеца», он вел переписку с В. П. Горчаковым, который делал замечания, предлагал поправки (см.: ОР ГБЛ, ф… 47, р. II, к. 3, ед. хр. 14), и советовался по поводу произведения с П. А. Вяземским. 13 марта 1831 г. было получено цензурное разрешение на публикацию повести, и она вышла в свет отдельной книжкой с посвящением Ф. В. и А. М. Евреиновым.
Автор писал:
"Кому бы лучше посвятил я плоды досуга моего, как не отцу и матери? – Их уже нет! Вы заменили отца и мать брату моему и сестре моей. – Кому же лучше посвящу, как не вам?"
К первому изданию повести были приложены стихотворения, обращенные к А. С. Пушкину и Е. Ф. Вельтман.
Еще знакомясь с журнальными отрывками, читатели заметили, что Вельтман писал под влиянием Пушкина. В, Ф. Раевский "шутил над вошедшими в моду сего рода подражаниями Пушкину и над самой этой повестью" ("Литературное наследство", т. 16–18. М., 1934, с. 666). В. К. Кюхельбекер указал в своем дневнике, что слог «Беглеца» – "снимок со слога Пушкина, а еще более со слога автора «Войнаровского», и обнаружил удивительное совпадение сцены из повести Вельтмана со сценой из «Ижорского» ("Дневник В. Кюхельбекера". <Л.>, 1929, с. 154, 155).
Отдельное издание «Беглеца» вызвало противоречивые отзывы. В "Московском телеграфе" (1831, № 6, с. 243) мы читаем:
"Эта небольшая поэма писана сочинителем несколько лет прежде «Странника», среди тревог походной, кочевой жизни. Сильные впечатления придунайских стран были поводом к сочинению оной, и их выразил поэт ярко и сильно. Впрочем, в ней есть, кроме того, хорошие стихи и несколько мест прекрасных".
В "Дамском журнале" отмечалось: "Вообще стихотворение г-на Вельтмана чрезвычайно интересно содержанием своим, исполнено истинной поэзией, прекрасных чувств, здравых, глубоких мыслей и картин верных и привлекательных" (1831, № 19, с. 93). Менее одобрительные высказывания появились на страницах "Литературной газеты" (1831, № 30, с. 245) и "Северной пчелы" (1831, № 95). В "Северном Меркурии" (1831, № 66) был напечатан большой отрывок из повести.
Второе издание «Беглеца» появилось в 1836 г. и встретило критические замечания рецензентов "Библиотеки для чтения" (1836, т. I, ч. 2, отд. VI, с. 4) и «Молвы» (1836, № 5, с 85, 86).
Мы печатаем три отрывка из повести. Отрывок I содержит три главы из отдельного издания «Беглеца». В них дано описание границы, перекликающееся с эпизодами из "Странника".
Отрывок II взят из журнальной публикации ("Сын Отечества", 1825, № 19, с. 375, 376). Эти стихи не вошли в издания 1831 и 1836 г. Частично они включены в гл. LXVII «Странника». В отрывке говорится о Марии Маврокордато, кишиневской знакомой Вельтмана. Он писал 19 февраля 1824 г. В. П. Горчакову:
"Любезный друг, милая М…. умерла! За три дня я любил ее как[41]41
сущ
[Закрыть] цветущее, совершенное, украшающее природу существо; вчера я нес ее в гробе и оставил в объятиях могилы, а сегодня, завтра и не знаю до которых пор, но долго, долго, я буду любить горькое, печальное воспоминание об ней!" (ОР ГБЛ, ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 3, л. 1).
А на обороте листа набросал:
Эпитафия
на смерть Марии Маврокордато, от роду 14 лет, умершей скоропостижно 16-го февр. 1824-го года.
. . . . . . . .
Не для земной любви, в ней
<Лист дальше отрезан.>
Впоследствии Вельтман отмечал в "Воспоминаниях о Бессарабии": "…тут <в Кишиневе> была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада в виде божественной девы появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки." (А. Ф. Велыман. Воспоминания о Бессарабии, с. 180).
Отрывок III взят из черновых набросков «Беглеца» (ОР ГБЛ, ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 5, л. 3). В нем подробно описывается эпидемия чумы, охватившая Галац, свидетелем которой был автор. Об этом городе Вельтман писал в «Страннике», а переработанные стихи, посвященные Галацу, включил в отдельные издания "Беглеца".
1 Действие происходит в районе впадения р. Прут в Дунай.
MMMCDXLVIII ГОД. РУКОПИСЬ МАРТЫНА ЗАДЕКА
РОМАН
(Отрывок)
Произведение было издано анонимно в 1833 г. в трех книгах. Вельтман выступил в Предисловии к книге II как издатель, подготовивший к печати таинственную рукопись. Книга стала первым в России утопическим романом, повествующим о социальном строе будущего. Появившееся в 1824 г. на страницах «Литературных листков, журнала нравов и словесности» (№ 17–20, 23, 24) сочинение Ф. В. Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в двадцать девятом веке» имело чисто развлекательный характер.
На критические высказывания О. И. Сенковского о романе в "Библиотеке для чтения" (1834, т. II) Велыман отвечал на страницах «Молвы» (1834, № 9, с. 142): "Довольно! – 3448 год не сглазил черный глаз; 3448 год идет. Ни 1614 лет, ни «так! что-нибудь!» не остановят его".
Критик "Московского телеграфа" писал: "Не имея никакого права разгадывать тайные мысли Сочинителя, можем, однако ж, для объяснения самим себе его творения, предполагать, что мысль глубокую, в. обширнейшем плане, хотел здесь развить Сочинитель" (1834, № 2, с. 331). «Молва» отмечала: "В новом романе г. Вельтмана читатели найдут единство романтического интереса, и, вероятно, он покажется занимательнее для большего числа их" (1834, № 5, с. 78). М. Н. Лихонин в статье "Вельтман и его сочинения" пришел к выводу, что писатель "перенес события своего романа в грядущее для того только, чтобы освободить себя от оков настоящего порядка вещей" ("Московский наблюдатели), 1836, ч. VII, с. 221).
В. Г. Белинский писал: "В его "Мартыне Задеке" заметен какой-то намек на мысль глубокую и прекрасную, но эта мысль выражена так загадочно, все создание, по обыкновению, изложено так отрывочно, что, право, все это начинало походить на злоупотребление таланта, на какой-то фокус-покус фантазии" (Поли. собр. соч. в 13-ти томах, т. II, М., 1953, с. 116).
Мы печатаем начало главы I романа, перекликающееся со страницами "Странника".
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ МАКЕДОНСКИЙ
РОМАН
(Отрывок)
Произведение было напечатано анонимно в 1836 г. под полным заголовком – «Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский». В дальнейшем установилось принятое в нашем издании заглавие. Авторство определить было нетрудно, так как эпиграф на титульном листе давал понять, что роман – часть IV «Странника». Определение жанра произведения представляло неразрешимую трудность для критики 1830-х годов, так как понятия «научно-фантастический роман» в ту пору не существовало. О. Сенковский писал в рецензии: «Это не ученая диссертация, не аллегория, не повесть, не поэма и не роман, а бог знает что» ("Библиотека для «чтения», 1836, т. 16, отд. IV, с. 17).
Но содержание романа вызвало широкое одобрение. Рецензент "Русского инвалида, или Военных ведомостей" отметил: "Не понимаем причин, заставивших автора не объявить своего, столь с выгодной стороны известного имени; но не можем не благодарить его аа то неподдельное удовольствие, которое доставил он нам прочтением этих двух томиков, заключающих в себе прекрасно рассказанную повесть об Александре Македонском, о знаменитом на Востоке Эскандере. Автор переносит нас в Древнюю Грецию, заимствуя этнографические декорации в исторических подробностях, и беспрестанно, без всякой натяжки, заставляет нас, при чтении этой повести, соглашаться со старою, но иногда забываемою мыслию, что человек был, есть и будет всегда один и тот же в своих началах и основаниях и что лишь одни формы подвергаются изменяемости" (1836, № 152, с. 603).
В. Г. Белинский посвятил роману статью, в которой попытался определить его жанр: "Что это такое? Сказка не сказка, роман не роман, а если и роман, то совсем не исторический, а разве этимологический <…>" (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч… в 13-ти томах, т. II. М., 1953, с 119). Завершается анализ романа выводом: «Но эта шутка написана мило, остро, увлекательно, очаровательно; читая ее, и не видишь, как перевертываются листы, и только с досадою замечаешь, что близок конец» (там же).
Мы печатаем отрывок из романа, посвященный той же теме, что и поэма «Эскандер» в ч. I «Странника» ("Александр Филиппович Македонский", ч. И. М., 1836, с. 156–161).
РАДОЙ
РАССКАЗ
(Отрывок)
«Радой» был напечатай в 1839 г. в журнале «Сын Отечества» (т. VII), а затем включен в сборник повестей Вельтмана, вышедший в 1843 г. Существенных изменений в текст внесено не было. В произведении рассказывается, как автор обнаружил записки молодого офицера, проезжавшего через Балканы во время валашского восстания под руководством Тудора Владимиреску и движения этерии во главе с Александром Ипсиланти. История любви к Елене серба Радоя, с которым знакомится офицер, также влюбленный в Елену, переплетается с любовной историей Меынона и крепостной девушки Верочки.
Сложность композиции «Радоя» отметил В. Г. Белинский: "Повесть «Радей» ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана. В ней есть прекрасные подробности" (Полн. собр. соч. в 13-ти томах, VII. М., 1955, с 634) – Однако ранее критик отмечал, что «Радой» – "вполне прекрасная, полная души и мысли повесть <…>" (там же, т. III, с. 176). Рецензент "Библиотеки для чтения" писал: "…"Радой" – большая повесть, исполненная трогательных сцен, истинно драматических положений и рассказанная на славу" (1843, т. 60, ч. II, с. 24).
УРСУЛ
ПОВЕСТЬ
(Отрывок)
Повесть «Урсул» была опубликована во втором томе сборника «Сто русских литераторов» (СПб., 1841, с 352–395). Рассказанная в ней история основана на действительных фактах. Поимка талгаря Урсула произошла в Кишиневе в апреле 1824 г. Вельтман писал в воспоминаниях:
"Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула (талгарь – разбойник, урсул – медведь). Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда войнолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после скуляпского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из отважных ограбил на дороге от Вендор к Кишиневу купца. Вздумал пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арнаутов; по ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и заметив разбойников в корчме, закричал: "Талгарь, талгарь!" Народ сбежался; письменная почта была подле; почмейстер Алексеев, отставной храбрый полковник гусарский, собрал команду почтальонов и бросился с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженным, вскочив на коней, понеслись во весь опор через город. Только крики: "Талгарь, талгарь!" успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед, однако же выбрали плохой путь – через Булгарию (улицу Булгарскую). Булгары осыпали их и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу Быка. Принадлежа разным владельцам, все пространство было в загородях. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, по загородок было много, а толпы булгар преследовали их бегом и догоняли; постепенно утомленные кони падали с отважными седоками, и булгары, как пчелы, осыпали их и перевязывали. На окованного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения; когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал" (А. Ф. Велътман. Воспоминания о Бессарабии, с. 127, 128.).
Помещенный в данном издании отрывок содержит рассказ от автора. В дальнейшем повествовании Урсул открывает слушателю трагическую историю своей жизни, реальные события которой смешались в его горячечном сознании со снами к бредом.
В. Г. Белинский писал об «Урсуле»: "Изысканность, вычурность, напыщенность, туманность, бессвязность, пестрота и, к довершению всего, – хоть разломай себе голову, а ничего не поймешь в этой повести… Прочтите «Кирджали» Пушкина: содержание сходно с повестью г. Вельтмана; но какая простота, безыскусственность, какая непринужденная сжатость и энергия, какая поэзия и как все понятно и уму и сердцу!.." (Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. V. М., 1954, с. 212). "Северная пчела" отметила: "В этой повести, изображающей молдаванские нравы, есть несколько превосходных поэтических страниц, как и во всех сочинениях г. Вельтмана, по целое как-то темно, тяжело, как-то недосказано (…>" (1841, № 160, с. 659).
ИЛЬЯ ЛАРИН
РАССКАЗ
(Отрывки)
Рассказ был напечатан в газете «Московский городской листок» (1847, № 8). В нем описана встреча автора с Ильей Лариным, отставным унтер-цейгвахтером, с которым он познакомился в Кишиневе. Вельтман рассказал в «Воспоминаниях о Бессарабии»:
"Читателям "Евгения Онегина" известна фамилия Ларин. Ларин – родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Отставной унтер-цейгвахтер Илья Ларин, подобно Кохрену, был enjambeur[45]45
бродяга (франц.).
[Закрыть] и исходил всю Россию кругом не по страсти путешествовать, но по страсти к разнообразию, для снискания пищи и особенно пития между военного молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем. Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно входя в двери с дубиной в руках, протягивал первому руку и говорил громогласно: «Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь? А, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?» Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин между тем без церемоний садился, пил, ел все, что только стояло на столе, и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому; но когда начинали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незванным гостем" («Пушкин в воспоминаниях современников». <М.>, 1950, с. 236, 237).
И. П. Липранди писал: "Помню очень хорошо между Пушкиным и В. Ф. Раевским горячий спор <…> по поводу "Режь меня, жги меня" <…> спор этот порешил отставной фейерверкер Ларин (оригинал, отлично переданный Вельтманом), который обыкновенно жил у меня. Не понимая, о чем дело, и уже довольно попробовавший за ужином полынкового, потянул он эту песню "Ой жги, говори, рукавички барановые!" Эти последние слова превратили спор в хохот и обыкновенные с Лариным проказы" (там же, с 268).
Илья Ларин стал действующим лицом романа Вельтмана "Счастье – несчастье".
Фрагмент из рассказа напечатан в статье Ю. Акутина "У истоков Пушкинианы" ("Литературная газета", 1975, № 31).
Для нашего издания отобраны отрывки из "Ильи Ларина", в которых речь идет о кишиневской жизни.
ДВА МАЙОРА
РАССКАЗ
(Отрывок)
Произведение опубликовано в № 1 журнала «Москвитянин» за 1848 г. Оно посвящено эпизоду из жизни семейства Варфоломей (см. прим. к отрывку из «Воспоминаний о Бессарабии»). Повествование основано на действительных фактах. Во время" пребывания в Кишипеве Пушкин бывал частым гостем в доме Варфоломея, посещал устраиваемые откупщиком вечера с танцами. Обычно его сопровождал В. П. Горчаков (см. прим. к отрывку из «Воспоминаний о Бессарабии»). Поэт писал ему:
Сижу я дома, как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет нам Варфоломей.
(В. П. Горчаков.
Воспоминание о Пушкине. -
"Пушкин в воспоминаниях
современников". <М>.), 1050, с. 208).
Впоследствии Пушкин вспоминал «пестрый дом Варфоломея» в письме к, Ф. Ф. Вигелю из Одессы (22 октября – 4 ноября 1823 г.). Привлекла его внимание" Пульхерия Варфоломей, он занес ее в свой «донжуанский список». В том же письме к Ф. Ф. Вигелю Пушкин шутливо наказывал: «Пулхерии В<арфоломей> объявите за тайну, что я влюблен в нее без памяти <…>».
Горчаков вспоминал: "<…> шил в то время в Кишиневе известный своим гостеприимством Егор Кириллович Варфоломей, который, как говорится, жил открытым, домом, был богат или казался богатым, состоял на службе и был членом Верховного совета. Все это вместе взятое давало ему право на так называемое положение в свете. Знаем и помним, что гостеприимство Егора Кирилловича и радушие жены его> Марьи Дмитриевны постоянно сближало с ним многих. Мы с Пушкиным были постоянными их посетителями. Случалось ли нам заходить к Егору Кирилловичу утром, когда он возвращался из Верховного совета, Егор Кириллович непременно оставлял нас у себя обедать; зайдешь ли бывало вечером, так от ужина не отделаешься <…>" (там же, с. 203).