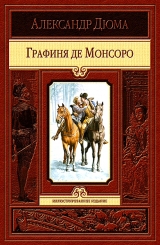
Текст книги "Графиня де Монсоро (ил. Мориса Лелуара)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Мы замолчали.
– Вы знаете, что я пришел сюда не один, – сказал граф.
– Гертруда видела четырех человек.
– Вы догадываетесь, кто они, эти люди?
– Предполагаю, один из них священник, а двое остальных наши свидетели.
– Стало быть, вы готовы стать моей женой?
– Но ведь мы договорились об этом? Однако я хочу напомнить условия нашего договора; мы условились, что, если не возникнет каких-то неотложных причин, признанных мною, я сочетаюсь с вами браком только в присутствии моего отца.
– Я прекрасно помню это условие, но разве эти неотложные причины не возникли?
– Пожалуй, да.
– Ну и?
– Ну и я согласна сочетаться с вами браком, сударь. Но запомните одно: по-настоящему я стану вашей женой только после того, как увижу отца.
Граф нахмурился и закусил губу.
– Сударыня, – сказал он, – я не намерен принуждать вас. Если вы считаете себя связанной словом, я возвращаю вам ваше слово; вы свободны, только…
Он подошел к окну и выглянул на улицу.
– …только посмотрите сюда.
Я поднялась, охваченная той неодолимой силой, которая влечет нас собственными глазами удостовериться в своей беде, и внизу под окном я увидела закутанного в плащ человека, который, казалось, пытался проникнуть в наш дом.
– Боже мой! – воскликнул Бюсси. – Вы говорите, что это было вчера?
– Да, граф, вчера, около девяти часов вечера.
– Продолжайте, – сказал Бюсси.
– Спустя некоторое время к незнакомцу подошел другой человек, с фонарем в руке.
– Как по-вашему, кто эти люди? – спросил меня господин де Монсоро.
– По-моему, это принц и его лазутчик, – ответила я.
Бюсси застонал.
– Ну а теперь, – продолжал граф, – приказывайте, как я должен поступить, – уходить мне или оставаться?
Я все еще колебалась; да, несмотря на письмо отца, несмотря на свое клятвенное обещание, несмотря на опасность, непосредственную, осязаемую, грозную опасность, да, я все еще колебалась! И не будь там, под окном, этих двух людей…
– О, я злосчастный! – воскликнул Бюсси. – Ведь это я, я был человеком в плаще, а другой, с фонарем, – Реми ле Одуэн, тот молодой лекарь, за которым вы посылали.
– Так это были вы! – вскричала, словно громом пораженная, Диана.
– Да, я! Я все больше убеждался в том, что мои грезы были действительностью, и отправился на поиски того дома, где меня приютили, комнаты, в которую меня принесли, женщины или, скорее, ангела, который явился мне. О, как я был прав, назвав себя злосчастным!
И Бюсси замолчал, словно раздавленный тяжестью роковой судьбы, использовавшей его как орудие для того, чтобы принудить Диану отдать свою руку графу.
– Итак, – спросил он, собрав все свои силы, – вы его жена?
– Со вчерашнего дня, – ответила Диана.
И снова наступила тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием обоих собеседников.
– Ну а вы? – вдруг спросила Диана. – Как вы проникли в этот дом, как вы оказались здесь?
Бюсси молча показал ей ключ.
– Ключ! – воскликнула Диана. – Откуда у вас этот ключ, кто вам его дал?
– Разве Гертруда не пообещала принцу ввести его к вам нынче вечером? Принц видел, хотя и не узнал, господина де Монсоро и меня, так же как господин де Монсоро и я видели его; он побоялся попасть в какую-нибудь ловушку и послал меня вперед, на разведку.
– А вы согласились? – с упреком сказала Диана.
– Для меня это была единственная возможность увидеть вас. Неужели вы будете столь жестоки и рассердитесь на меня за то, что я отправился на поиски женщины, которая стала величайшей радостью и самым большим горем моей жизни?
– Да, я сержусь на вас, – сказала Диана, – потому что нам было бы лучше не встречаться снова. Не увидев меня еще раз, вы бы меня забыли.
– Нет, сударыня, – сказал Бюсси, – вы ошибаетесь. Напротив, сам бог привел меня к вам и повелел проникнуть до самой глубины в подлый заговор, жертвой которого вы стали. Послушайте меня: как только я вас увидел, я дал обет посвятить вам всю свою жизнь. Отныне я приступаю к выполнению этого обета. Вы хотели бы знать, что с вашим отцом?
– О да! – воскликнула Диана. – Ведь поистине мне неизвестно, что с ним сталось.
– Ну что ж, я берусь узнать это. Только сохраните добрую память о том, кто, начиная с сегодняшнего дня, будет жить вами и для вас.
– Ну а ключ? – с беспокойством спросила Диана.
– Ключ? Отдаю его вам, так как я хотел бы получить его только из ваших собственных рук. Скажу одно: даю вам слово, что ни одна сестра не доверила бы ключ от своих покоев более преданному и более почтительному брату.
– Я верю слову отважного Бюсси, – сказала Диана. – Возьмите, сударь.
И она вернула ключ молодому человеку.
– Сударыня, – сказал Бюсси, – пройдет две недели, и мы узнаем, кто такой на самом деле господин де Монсоро.

И, простившись с Дианой с почтительностью, к которой примешивались одновременно и пылкая любовь, и глубокая печаль, Бюсси спустился по ступенькам лестницы.
Диана, склонив голову в сторону двери, прислушивалась к его удаляющимся шагам. Шум шагов давно уже затих, а она все слушала, слушала с трепещущим сердцем и со слезами на глазах.
Глава XVII
О том, как ехал на охоту король Генрих III и какое время требовалось ему на дорогу из Парижа в Фонтенбло
Три или четыре часа спустя после только что описанных нами событий бледное солнце чуть посеребрило края красноватой тучи, и занимающийся день стал свидетелем выезда короля Генриха III в Фонтенбло, где, как мы уже говорили, на следующее утро намечалась большая охота.
Выезд на охоту у всякого другого короля прошел бы незамеченным, но у того оригинала, историю царствования которого мы решились бегло очертить, он вызвал столько шума, суеты и беготни, что превратился в настоящее событие, как это случалось со всеми затеями Генриха. Судите сами: около восьми часов утра из больших ворот Лувра, между Монетным двором и улицей Астрюс, выехала кавалькада придворных на добрых конях и в плащах, подбитых мехом; за ними последовало великое множество пажей, затем толпа лакеев и, наконец, рота швейцарцев, которая непосредственно предшествовала королевской карете.
Сие сложное сооружение, влекомое восьмеркой мулов в богатой сбруе, заслуживает отдельного описания.
Оно представляло собой прямоугольный длинный кузов, поставленный на четыре колеса, внутри сплошь выложенный подушками, снаружи задрапированный парчовыми занавесками. В длину карета имела примерно пятнадцать футов, а в ширину – восемь. На труднопроходимых участках дороги или на крутых подъемах восьмерку мулов заменяли волами в любом потребном количестве. Эти медлительные, но сильные и упрямые животные хотя и не прибавляли скорости, зато вселяли уверенность в том, что место назначения будет достигнуто, правда, с опозданием, и с опозданием не на какой-нибудь час, а уж не менее чем на два или три часа.
Карета вмещала короля Генриха III и весь его походный двор, за исключением королевы Луизы де Водемон; по правде говоря, королева так мало принадлежала ко двору своего супруга, что о ней можно было бы вообще не упоминать, если бы не паломничества и религиозные процессии, в которых она принимала самое деятельное участие.

Оставим же бедняжку в покое и расскажем, из кого состоял походный двор короля Генриха III.
Прежде всего в него входил сам король, затем королевский лекарь Марк Мирон, королевский капеллан, имя которого до нас, к сожалению, не дошло, затем наш старый знакомец, королевский шут Шико, пять или шесть миньонов, бывших в фаворе, – в описываемое нами время этих счастливцев звали Келюс, Шомберг, д’Эпернон, д’О и Можирон, – затем две огромные борзые, чьи удлиненные, змеиные головы, нередко с раскрытой в отчаянном зевке пастью, то и дело высовывались из этой толпы людей, лежащих, сидящих, стоящих на ногах или на коленях, – наконец, неотъемлемой принадлежностью походного двора были крохотные английские щенки в корзинке, которую король либо держал на коленях, либо подвешивал на цепочке или на лентах к себе на грудь.
Из особо оборудованной ниши время от времени извлекали их кормилицу, суку с набухшими молоком сосцами, и вся щенячья команда тут же пристраивалась к ее животу. Борзые, прижимаясь своими острыми носами к побрякивавшим по левую сторону от короля четкам в виде черепов, снисходительно смотрели на обряд кормления и даже не давали себе труда ревновать, будучи твердо уверены в особом благорасположении к ним короля.
Под потолком королевской кареты покачивалась клетка из золоченой медной проволоки, в клетке сидели самые красивые во всем мире голуби: белоснежные птицы с двойным черным воротничком. Если, по воле случая, в карете появлялась дама, к этому зверинцу добавлялись две или три обезьянки из породы уистити или сапажу – обезьяны были в особой чести у модниц при дворе последнего Валуа.
В глубине кареты, в позолоченной нише, стояла Шартрская богоматерь, высеченная из мрамора Жаном Гужоном[37]37
Жан Гужон (ок. 1510–1564 или 1568) – известный французский скульптор. Ему принадлежит скульптурная отделка и оформление некоторых частей Лувра.
[Закрыть] по заказу короля Генриха II; взор богоматери, опущенный долу, на голову ее богоданного сына, казалось, выражал удивление всем происходящим вокруг.
Вполне понятно, что все памфлеты того времени – а в них не было недостатка – и все сатирические стихи той эпохи – а их сочинялось великое множество – оказывали честь королевской карете и частенько упоминали ее, именуя обычно Ноевым ковчегом.
Король восседал в глубине экипажа, как раз под статуэткой Шартрской богоматери. У его ног Келюс и Можирон плели коврики из лент, что в те времена считалось одним из самых серьезных занятий для молодых людей. Некоторым счастливцам удавалось подобрать искусные сочетания цветов, неизвестные до тех пор и с тех пор оставшиеся неповторенными, и сплетать коврики из двенадцати разноцветных ленточек. В одном углу Шомберг вышивал свой герб с новым девизом, который, как ему казалось, он только что изобрел, а на самом деле он на него просто где-то набрел. В другом углу королевский капеллан беседовал с лекарем. Невыспавшиеся д’О и д’Эпернон рассеянно глазели в окошечки и дружно зевали, не хуже борзых. И, наконец, в одной из дверец сидел Шико, спустив ноги наружу, чтобы быть готовым в любую минуту, когда ему взбредет в голову, соскочить с кареты или же забраться внутрь ее; он то распевал духовные гимны, то декламировал стихотворные сатиры, то составлял бывшие тогда в большом ходу анаграммы, находя в имени каждого куртизана – либо по-французски, либо по-латыни – намеки, донельзя обидные для того, чью личность он таким образом высмеивал.

Когда карета выехала на площадь Шатле, Шико затянул духовный гимн.
Капеллан, который, как мы уже говорили, беседовал с Мироном, повернулся к шуту и нахмурил брови.
– Шико, друг мой, – сказал король, – поберегись; кусай моих миньонов, разорви в клочья мое величество, говори все, что хочешь, о боге – господь добр, – но не ссорься с церковью.
– Спасибо за совет, сын мой, – отозвался Шико, – а я и не приметил, что там в углу наш достойный капеллан беседует с лекарем о последнем покойнике, которого медик послал святому отцу, дабы тот упокоил бренное тело в земле, и жалуется, что за день это был третий по счету и что его вечно отрывают от трапезы. Не надо гимнов, золотые твои слова, гимны уже устарели, лучше я спою тебе совсем новенькую песенку.
– А на какой мотив? – спросил король.
– Да все на тот же, – ответил Шико.
И загорланил во всю глотку:
Наш король должен сотню мильонов…
– Я должен куда больше, – прервал его Генрих. – Сочинитель твоей песни плохо осведомлен.
Шико, не смущаясь поправкой, продолжал:
Генрих должен две сотни мильонов,
На миньонов потратился он.
Нужно срочно придумать закон,
Чтоб в заклад не попала корона.
Новых пошлин набавить пяток,
А быть может, и новый налог.
Эта дружная гарпий[38]38
Гарпии – первоначально богини вихря в греческой мифологии. Позднее их представляли себе в виде крылатых чудовищ с женскими головами. Вергилий изображает их грозными стражами подземного царства.
[Закрыть] семья
Когти в нас запустила глубоко;
Ненасытные дети порока,
Все глотают они, не жуя.
– Недурно, – сказал Келюс, продолжая сплетать ленты, – а у тебя прекрасный голос, Шико; давай второй куплет, дружок.
– Скажи свое слово, Валуа, – не удостаивая Келюса ответом, обратился Шико к королю, – запрети своим друзьям называть меня другом; это меня унижает.
– Говори стихами, Шико, – ответил король, – твоя проза ни гроша не стоит.
– Изволь, – согласился Шико и продолжал:
Их наряд драгоценным шитьем
И брильянтами весь изукрашен,
Постыдилась бы женщина даже
Показаться на улице в нем,
Головою вертеть им удобно
В брыжах пышных, обширных и модных.
На крахмал не годна им пшеница,
Полотно, дескать, портит она,
И крахмалы для их полотна
Нынче делают только из риса.
– Браво! – похвалил король. – Скажи, д’О, не ты ли выдумал рисовый крахмал?
– Нет, государь, – сказал Шико, – это господин де Сен-Мегрен, который прошлый год отдал богу душу – его заколол шпагой герцог Майеннский! Черт побери, не отнимайте заслуг у бедного покойника; ведь для того, чтобы память о нем дошла до потомства, он может рассчитывать лишь на этот крахмал, да еще на неприятности, причиненные им герцогу де Гизу; отнимите у него крахмал, и он застрянет на полпути.
И, не обращая внимания на лицо короля, помрачневшее при этом воспоминании, Шико снова запел:
Их прически полны новизны…
– Разумеется, речь все еще идет о миньонах, – заметил он, прервав свое пение.
– Да, да, продолжай, – сказал Шомберг.
Шико запел:
Их прически полны новизны:
По линейке подстрижены пряди;
Непомерно обкорнаны сзади,
Впереди непомерно длинны.
– Твоя песенка уже устарела, – сказал д’Эпернон.
– Как устарела? Она появилась только вчера.
– Ну и что? Сегодня утром мода уже переменилась. Вот посмотри.
И д’Эпернон, сняв шляпу, показал Шико, что впереди у него волосы острижены почти так же коротко, как и сзади.
– Фу, какая мерзкая голова! – заметил Шико и снова запел:
И клеем обмазаны густо,
Уложены в волны искусно
Волоса, от рожденья прямые,
И не шляпы отнюдь, не береты —
Колпачки шутовские надеты
На головы эти пустые.
– Я пропускаю четвертый куплет, – сказал Шико, – он чересчур безнравственный.
И продолжал:
Уж не мните ли вы, что деды,
Соблюдавшие чести закон,
Французы былых времен,
Друзья и любимцы Победы,
В сражениях или в походе
Думали только о моде
Или что в битвах жестоких
В накладных они дрались кудрях,
В накрахмаленных кружевах,
Румянами вымазав щеки?
– Браво! – сказал Генрих. – Если бы мой братец ехал с нами, он был бы тебе весьма признателен, Шико.
– Кого ты зовешь своим братом, сын мой? – спросил Шико. – Не Жозефа ли Фулона, аббата монастыря Святой Женевьевы, где, как я слышал, ты собираешься постричься?
– Нет, – ответил Генрих, подыгрывавший шуточкам Шико. – Я говорю о моем брате Франсуа.
– Ах, ты прав; этот действительно твой брат, но не во Христе, а во дьяволе. Добро, добро, значит, ты говоришь о Франсуа, божьей милостью наследнике французского престола, герцоге Брабантском, Лотьерском, Люксембургском, Гельдрском, Алансонском, Анжуйском, Туреньском, Беррийском, Эвре и Шато-Тьерри, графе Фландрском, Голландском, Зеландском, Зютфенском, Мэнском, Першском, Мантском, Меланском и Бофорском, маркизе Священной империи, сеньоре Фриза и Малиня, защитнике бельгийской свободы, которому из одного носа, дарованного природой, оспа соорудила целых два; по поводу этих носов я сложил такой куплет:
Господа, не глядите косо
На Франсуа и его два носа.
Ведь и по нраву и по обычаю
Два носа под стать двуличию.
Миньоны дружно захохотали, ибо считали герцога Анжуйского своим личным врагом и эпиграмма, высмеивающая герцога, немедленно заставила их забыть направленную против них сатиру, которую только что распевал Шико.
Что до короля, то, поскольку из этого каскада острот на него попадали только отдельные брызги, он смеялся громче всех, весело угощал собак сахаром и печеньем и усердно оттачивал язык на своем брате и на своих друзьях.
Вдруг Шико воскликнул:
– Фу, как это неумно, Генрих, как неосторожно и даже дерзко.
– О чем ты? – сказал король.
– Нет, слово Шико, ты не должен признаваться в таких вещах. Фи, как это нехорошо!
– В каких вещах? – спросил удивленный король.
– В тех, в которых ты признаешься всякий раз, когда подписываешь свое имя. Ах, Генрике! Ах, сын мой!
– Берегитесь, государь, – сказал Келюс, заподозривший под елейным тоном Шико какую-то злую шутку.
– Какого черта? Что ты хочешь сказать?
– Как ты подписываешься? Скажи-ка?
– Черт побери… я подписываюсь… я подписываюсь «Henri de Valois» – Генрих Валуа.
– Добро. Заметьте, господа, он сам это сказал, по доброй воле, а теперь взглянем, не найдется ли среди этих тринадцати букв буквы «V».
– Разумеется, найдется: «Valois» начинается с «V».
– Возьмите ваши таблички, отец капеллан, ибо сейчас вы узнаете, как отныне вам следует записывать в них имя короля. Ведь «Henri de Valois» – это всего лишь анаграмма.
– То есть как?
– Очень просто. Всего лишь анаграмма. Я сейчас вам открою подлинное имя ныне царствующего величества. Итак, мы сказали: в подписи «Henri de Valois» есть «V», занесите эту букву на ваши таблички.
– Занесли, – сказал д’Эпернон.
– Нет ли там еще и буквы «i»?
– Конечно, есть, последняя буква в слове «Henri».
– До чего безгранично людское коварство! – сказал Шико. – Так разделить две буквы, созданные, чтобы стоять рядышком, друг возле дружки. Напишите «i» сразу после «V». Сделано?
– Да, – ответил д’Эпернон.
– Теперь поищем хорошенько, не найдется ли буква «l»? Ага, вот она, попалась! А теперь – буква «a»; она тоже тут; еще одно «i» – вот оно; и, наконец, «n». Добро. Ты умеешь читать, Ногарэ?
– К стыду моему, да, – сказал д’Эпернон.
– Смотрите, какой хитрец! Да, случаем, не считаешь ли ты, что настолько уж знатен, что можешь быть круглым невеждой?
– Пустомеля, – сказал д’Эпернон, замахиваясь на Шико сарбаканом.
– Ударь, но прочти, грамотей, – сказал Шико.
Д’Эпернон рассмеялся и громко прочел:
– «Vi-lain», vilain – подлый.
– Молодец! – воскликнул Шико. – Видишь, Генрих, как это делается: вот уже найдено настоящее имя, данное тебе при крещении. Надеюсь, если мне удастся раскрыть твою подлинную фамилию, ты прикажешь выплачивать мне пенсион не хуже того, который наш брат Карл Девятый пожаловал господину Амьйо.
– Я прикажу тебя поколотить палками, Шико, – сказал король.
– Где ты разыщешь палки, которыми колотят дворян, сын мой? Неужто в Польше? Скажи мне, пожалуйста.
– Однако, если я не ошибаюсь, – заметил Келюс, – герцог Майеннский все же где-то нашел такую палку в тот день, когда он застал тебя, мой бедный Шико, со своей любовницей.
– Это счет, который нам еще предстоит закрыть. Будьте покойны, синьор Купидо, – вот тут все занесено герцогу в дебет.
И Шико постучал пальцем себе по лбу, и это доказывает, что уже в те времена голову считали вместилищем памяти.
– Перестань, Келюс, – вмешался д’Эпернон, – иначе из-за тебя мы можем упустить фамилию.
– Не бойся, – сказал Шико, – я ее держу крепко, если бы речь шла о господине де Гизе, я бы сказал: за рога, а о тебе, Генрих, скажу просто: за уши.
– Фамилию, давайте фамилию! – дружно закричали миньоны.
– Прежде всего, среди тех букв, которые нам остаются, мы видим «Н» прописное: пиши «Н», Ногарэ.
Д’Эпернон повиновался.
– Затем «е», потом «r», да еще там в слове «Valois» осталось «о»; наконец, в подписи Генриха имя от фамилии отделяют две буквы, которые ученые грамматики называют частицей; и вот я накладываю руку на «d» и на «е», и все это вместе с «s», которым заканчивается родовое имя, образует слово; прочти его по буквам, Эпернон.
– «He-rо-dеs», Herodes – Ирод,[39]39
Ирод – имеется в виду Ирод Великий, царь Иудеи (40 г. до н. э – 4 г. н. э.). По евангельскому преданию, Ирод, узнав, что в городе Вифлееме родился будущий «царь иудейский», приказал перебить всех младенцев Вифлеема. Имя Ирода стало синонимом жестокости и бесчеловечности.
[Закрыть] – прочитал д’Эпернон.
– «Vilain Herodes»! Подлый Ирод! – воскликнул король.
– Верно, – сказал Шико. – И таким именем ты подписываешься каждый день, сын мой. Фу!
И шут откинулся назад, изобразив на лице ужас и отвращение.
– Господин Шико, вы переходите границы! – заявил Генрих.
– Да ведь я сказал только то, что есть. Вот они, короли: им говорят правду, а они сердятся.
– Да уж, нечего сказать, прекрасная генеалогия, – сказал Генрих.
– Не отказывайся от нее, сын мой, – ответил Шико. – Клянусь святым чревом! Она вполне подходит королю, которому два или три раза в месяц приходится обращаться к евреям.
– За этим грубияном, – воскликнул король, – всегда останется последнее слово! Не отвечайте ему, господа, только так можно заставить его замолчать.
В карете немедленно воцарилась глубокая тишина, и это молчание, которое Шико, весь ушедший в наблюдение за дорогой, по-видимому, не собирался нарушать, длилось несколько минут, до тех пор, пока карета, миновав площадь Мобер, не достигла угла улицы Нуайе. Тут Шико внезапно соскочил на мостовую, растолкал гвардейцев и преклонил колени перед каким-то довольно приятным на вид домиком с выступающим над улицей резным деревянным балконом, который опирался на расписные балки.

– Эй, ты! Язычник! – закричал король. – Коли тебе так уж хочется встать на колени, встань хотя бы перед крестом, что на середине улицы Сен-Женевьев, а не перед простым домом. Что в этом домишке, церковь спрятана или, может, алтарь?
Но Шико не ответил, он стоял, коленопреклоненный, посреди мостовой и во весь голос читал молитву. Король слушал, стараясь не упустить ни одного слова.
– Господи боже! Боже милосердный, боже праведный! Я помню этот дом и всю жизнь буду его помнить; вот она, обитель любви, где Шико претерпел муки, если не ради тебя, господи, то ради одного из твоих созданий; Шико никогда не просил тебя наслать беду ни на герцога Майеннского, приказавшего подвергнуть его мучениям, ни на мэтра Николя Давида, выполнившего этот приказ. Нет, господи, Шико умеет ждать, Шико терпелив, хотя он и не вечен. И вот уже шесть полных лет, в том числе один високосный год, как Шико накапливает проценты на маленьком счете, который он открыл на имя господ герцога Майеннского и Николя Давида. Считая по десяти годовых, – а это законный процент, под него сам король занимает деньги, – за семь лет первоначальный капитал удвоится. Великий боже! Праведный боже! Пусть терпения Шико хватит еще на один год, чтобы пятьдесят ударов бичом, полученные им в сем доме по приказу этого подлого убийцы – лотарингского принца, от его грязного наемника – нормандского адвоката, чтобы эти пятьдесят ударов, извлекшие из бедного тела Шико добрую пинту крови, выросли до ста ударов бичом каждому из этих негодяев и до двух пинт крови от каждого из них. Пусть у герцога Майеннского, как бы он ни был толст, и у Николя Давида, как бы он ни был длинен, не хватит ни крови, ни кожи расплатиться с Шико, и пусть они объявят себя банкротами и молят скостить им выплату до пятнадцати или двадцати процентов, и пусть они сдохнут на восьмидесятом или восемьдесят пятом ударе бича. Во имя отца, и сына, и святого духа! Да будет так! – заключил Шико.
– Аминь, – сказал король.
На глазах у пораженных зрителей, ничего не понявших в этой сцене, Шико поцеловал землю и снова занял свое место в карете.
– А теперь, – сказал король, который хотя за последние три года и лишился многих привилегий, подобающих его сану, отдав их в другие руки, все еще сохранял право обо всем узнавать первым. – А теперь, мэтр Шико, откройте нам, зачем была нужна такая странная и длинная молитва? К чему это биение себя в грудь? К чему, наконец, все эти кривляния перед самым обычным с виду домом?
– Государь, – ответил гасконец, – Шико – как лисица: Шико обнюхивает и лижет камни, на которые пролилась его кровь, до тех пор, пока не размозжит об эти камни головы тех, кто ее пролил.
– Государь, – воскликнул Келюс, – я держу пари! Как вы сами могли слышать, Шико в своей молитве упомянул имя герцога Майеннского. Держу пари, что эта молитва связана с палочными ударами, о которых мы только что говорили.
– Держите пари, сеньор Жак де Леви, граф де Келюс, – сказал Шико, – держите пари – и вы выиграете.
– Стало быть… – начал король.
– Именно так, государь, – продолжал Шико, – в этом доме жила возлюбленная Шико, доброе и очаровательное создание, из благородных, черт побери! Однажды ночью, когда Шико пришел ее повидать, один ревнивый принц приказал окружить дом, схватить Шико и жестоко избить его, и Шико был вынужден спастись через окно, разбив стекла, – открыть его у Шико не было времени, – и затем прыгнуть с высоты этого маленького балкона на улицу. Не убился он только чудом, и потому всякий раз, проходя мимо этого дома, Шико преклоняет колени, молится и в своих молитвах благодарит господа, извлекшего его из такой передряги.
– Ах, бедняга Шико, а вы еще порицаете его, государь. По-моему, он вел себя, как подобает доброму христианину.
– Значит, тебя все же изрядно поколотили, мой бедный Шико?
– О, весьма изрядно, государь, но не так сильно, как я бы хотел.
– То есть?
– По правде говоря, я не прочь был бы получить несколько ударов шпагой.
– В счет твоих грехов?
– Нет, в счет грехов герцога Майеннского.
– Ах, я понимаю; ты намерен воздать Цезарю…
– Нет, зачем же Цезарю, не будем смешивать, государь, божий дар с яичницей: Цезарь – великий полководец, отважный воин, Цезарь – это старший брат, тот, кто хочет быть королем Франции. Речь не о нем, у него счеты с Генрихом Валуа, и это касается тебя, сын мой. Плати свои долги, Генрих, а я уплачу свои.
Генрих не любил, когда при нем упоминали его кузена, герцога де Гиза, поэтому, услышав намек Шико, король насупился, разговор был прерван и не возобновлялся более до прибытия в Бисетр.
Дорога от Лувра до Бисетра заняла три часа, исходя из этого оптимисты считали, что королевский поезд должен прибыть в Фонтенбло назавтра к вечеру, а пессимисты предлагали пари, что он прибудет туда не раньше чем в полдень послезавтра.
Шико был убежден, что он туда вообще не прибудет.
Выехав из Парижа, кортеж начал двигаться живее. На погоду грех было жаловаться: стояло погожее утро, ветер утих, солнцу наконец-то удалось прорваться сквозь завесу облаков, и начинающийся день напоминал ту прекрасную октябрьскую пору, когда под шорох последних опадающих листьев восхищенным взорам гуляющих открывается голубоватая тайна перешептывающихся лесов.
В три часа дня королевский выезд достиг первых стен крепостной ограды Жювизи. Отсюда уже видны были мост, построенный через реку Орж, и большая гостиница «Французский двор», от которой пронизывающий ветер доносил запах дичи, жарящейся на вертеле, и веселый шум голосов.
Нос Шико на лету уловил кухонные ароматы. Гасконец высунулся из кареты и увидел вдали, у дверей гостиницы, группу людей, закутанных в длинные плащи. Среди них был маленький толстяк, лицо которого до самого подбородка закрывала широкополая шляпа.
При виде приближающегося кортежа эти люди поспешили войти в гостиницу.
Но маленький толстяк замешкался в дверях, и Шико с удивлением признал его. Поэтому в тот самый миг, когда толстяк исчез в гостинице, наш гасконец соскочил на землю, взял свою лошадь у пажа, который вел ее под уздцы, укрылся за углом стены и, затерявшись в быстро сгущающихся сумерках, оторвался от кортежа, продолжавшего путь до Эссонна, где король наметил остановку на ночлег. Когда последние всадники исчезли из виду и глухой стук колес по вымощенной камнем дороге затих, Шико покинул свое убежище, объехал вокруг замка и появился перед гостиницей со стороны, противоположной той, откуда на самом деле прибыл, как если бы он возвращался в Париж. Подъехав к окну, Шико заглянул внутрь через стекло и с удовлетворением увидел, что замеченные им люди, среди них и приземистый толстяк, который, по-видимому, его особенно интересовал, все еще там. Однако у Шико, очевидно, имелись причины желать, чтобы вышеупомянутый толстяк его не увидел, поэтому гасконец вошел не в главную залу, а в комнату напротив, заказал бутылку вина и занял место, позволяющее беспрепятственно наблюдать за выходом из гостиницы.
С этого места Шико, предусмотрительно усевшемуся в тени, была видна часть гостиничного зала с камином. У камина, на низеньком табурете, восседал маленький толстяк и, несомненно не подозревая, что за ним наблюдают, спокойно подставлял свое лицо потрескивающему огню, в который только что подбросили охапку сухих виноградных лоз, удвоившую силу и яркость пламени.
– Нет, глаза мои меня не обманули, – сказал Шико, – и, когда я молился перед домом на улице Нуайе, можно сказать, я нюхом учуял, что он возвращается в Париж. Но почему он пробирается украдкой в престольный град нашего друга Ирода? Почему он прячется, когда король проезжает мимо? Ах, Пилат, Пилат! Неужто добрый боженька не пожелал дать мне отсрочку на год, о которой я просил, и требует от меня выплаты по счетам раньше, чем я предполагал?
Вскоре Шико с радостью обнаружил, что в силу какого-то акустического каприза с того места, на котором он сидит, можно не только видеть, что происходит в зале гостиницы, но и слышать, что там говорят. Сделав такое открытие, Шико напряг слух с не меньшим усердием, чем зрение.
– Господа, – сказал толстяк своим спутникам, – полагаю, нам пора отправляться, последний лакей кортежа давно скрылся из виду, и, по-моему, в этот час дорога безопасна.
– Совершенно безопасна, монсеньор, – произнес голос, заставивший Шико вздрогнуть. Голос принадлежал человеку, на которого Шико, всецело погруженный в созерцание маленького толстяка, до этого не обращал никакого внимания.
Человек с голосом, резанувшим слух Шико, представлял собой полную противоположность тому, кого назвали монсеньором. Он был настолько же несуразно длинен, насколько тот был мал ростом, настолько же бледен, насколько тот был румян, настолько же угодлив, насколько тот был высокомерен.
– Ага, попался, мэтр Николя, – сказал Шико, беззвучно смеясь от радости. – Tu quoque…[40]40
И ты (Брут) (лат.). – начальные слова фразы, которую, по сообщениям античных историков, римский император Гай Юлий Цезарь произнес перед смертью, обращаясь к претору Бруту, возглавившему заговор против Цезаря и участвовавшему в убийстве императора. Марка Юния Брута считали не только лучшим другом, но даже и сыном императора. Выражение «И ты, Брут» означает измену человека, на которого рассчитывали больше всего.
[Закрыть] Нам очень не повезет, если на этот раз мы расстанемся, не обменявшись парой слов.
И Шико осушил свой стакан и расплатился с хозяином, чтобы иметь возможность беспрепятственно встать и уйти, когда ему заблагорассудится.
Эта предосторожность оказалась далеко не лишней, так как семь человек, привлекшие внимание Шико, в свою очередь, расплатились (вернее сказать, маленький толстяк расплатился за всех). Они вышли из гостиницы, лакеи или конюхи подвели им лошадей, все вскочили в седла, и маленький отряд поскакал по дороге в Париж и вскоре затерялся в первом вечернем тумане.
– Добро! – сказал Шико. – Он поехал в Париж, значит, и я туда вернусь.
И Шико, в свою очередь, сел на коня и последовал за кавалькадой на расстоянии, позволяющем видеть серые плащи всадников или же, в тех случаях, когда осторожный гасконец терял их из виду, слышать стук лошадиных копыт.
Все семеро свернули с дороги, ведущей на Фроманто, и прямо по открытому полю доскакали до Шуази, затем переехали Сену по Шарантонскому мосту, через Сент-Антуанские ворота проникли в Париж и наконец, как рой пчел исчезает в улье, исчезли во дворце Гизов, двери которого тотчас же плотно закрылись за ними, словно только и ожидали их прибытия.
– Добро, – повторил Шико, устраиваясь в засаде на углу улицы Катр-фис, – здесь пахнет уже не одним Майенном, но и самим Гизом. Пока что все это только любопытно, но скоро станет весьма занятным. Подождем.







