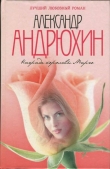Текст книги "Королева Марго"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
XII. Кровавый пот
После жуткого события, описанного в предыдущей главе, и бала, назначенного Карлом в самый день казни молодых людей, Карл занемог на балу сильнее прежнего и переехал по предписанию врачей на свежий деревенский воздух в Венсен, куда переселился и весь двор, а через несколько дней, 30 мая 1574 года, в комнате короля неожиданно раздался сильный шум. Было восемь часов утра. В передней комнате небольшая кучка придворных что-то обсуждала с большим жаром, как вдруг послышался резкий вопль и на пороге королевской комнаты появилась кормилица короля Карла, заливаясь слезами и крича:
– Помогите! Помогите!
– Его величеству стало хуже? – спросил командир де Нансе, которого Карл, как было сказано, освободил от всякого подчинения Екатерине и прикомандировал лично к себе.
– О! Сколько крови! Сколько крови! – сказала кормилица. – Скорее врачей! Бегите за врачами!
Врачи Мазилло и Амбруаз Паре дежурили по очереди у больного короля, но дежурный в этот день Амбруаз Паре, увидев, что король заснул, отлучился от него на несколько минут.
Как раз в его отсутствие сильный пот выступил у короля, а так как капиллярные сосуды у Карла ослабли и расширились, то и кровь стала просачиваться сквозь поры кожи. Кровавый пот испугал кормилицу, которая, не понимая действительной причины такого странного явления и будучи протестанткой, уверяла Карла, что это выходит из него кровь гугенотов, пролитая в Варфоломеевскую ночь.
Все разбежались в разные стороны искать врача, находившегося где-нибудь поблизости. Каждому хотелось показать свое усердие и привести Паре, поэтому в передней комнате не оставалось никого. В это время растворилась входная дверь и появилась Екатерина. Она быстро проскользнула через переднюю и торопливо вошла в комнату к своему сыну.
С потухшими глазами он лежал навзничь на постели и прерывисто дышал, все его тело покрылось красноватым потом; одна рука, откинувшись, свисала с постели, и на конце каждого пальца скопилась капля рубинового цвета. Зрелище было ужасное.
Несмотря на такое состояние, Карл приподнялся при звуке шагов – видимо, узнав походку своей матери.
– Простите, мадам, – сказал он, глядя на мать, – мне бы хотелось умереть спокойно.
– Умереть от случайного приступа этой дрянной болезни? Да что вы, сын мой! Вы хотите довести нас до отчаяния?
– А я говорю, мадам, что у меня душа с телом расстается. Я говорю, мадам, что это смерть, черт ее побери!.. Я знаю, что я чувствую, и знаю, что говорю.
– Сир, теперь причина вашей болезни – в вашем воображении; после заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Ла Моль и Коконнас, ваши телесные страдания должны исчезнуть. Но остается ваша душевная болезнь, и если бы я могла поговорить с вами всего десять минут, я доказала бы вам…
– Кормилица, – сказал Карл, – побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне. Королева Екатерина Медичи желает поговорить со своим любимым сыном Карлом Девятым.
Кормилица встала за дверью.
– Да, – продолжал Карл, – рано или поздно этот разговор должен был произойти, и лучше сегодня, чем завтра. Завтра, возможно, будет уже поздно. Но при нашем разговоре должно присутствовать еще третье лицо.
– Почему?
– Потому что, повторяю вам, смерть уже подходит, – продолжал Карл с пугающей торжественностью, – и каждую минуту может войти сюда молча, без доклада, вот так, как вы. Сейчас наступило решительное время; ночью я распорядился своими личными делами, а теперь надо распорядиться делами государства.
– А кого третьего желаете вы видеть между нами? – спросила Екатерина.
– Моего брата, мадам. Велите его позвать.
– Сир, я вижу с удовольствием, что предубеждения, возникшие у вас не столько под влиянием физических страданий, сколько подсказанные вам чувством неприязни, начинают исчезать из вашего ума, а скоро исчезнут и из сердца. Кормилица! – крикнула Екатерина. – Кормилица!
Кормилица, стоявшая за дверью, приотворила дверь.
– Кормилица, – сказала Екатерина, – как только придет месье де Нансе, скажите ему от имени моего сына, чтобы он сходил за герцогом Алансонским.
Карл движением руки остановил кормилицу, собиравшуюся исполнить приказание.
– Мадам, я сказал – брата, – возразил Карл.
Глаза Екатерины расширились, как у тигрицы, приходящей в ярость, но Карл повелительным жестом остановил ее.
– Я хочу говорить с братом моим Генрихом, – сказал он. – У меня только один брат – Генрих; не тот, который царствует там, в Польше, а тот, который сидит здесь в заключении. Он и услышит мою последнюю волю.
– Неужели вы воображаете, – воскликнула Екатерина с не свойственной ей смелостью перед страшной волей своего сына: настолько ненависть к Генриху Наваррскому вывела ее из состояния обычного притворства, – неужели вы воображаете, что если вы находитесь при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу, свое право присутствовать при вашем последнем часе – право королевы, право матери?
– Мадам, я еще король, – ответил Карл, – пока приказываю я, мадам! Я говорю вам, что хочу переговорить с братом моим Генрихом, а вы не зовете командира моей охраны!.. Тысяча чертей! Предупреждаю вас, что у меня еще хватит сил самому пойти за ним.
И он приподнялся, чтобы сойти с кровати, раскрыв свое тело, похожее на тело Христа после бичевания.
– Сир, – воскликнула Екатерина, удерживая его, – вы оскорбляете нас всех, вы забываете обиды, нанесенные нашей семье, вы отрекаетесь от кровного родства; только наследный принц французского престола имеет право склонить колена у смертного одра французского короля. А мое место предуказано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета; поэтому я остаюсь…
– А в качестве кого вы здесь останетесь, мадам?
– В качестве матери.
– Как герцог Алансонский мне не брат, так же и вы, мадам, – не мать!
– Вы бредите, месье! – возмутилась Екатерина. – С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестает быть матерью того, кто получил от нее жизнь?
– С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала, – ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах.
– О чем вы говорите? Я вас не понимаю, – пробормотала Екатерина, глядя на Карла изумленными, широко раскрытыми глазами.
– Сейчас, мадам, поймете!
Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик.
– Возьмите этот ключ, мадам, откройте мою походную шкатулку; в ней лежат документы, которые ответят вам вместо меня.
И Карл показал рукой на стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепною резьбой, с серебряным замком, чеканным так же, как и ключ.
Уступая моральной силе Карла, Екатерина повиновалась, медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидела на дне ее спящую змею.
– Что в этой шкатулке так испугало вас, мадам? – спросил Карл, не спускавший глаз с Екатерины.
– Ничего, – ответила Екатерина.
– А тогда, мадам, протяните вашу руку и выньте из шкатулки книгу; там ведь лежит книга, верно? – добавил Карл с бледной улыбкой, имевшей у него значение более страшное, чем любая угроза у всякого другого.
– Да, – пролепетала Екатерина.
– Книга об охоте?
– Да.
– Возьмите ее и подайте мне.
При всей своей самоуверенности Екатерина побледнела, задрожала всем телом, но опустила руку в шкатулку.
– Рок! – прошептала она, беря книгу.
– Хорошо, – сказал Карл. – А теперь слушайте! Я был неосторожен… Больше всего на свете я любил охоту… эта книга об охоте… я слишком жадно ее читал… Понятно вам?
Екатерина чуть слышно охнула.
– В этом была моя слабость, – продолжал Карл. – Сожгите книгу, мадам: не надо, чтобы люди знали о королевских слабостях!
Екатерина подошла к горящему камину, бросила в огонь книгу и молча, не двигаясь с места, глядела мутным взором, как синеватое пламя съедало страницы, пропитанные ядом. Чем больше их съедало пламя, тем сильнее пахло чесноком.
Наконец книга сгорела.
– Теперь, мадам, позовите моего брата, – произнес Карл с непререкаемой властностью.
Совершенно растерявшись, подавленная множеством разнообразных чувств, которых был не в силах осознать даже ее глубокий ум и не могла преодолеть почти сверхчеловеческая сила ее воли, королева-мать сделала шаг по направлению к Карлу, собираясь что-то сказать, но остановилась. Три чувства в ней кричали громче всех: в матери – муки совести, в королеве – ужас, в отравительнице – вновь вспыхнувшая ненависть. Последнее чувство взяло верх над всеми остальными.
– Будь он проклят! – воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. – Он торжествует, он у цели! Да, проклят! Проклят!
– Вы слышали: моего брата, брата Генриха! – крикнул ей Карл. – Моего брата Генриха, и сию минуту! Я хочу переговорить с ним о регентстве над государством.
Почти сейчас же вслед за Екатериной вошел в другую дверь Амбруаз Паре; он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля.
– Кто жег мышьяк? – спросил он.
– Я, – ответил Карл.
XIII. Вышка Венсенской крепости
В это время Генрих Наваррский задумчиво прогуливался по вышке главной башни; он знал, что королевский двор живет шагах в ста от него, здесь, в Венсенском замке; и проницательный взор Генриха как будто видел умирающего Карла сквозь стены замка.
Вокруг все голубело, золотилось. Потоки солнечного света широко разливались по долинам и золотили верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Мягкое, теплое дыхание неба, казалось, пропитывало даже серые камни башни; и цветы левкоя, занесенного в ее расселины восточным ветром, раскрывали свои оранжевые венчики под теплым дуновением воздуха.
Но не зеленые долины, не золотистые древесные вершины влекли к себе пристальный взор Генриха; взгляд его переносился через пространство и, светясь огнем честолюбия, смотрел упорно на тогдашнюю столицу Франции, в будущем – столицу мира.
– Вот он – Париж, – шептал король Наваррский. – Париж! В нем власть, слава, радость, торжество и счастье! В нем – Лувр, а в Лувре – трон. Что отделяет меня от столь желанного Парижа? Только одно – те камни, что громоздятся здесь у моих ног и служат жилищем моей врагине.
В то время как Генрих переносил свой взгляд с Парижа на Венсен, он вдруг заметил слева от себя, в долине, осененной миндальными деревьями в цвету, какого-то мужчину в латах, на которых играл луч солнца, и этот зайчик порхал вдали при всех передвижениях неизвестного мужчины. Незнакомец сидел верхом на горячей лошади, держа в поводу другую лошадь, по-видимому, такую же ретивую, как первая.
Король Наваррский стал всматриваться и увидел, что замеченный им всадник обнажил шпагу, надел на ее острие носовой платок и стал махать им, словно подавая кому-то знак. В ту же минуту с холма напротив ему ответили таким же знаком, а через несколько секунд везде кругом зареял целый хоровод из носовых платков.
Это был де Муи со своими гугенотами: узнав, что Карл при смерти, и опасаясь покушения на жизнь Генриха, они все собрались, готовые и нападать, и защищать.
Генрих опять перевел взгляд на первого замеченного всадника, перегнулся через ограду вышки, прикрыл глаза ладонью и, защитив их от ослепляющих солнечных лучей, узнал молодого гугенота.
– Де Муи! – крикнул король Наваррский, как будто де Муи мог услышать его.
И в радости, что окружен друзьями, Генрих снял шляпу и замахал шарфом. В ответ все белые платочки вновь замелькали с особым оживлением, говорившим о радости его друзей.
– Увы! Они ждут меня, – сказал Генрих, – а я не могу к ним присоединиться!.. Зачем я этого не сделал, когда еще была возможность!.. Теперь я опоздал.
Он жестом выразил друзьям свое отчаяние, на что де Муи ответил ему знаками, имевшими смысл: «Буду ждать».
В это мгновение Генрих Наваррский услышал шаги по каменной лестнице, ведущей на площадку. Он быстро отошел от парапета. Гугеноты поняли, что так он поступил не без причины. Шпаги опять ушли в ножны, платки исчезли.
Генрих увидел в пролете лестницы запыхавшуюся от быстрого подъема женщину и не без тайного ужаса, который он испытывал всегда при ее виде, узнал Екатерину Медичи. Сзади нее шли двое королевских стражей и остановились на верхней ступеньке лестницы.
– Ого! – прошептал Генрих. – Что-то новое и очень важное должно было произойти, если королева-мать сама пришла за мной на вышку Венсенской крепости.
Екатерина села на каменную скамейку парапета, чтобы отдышаться. Генрих подошел к ней и с самой любезной улыбкою спросил:
– Милая матушка, уж не ко мне ли вы пришли?
– Да, месье, – ответила Екатерина, – я хочу доказать вам в последний раз мое расположение. Наступила решительная минута: король умирает и хочет с вами говорить.
– Со мной? – спросил Генрих, затрепетав от радости.
– Да, с вами. Как я узнала, ему наговорили, будто вы не только сожалеете о потере наваррского престола, но простираете свое честолюбие и на престол французский.
– Ого! – произнес Генрих.
– Я-то знаю, что это не так, но король верит этому, и разговор, который он намерен вести с вами, имеет целью устроить вам ловушку.
– Мне?
– Да. Перед своей смертью Карл желает знать, чего он может опасаться и на что рассчитывать с вашей стороны. Имейте в виду, от вашего ответа на его предложения будут зависеть его последние приказания о вас, то есть ваша жизнь или ваша смерть.
– Но что он может предлагать мне?
– Откуда я знаю? Вероятно, что-нибудь немыслимое.
– А вы, матушка, не догадываетесь – что именно?
– Нет, могу только предполагать; например…
Екатерина не договорила – что.
– Что же?
– Поскольку король верит наговорам о ваших честолюбивых замыслах, я предполагаю, что он хочет услышать из собственных ваших уст доказательство вашего честолюбия. Представьте себе, что вас будут искушать – как, бывало, соблазняли преступников с целью вырвать у них признание, не прибегая к пытке. Представьте себе, – продолжала Екатерина, глядя в упор на Генриха, – что вам предложат управление государством, даже регентство.
Невыразимо радостное чувство охватило угнетенную душу короля Наваррского, но Генрих понял, куда Екатерина метит, и его крепкая, упругая душа вся напряглась от ее натиска.
– Мне? – переспросил он. – Нет, это была бы слишком грубая ловушка: предлагать мне регентство, когда есть вы, когда есть брат мой, герцог Алансонский…
Екатерина прикусила губу, чтобы скрыть чувство удовлетворения.
– Значит, вы отказываетесь от регентства? – спросила она с оживлением.
«Король уже умер, – подумал Генрих, – и это она устраивает мне ловушку». Затем ответил:
– Прежде всего я должен выслушать самого короля, так как, по вашему собственному признанию, мадам, все то, что вы сейчас сказали, – одно предположение.
– Конечно, – сказала Екатерина, – но это все же не мешает вам изъяснить свои намерения.
– Ах, боже мой! – простодушно ответил Генрих. – Поскольку я ничего не домогаюсь, у меня нет никаких намерений!
– Это не ответ, – возразила Екатерина и, чувствуя, что время уходит, дала волю своему гневу: – Говорите определенно: да или нет!
– Я не могу, мадам, давать ответ на одни предположения. Определенное решение – вещь настолько трудная, а главное – настолько серьезная, что надо подождать настоящих предложений.
– Слушайте, месье, – сказала Екатерина, – мы теряем время в бесплодных пререканиях, во взаимных увертках. Давайте играть в открытую, как подобает королю и королеве. Если вы согласитесь стать регентом, вас ждет смерть.
«Король жив», – подумал Генрих и ответил твердым тоном:
– Мадам, жизнь и простых людей, и королей в руках божиих! Бог вразумит меня. Пусть доложат его величеству, что я готов к нему явиться.
– Подумайте, месье.
– За те два года, что я жил в опале, и за месяц моего заключения здесь, мадам, у меня было время все обдумать, и я обдумал, – внушительно ответил Генрих. – Будьте добры, пройдите первой к королю и передайте ему, что я следую за вами. Два эти молодца, – добавил Генрих, указывая на двух солдат, – позаботятся, чтобы я не убежал. Кроме того, я и не собираюсь это делать.
В его словах звучала такая твердая уверенность в себе, что Екатерина сразу поняла бесплодность всех своих попыток подействовать на Генриха, чем их ни прикрывай, и стремительно ушла с площадки.
Как только она скрылась из виду, Генрих подбежал к парапету и знаками передал своему другу де Муи распоряжение: «Подъезжайте ближе к замку и будьте наготове». Де Муи, который было спешился, снова вскочил в седло, подскакал вместе с запасной лошадью ближе и остановился в удобном месте, на расстоянии двух мушкетных выстрелов от крепости. Генрих жестом поблагодарил его и сошел вниз. На первой площадке его ждали двое конвойных.
Усиленный наряд из швейцарцев и легких конников охранял вход в крепостные дворы: таким образом, чтобы войти в крепость или из нее выйти, необходимо было пройти между двумя рядами стоявших стеною протазанов. Около них Екатерина дожидалась Генриха. Она знаком остановила двух солдат, сопровождавших короля Наваррского, и, положив свою руку на его руку, сказала:
– В этом дворе двое ворот: вон у тех, что за покоями короля, вас ждет хорошая лошадь и свобода, если вы откажетесь от регентства; а если вы послушаетесь голоса вашего честолюбия, то у тех ворот, в которые вы сейчас прошли… Что говорите вы?
– Я говорю, мадам, что если король назначит меня регентом, то отдавать приказания солдатам будете не вы, а я. Я говорю, что вечером, когда я выйду от короля, все эти алебарды и мушкеты склонятся передо мной.
– Безумец! – в отчаянии прошептала Екатерина. – Верь мне и не играй с Екатериной в страшную игру на жизнь и на смерть.
– Почему нет? – спросил Генрих, глядя в упор на Екатерину. – Почему не играть с вами, как с любым другим, раз до сих пор выигрывал я?
– Если вы ничему не верите и не хотите ничего слушать, тогда взойдите к королю, – сказала Екатерина, показывая одной рукой на лестницу, а другой рукой нащупывая рукоятку одного из двух отравленных кинжальчиков, которые она носила в черных сафьяновых ножнах, ставших историческими.
– Проходите первой, мадам. Пока я не стану регентом, честь идти впереди принадлежит вам.
Екатерина, чувствуя, что все ее намерения разгаданы, не пыталась противиться и пошла первой.
XIV. Регентство
Король уже начал терять терпение, вызвал к себе де Нансе и только что приказал ему сходить за Генрихом, как Генрих появился на пороге королевской спальни. Увидев своего зятя, Карл радостно вскрикнул, а Генрих остановился в ужасе, как будто наткнулся на чей-то труп.
Врачи, стоявшие по обе стороны королевского ложа, ушли. Священник, увещевавший несчастного государя принять конец свой по-христиански, тоже удалился.
Карла IX не любили; однако многие стоявшие в передних комнатах горько плакали: в случае смерти какого-нибудь короля всегда оказываются люди, которые при этом теряют нечто и опасаются, что это «нечто» уже не вернется к ним при новом короле.
Эта скорбь, плач, слова Екатерины, мрачное и торжественное настроение, сопровождающее последние минуты королей, наконец, вид самого короля, пораженного болезнью, уже вполне определившейся, но еще неведомой науке, – все это произвело страшное действие на юный, а следовательно, и впечатлительный ум Генриха. Вопреки своему решению не возбуждать в Карле новых тревог, Генрих не мог подавить чувство ужаса, и оно отразилось на его лице при виде умирающего короля, покрытого кровавым потом.
От умирающих не ускользает ни одно выражение на лицах тех, кто окружает их, и Карл грустно улыбнулся.
– Подойди, Анрио, – сказал он, протягивая руку зятю и говоря таким нежным тоном, какого никогда не слышал у него Генрих. – Иди ко мне, я так страдал оттого, что не виделся с тобой. При своей жизни я тебя сильно мучил, мой милый друг, но верь мне, я часто корю себя за это; случалось, что я и помогал тем, кто тебя мучил, но король не властен над обстоятельствами, и, кроме моей матери и моих братьев – герцога Анжуйского и герцога Алансонского, надо мной всю мою жизнь тяготело нечто, что меня стесняло и что перестает давить на меня только теперь, когда я близок к смерти: благо государства!
– Сир, – тихо отвечал Генрих, – я помню лишь одно – мою любовь, которую я всегда питал к моему брату, и мое уважение, которое я всегда оказывал моему королю.
– Да, да, верно, – сказал Карл, – я признателен тебе, Анрио, за то, что ты говоришь так; ведь, говоря правду, ты много претерпел под моей властью, помимо того, что твоя мать умерла во время моего правления. Но ты должен был видеть, что меня толкали к этому другие. Иногда я боролся и не сдавался, иногда же я уставал сопротивляться и уступал. Но верно ты сказал, не будем поминать прошлое, сейчас меня торопит настоящее, меня пугает будущее.
И, говоря эти слова, бедный король закрыл свое мертвенно-бледное лицо костлявыми руками. С минуту Карл молчал, затем, чтобы отогнать от себя мрачные мысли, тряхнул головой, причем забрызгал все кругом себя кровавым потом.
– Надо спасать государство, – шепотом сказал он, наклоняясь к Генриху, – надо, чтобы оно не попало в руки фанатиков или баб.
Как мы сказали, Карл произнес эти слова шепотом, но Генриху почудился за ширмами около кровати как бы подавленный крик ярости. Возможно, что благодаря какому-то отверстию, проделанному в стене без ведома Карла, Екатерина подслушивала этот предсмертный разговор.
– Баб? – переспросил король Наваррский, чтобы вызвать короля на объяснение.
– Да, Анрио, – ответил Карл. – Моя мать хочет быть регентшей, пока не вернется из Польши мой брат. Но слушай, что я тебе скажу: он не вернется.
– Как! Он не вернется? – воскликнул Генрих, и его сердце забилось от тайной радости.
– Нет, не вернется, – продолжал Карл, – его не выпустят его же собственные подданные.
– Но неужели вы думаете, брат мой, – спросил Генрих, – что королева-мать не написала ему заранее?
– Конечно, да, но Нансе перехватил гонца в Шато-Тьери и привез письмо мне; в этом письме она писала, что я при смерти. Но я тоже написал письмо в Варшаву, а мое письмо дойдет, я в этом уверен, и за моим братом будут наблюдать. Таким образом, по всей вероятности, престол окажется свободным.
За альковом вторично и более явственно, чем в первый раз, послышался звук человеческого голоса.
«Несомненно, она там, – подумал Генрих, – подслушивает и ждет!»
Карл ничего не слышал и продолжал:
– Я умираю, а наследника-сына у меня нет.
Карл остановился; казалось, милая сердцу мысль озарила его лицо, и, положив руку на плечо короля Наваррского, он сказал:
– Увы! Помнишь, Анрио, того бедного ребенка, которого я показал тебе, когда он спал в шелковой колыбели, хранимый ангелом? Увы! Они его убьют!..
Глаза Генриха наполнились слезами.
– Сир, – воскликнул он, – клянусь вам богом, что его жизнь я буду охранять и день и ночь. Приказывайте, сир.
– Спасибо! Спасибо, Анрио, – произнес король с таким чувством, какое было чуждо его характеру, но вызывалось обстоятельствами. – Я принимаю твой обет. Не делай из него короля: он рожден не для трона, а для счастья. Я оставляю ему независимое состояние; пусть благородство его матери – благородство души – станет и его отличительной чертой. Может быть, для него будет лучше, если посвятить его служению церкви; тогда внушит он меньше опасений. Ах! Мне кажется, что я бы умер хоть не счастливым, но по крайней мере спокойным, если бы мог утешиться теперь ласками этого ребенка и видеть перед собою его мать.
– Сир, а разве вы не можете послать за ними?
– Что ты говоришь! Да им отсюда не уйти живыми. Вот, Анрио, положение королей: они не могут ни жить, ни умереть, как хочется. Но после твоего обещания я чувствую себя покойнее.
Генрих задумался.
– Да, сир, я правда обещал, но буду ли я в состоянии сдержать свое обещание?
– Что ты разумеешь?
– Ведь и я сам здесь человек отверженный, нахожусь под угрозой так же, как он… и даже больше: потому что он ребенок, а я мужчина.
– Нет, это не так, – ответил Карл. – С моей смертью ты будешь силен и могуществен, а силу и могущество даст тебе вот это.
С этими словами умирающий Карл вынул из-под подушки грамоту.
– Возьми, – сказал он.
Генрих пробежал глазами грамоту, скрепленную королевской печатью.
– Сир, вы назначаете меня регентом? – сказал Генрих, побледнев от радости.
– Да, я назначаю тебя регентом до возвращения герцога Анжуйского; а так как, по всей вероятности, герцог Анжуйский сюда больше не вернется, то эта грамота дает тебе не регентство, а трон.
– Трон! Мне?! – прошептал Генрих.
– Да, тебе, – ответил Карл, – тебе, единственно достойному, а главное – единственно способному справиться с этими распущенными придворными и с этими развратными девками, которые живут чужими слезами и чужой кровью. Мой брат, герцог Алансонский, – предатель и будет предавать всех. Оставь его в крепости, куда я засадил его. Моя мать будет стараться извести тебя, – отправь ее в изгнание. Через три-четыре месяца, а может быть, и через год мой брат, герцог Анжуйский, бросит Варшаву и явится оспаривать у тебя власть, ответь ему грамотой папы о твоем утверждении. Я это провел через моего посланника, герцога Невэрского, и ты немедленно получишь такую грамоту.
– О мой король!
– Берегись только одного, Генрих, – гражданской войны. Но, оставаясь католиком, ты ее минуешь, потому что и партия гугенотов может быть крепкой лишь при условии, если ты станешь во главе ее, принц же Конде не в силах вести борьбу с тобой. Франция – страна равнинная, а следовательно, должна быть страной единой, католической. Король Франции должен быть королем католиков, а не гугенотов, – так как французским королем должен быть король большинства. Говорят, будто меня мучит совесть за Варфоломеевскую ночь. Сомнения – да! А совесть – нет. Болтают, что у меня сквозь поры кожи выходит кровь гугенотов. Я знаю, что из меня выходит: не кровь, а мышьяк.
– О, что вы сказали, сир?
– Ничего. Если моя смерть требует отмщения, Анрио, то это дело только бога. Не будем говорить о моей смерти, займемся тем, что после нее будет. Я оставляю тебе в наследство хороший парламент, испытанную армию. Обопрись на парламент и на армию в борьбе с твоими единственными врагами: моей матерью и герцогом Алансонским.
Глухое бряцание оружия и слова военной команды раздались в вестибюле Лувра.
– Это моя смерть, – прошептал Генрих.
– Ты боишься, ты колеблешься? – с тревогой спросил Карл.
– Я? Нет, сир, – ответил Генрих, – я не боюсь и не колеблюсь. Я согласен.
Карл пожал ему руку. В это время к нему подошла его кормилица с питьем, которое она готовила в соседней комнате, не обращая внимания на то, что в трех шагах от нее решалась судьба Франции.
– Милая кормилица, позови мою мать и скажи, чтобы привели сюда герцога Алансонского.