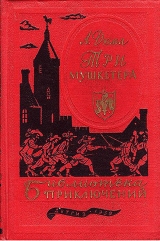
Текст книги "Три мушкетёра"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
XII
ДЖОРДЖ ВИЛЛЬЕРС, ГЕРЦОГ БЕКИНГЭМСКИЙ
Г-жа Бонасье и герцог без особых трудностей вошли в Лувр. Г-жу Бонасье знали как женщину, принадлежавшую к штату королевы, а герцог был в форме мушкетеров г-на де Тревиля, рота которого, как мы уже упоминали, в тот вечер несла караул во дворце. Впрочем, Жермен был слепо предан королеве, и, случись что-нибудь, г-жу Бонасье обвинили бы только в том, что она провела в Лувр своего любовника. Этим бы все и кончилось. Она приняла бы грех на себя, доброе имя ее было бы, правда, загублено, но что значит для сильных мира доброе имя какой-то жалкой галантерейщицы!
Войдя во двор, герцог и г-жа Бонасье прошли шагов двадцать пять вдоль каменной ограды. Затем г-жа Бонасье нажала на ручку небольшой служебной двери, открытой днем, но обычно запиравшейся на ночь. Дверь подалась. Они вошли. Кругом было темно, но г-же Бонасье были хорошо знакомы все ходы и переходы в этой части Лувра, отведенной для служащих во дворце. Заперев за собой дверь, она взяла герцога за руку, сделала осторожно несколько шагов, ухватилась за перила, коснулась ногой ступеньки и начала подниматься. Герцог следовал за ней. Они достигли третьего этажа. Здесь г-жа Бонасье свернула вправо, провела своего спутника по длинному коридору и спустилась на один этаж, прошла еще несколько шагов, вложила ключ в замок, отперла дверь и ввела герцога в комнату, освещенную только ночной лампой.
– Побудьте здесь, милорд, – шепнула она. – Сейчас придут.
Сказав это, она вышла в ту же дверь и заперла ее за собой на ключ, так что герцог оказался пленником в полном смысле этого слова.
Нельзя не отметить, что герцог Бекингэм, несмотря на полное одиночество, в котором он очутился, не почувствовал страха. Одной из наиболее замечательных черт его характера была жажда приключений и любовь ко всему романтическому. Смелый, мужественный и предприимчивый, он не впервые рисковал жизнью при подобных обстоятельствах. Ему было уже известно, что послание Анны Австрийской, заставившее его примчаться в Париж, было подложным и должно было заманить его в ловушку. Но, вместо того чтобы вернуться в Лондон, он, пользуясь случившимся, просил передать королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева вначале решительно отказала, затем, опасаясь, что герцог, доведенный ее отказом до отчаяния, натворит каких-нибудь безумств, уже решилась принять его, с тем, чтобы упросить немедленно уехать. Но в тот самый вечер, когда она приняла это решение, похитили г-жу Бонасье, которой было поручено отправиться за герцогом и провести его в Лувр. Два дня никто не знал, что с нею, и все приостановилось. Но, лишь только г-жа Бонасье, вырвавшись на свободу, повидалась с де Ла Портом, все снова пришло в движение, и она довела до конца опасное предприятие, которое, не будь она похищена, осуществилось бы тремя днями раньше.
Оставшись один, герцог подошел к зеркалу. Мушкетерское платье очень шло к нему.
Ему было тридцать пять лет, и он недаром слыл самым красивым вельможей и самым изысканным кавалером как во всей Франции, так и в Англии.
Любимец двух королей, обладатель многих миллионов, пользуясь неслыханной властью в стране, которую он по своей прихоти то будоражил, то успокаивал, подчиняясь только своим капризам, Джордж Вилльерс, герцог Бекингэмский, вел сказочное существование, способное даже спустя столетия вызывать удивление потомков.
Уверенный в себе, убежденный, что законы, управляющие другими людьми, не имеют к нему отношения, уповая на свое могущество, он шел прямо к цели, поставленной себе, хотя бы эта цель и была так ослепительна и высока, что всякому другому казалось бы безумием даже помышлять о ней. Все это вместе придало ему решимости искать встреч с прекрасной и недоступной Анной Австрийской и, ослепив ее, пробудить в ней любовь.
Итак, Джордж Вилльерс остановился, как мы уже говорили, перед зеркалом. Поправив свои прекрасные золотистые волосы, несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, преисполненный радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полный гордости и надежды.
В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул – это была королева!
Анне Австрийской было в то время лет двадцать шесть или двадцать семь, и она находилась в полном расцвете своей красоты.
У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия.
Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, слегка выпяченная, как у всех отпрысков австрийского королевского дома, – она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение.
Кожа ее славилась своей нежной и бархатистой мягкостью, руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы ее, белокурые в юности и принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог пожелать разве только несколько менее яркой окраски, а самый требовательный скульптор – больше тонкости в линии носа.
Герцог Бекингэм на мгновение застыл, ослепленный: никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной во время балов, празднеств и увеселений, как сейчас, когда она, в простом платье белого шелка, вошла в комнату в сопровождении доньи Эстефании, единственной из ее испанских прислужниц, не ставшей еще жертвой ревности короля и происков кардинала Ришелье.
Анна Австрийская сделала шаг навстречу герцогу. Бекингэм упал к ее ногам и, раньше чем королева успела помешать ему, поднес край ее платья к своим губам.
– Герцог, вы уже знаете, что не я продиктовала то письмо.
– О да, сударыня, да, ваше величество! – воскликнул герцог. – Я знаю, что был глупцом, безумцем, поверив, что мрамор может ожить, снег излучить тепло. Но что же делать: когда любишь, так легко поверить в ответную любовь! А затем, я совершил это путешествие недаром, если я все же вижу вас.
– Да, – ответила Анна Австрийская, – но вам известно, почему я согласилась увидеться с вами. Беспощадный ко всем моим горестям, вы упорно отказывались покинуть этот город, хотя, оставаясь здесь, вы рискуете жизнью и заставляете меня рисковать моей честью. Я согласилась увидеться с вами, чтобы сказать, что все разделяет нас – морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв. Святотатство – бороться против всего этого, милорд! Я согласилась увидеться с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны больше встречаться.
– Продолжайте, сударыня, продолжайте, королева! – проговорил Бекингэм. – Нежность вашего голоса смягчает жестокость ваших слов… Вы говорите о святотатстве. Но святотатство – разлучать сердца, которые бог создал друг для друга!
– Милорд, – воскликнула королева, – вы забываете: я никогда не говорила, что люблю вас!
– Но вы никогда не говорили мне и того, что не любите меня. И, право же, произнести такие слова – это было бы слишком жестоко со стороны вашего величества. Ибо, скажите мне, где вы найдете такую любовь, как моя, любовь, которую не могли погасить ни разлука, ни время, ни безнадежность? Любовь, готовую удовлетвориться оброненной ленточкой, задумчивым взглядом, нечаянно вырвавшимся словом? Вот уже три года, сударыня, как я впервые увидел вас, и вот уже три года, как я вас так люблю! Хотите, я расскажу, как вы были одеты, когда я впервые увидел вас? Хотите, я подробно опишу даже отделку на вашем платье?.. Я вижу вас как сейчас. Вы сидели на подушках, по испанскому обычаю. На вас было зеленое атласное платье, шитое серебром и золотом, широкие свисающие рукава были приподняты выше локтя, оставляя свободными ваши прекрасные руки, вот эти дивные руки, и скреплены застежками из крупных алмазов. Шею прикрывали кружевные рюши. На голове у вас была маленькая шапочка того же цвета, что и платье, а на шапочке – перо цапли… О да, да, я закрываю глаза – и вижу вас такой, какой вы были тогда! Я открываю их – и вижу вас такой, как сейчас, то есть во сто крат прекраснее!
– Какое безумие! – прошептала Анна Австрийская, у которой не хватило мужества рассердиться на герцога за то, что он так бережно сохранил в своем сердце ее образ. – Какое безумие питать такими воспоминаниями бесполезную страсть!
– Чем же мне жить иначе? Ведь нет у меня ничего, кроме воспоминаний! Они мое счастье, мое сокровище, моя надежда! Каждая встреча с вами – это алмаз, который я прячу в сокровищницу моей души. Сегодняшняя встреча – четвертая драгоценность, оброненная вами и подобранная мной. Ведь за три года, сударыня, я видел вас всего четыре раза: о первой встрече я только что говорил вам, второй раз я видел вас у госпожи де Шеврез, третий раз – в амьенских садах…
– Герцог, – краснея, прошептала королева, – не вспоминайте об этом вечере!
– О нет, напротив: вспомним о нем, сударыня! Это самый счастливый, самый радостный вечер в моей жизни. Помните ли вы, какая была ночь? Воздух был нежен и напоен благоуханиями. На синем небе поблескивали звезды. О, в тот раз, сударыня, мне удалось на короткие мгновения остаться с вами наедине. В тот раз вы готовы были обо всем рассказать мне – об одиночестве вашем и о страданиях вашей души. Вы опирались на мою руку… вот на эту самую. Наклоняясь, я чувствовал, как ваши дивные волосы касаются моего лица, и каждое прикосновение заставляло меня трепетать с ног до головы. Королева, о королева моя! Вы не знаете, какое небесное счастье, какое райское блаженство заключено в таком мгновении!.. Все владения мои, богатство, славу, все дни, которые осталось мне еще прожить, готов я отдать за такое мгновение, за такую ночь! Ибо в ту ночь, сударыня, в ту ночь вы любили меня, клянусь вам!..
– Милорд, возможно… да, очарование местности, прелесть того дивного вечера, действие вашего взгляда, все бесчисленные обстоятельства, сливающиеся подчас вместе, чтобы погубить женщину, объединились вокруг меня в тот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь слабеющей женщине: при первом же слове, которое вы осмелились произнести, при первой вольности, которой я не могла потворствовать, я позвала свою прислужницу.
– О да, это правда. И всякая другая любовь, кроме моей, не выдержала бы такого испытания. Но моя любовь, преодолев его, разгорелась еще сильнее, завладела моим сердцем навеки. Вы думали, что, вернувшись в Париж, спаслись от меня, вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровища, которые мой господин поручил мне охранять. Но какое мне дело до всех сокровищ, до всех королей на всем земном шаре! Не прошло и недели, как я вернулся, сударыня. На этот раз вам не в чем было упрекнуть меня. Я рискнул милостью моего короля, рискнул жизнью, чтобы увидеть вас хоть на одно мгновение, и даже не коснулся вашей руки, и вы простили меня, увидев мое раскаяние и покорность.
– Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я – вы знаете это сами, милорд, – была неповинна. Король, подстрекаемый господином кардиналом, страшно разгневался. Госпожа де Верне была удалена, Пютанж изгнан из Франции, госпожа де Шеврез впала в немилость. Когда же вы пожелали вернуться во Францию в качестве посла, король лично – вспомните, милорд, – король лично воспротивился этому.
– Да, и Франция заплатит войной за отказ своего короля. Я лишен возможности видеть вас, сударыня, – что ж, я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне. Знаете ли вы, что за цель имела экспедиция на остров Рэ и союз с протестантами Ларошели, который я замышляю? Удовольствие увидеть вас. Я не могу надеяться с оружием в руках овладеть Парижем, это я знаю. Но за этой войной последует заключение мира, заключение мира потребует переговоров, вести переговоры будет поручено мне. Тогда уж не посмеют не принять меня, и я вернусь в Париж, и увижу вас хоть на одно мгновение, и буду счастлив. Тысячи людей, правда, за это счастье заплатят своей жизнью. Но мне не будет до этого никакого дела, лишь бы увидеть вас! Все это, быть может, безумие, бред, но скажите, у какой женщины был обожатель более страстный? У какой королевы – более преданный слуга?
– Милорд, милорд, в свое оправдание вы приводите доводы, порочащие вас. Милорд, доказательства любви, о которых вы говорите, – ведь это почти преступление.
– Только потому, что вы не любите меня, сударыня. Если бы вы любили меня, все это представлялось бы вам иным. Но если б вы любили меня… если б вы любили меня, счастье было бы чрезмерным, и я сошел бы с ума! Да, госпожа де Шеврез, о которой вы только что упомянули, госпожа де Шеврез была менее жестока: Голланд любил ее, и она отвечала на его любовь.
– Госпожа де Шеврез не была королевой, – прошептала Анна Австрийская, не в силах устоять перед выражением такого глубокого чувства.
– Значит, вы любили бы меня, вы, сударыня, если б не были королевой? Скажите, любили бы? Осмелюсь ли я поверить, что только сан заставляет вас быть столь непреклонной? Могу ли поверить, что, будь вы госпожой де Шеврез, бедный Бекингэм мог бы лелеять надежду?.. Благодарю за эти сладостные слова, о моя прекрасная королева, тысячу раз благодарю!
– Милорд, милорд, вы не так поняли, не так истолковали мои слова. Я не хотела сказать…
– Молчите, молчите! – проговорил герцог. – Если счастье мне даровала ошибка – не будьте так жестоки, чтобы исправлять ее. Вы сами сказали: меня заманили в ловушку. Возможно, мне это будет стоить жизни… Так странно: у меня в последнее время предчувствие близкой смерти… – И по устам герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка.
– О господи! – воскликнула Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе, лучше всяких слов доказывал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать.
– Я сказал это, сударыня, отнюдь не для того, чтобы испугать вас. О нет! То, что я сказал, просто смешно, и поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения. Но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти поданная мне, искупили заранее все, даже мою гибель.
– Теперь и я признаюсь вам, герцог, – проговорила Анна. – И меня тоже преследует предчувствие, преследуют сны. Мне снилось, что я вижу вас: вы лежали на земле, окровавленный, раненный…
– Раненный в левый бок, ножом? – перебил ее герцог.
– Да, именно так, милорд: в левый бок, ножом. Кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только богу, да и то в молитве.
– Этого довольно, сударыня. Вы любите меня, и это все.
– Я люблю вас? Я?
– Да, вы. Разве бог послал бы вам те же сны, что и мне, если б вы не любили меня? Разве являлись бы нам те же предчувствия, если б наши жизни не связывало сердце? Вы любите меня, моя королева! Будете ли вы оплакивать меня?
– О боже! Боже! – воскликнула Анна Австрийская. – Это больше, чем я в силах вынести. Герцог, молю вас, ради всего святого, оставьте меня, уйдите! Я не знаю, люблю ли я вас или нет, но я твердо знаю, что не нарушу своих клятв. Сжальтесь же надо мной, уезжайте! Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, если я буду думать, что любовь ко мне стала причиной вашей гибели, я не перенесу этого, я сойду с ума! Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас!
– О, как вы прекрасны сейчас! Как я люблю вас! – проговорил Бекингэм.
– Уезжайте! Уезжайте! Молю вас! Позже вы вернетесь. Вернитесь сюда в качестве посла, в качестве министра, вернитесь в сопровождении телохранителей, готовых защитить вас, слуг, обязанных охранять вас… Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь и буду счастлива увидеть вас.
– Неужели правда то, что вы говорите мне?
– Да…
– Тогда… тогда в знак вашего прощения дайте мне что-нибудь, какую-нибудь вещицу, принадлежащую вам, которая служила бы доказательством, что все это не приснилось мне. Какую-нибудь вещицу, которую вы носили и которую я тоже мог бы носить… перстень, цепочку…
– И вы уедете… уедете, если я исполню вашу просьбу?
– Да.
– Немедленно?
– Да.
– Вы покинете Францию? Вернетесь в Англию?
– Да, клянусь вам.
– Подождите тогда, подождите…
Анна Австрийская удалилась к себе и почти тотчас же вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму.
– Возьмите это, милорд, – сказала она. – Возьмите и храните на память обо мне.
Герцог Бекингэм взял ларец и вновь упал к ее ногам.
– Вы обещали мне уехать, – произнесла королева.
– И я сдержу свое слово! Вашу руку, сударыня, вашу руку, и я удалюсь.
Королева Анна протянула руку, закрыв глаза и другой рукой опираясь на Эстефанию, ибо чувствовала, что силы готовы оставить ее.
Бекингэм страстно прильнул губами к этой прекрасной руке.
– Не позднее чем через полгода, сударыня, – проговорил он, поднимаясь, – я вновь увижу вас, хотя бы мне для этого пришлось перевернуть небо и землю!
И, верный данному слову, он выбежал из комнаты.
В коридоре он нашел г-жу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и с тем же успехом вывела его за пределы Лувра.
XIII
Г-Н БОНАСЬЕ
Во всей этой истории, как читатель мог заметить, был один человек, которым, несмотря на тяжелое его положение, никто не интересовался. Человек этот был г-н Бонасье, почтенная жертва интриг политических и любовных, так тесно сплетавшихся между собой в ту эпоху, богатую рыцарскими подвигами и в то же время любовными похождениями.
К счастью – помнит ли или не помнит об этом читатель, – мы обещали не терять его из виду.
Сыщики, арестовавшие его, препроводили его прямым путем в Бастилию и там, трепещущего, провели мимо взвода солдат, заряжавших свои мушкеты.
Затем, оказавшись в полуподземном длинном коридоре, он подвергся со стороны своих провожатых самому жестокому обращению и был осыпан самыми грубыми ругательствами. Сыщики, видя, что имеют дело с человеком недворянского происхождения, обошлись с ним, как с последним нищим.
Спустя полчаса явился писарь, положивший конец его мучениям, но не его беспокойству, дав распоряжение отвести его в комнату для допроса. Обычно арестованных допрашивали в их камерах, но с г-ном Бонасье не считали нужным стесняться.
Двое конвойных, схватив злополучного галантерейщика, заставили его пройти по двору, ввели в коридор, где стояло трое часовых, открыли какую-то дверь и втолкнули его в комнату со сводчатым потолком, где были только стол, стул и где находился комиссар. Комиссар восседал на стуле и что-то писал за столом.
Конвойные подвели арестанта к столу и по знаку комиссара удалились на такое расстояние, чтобы они не могли слышать допроса.
Комиссар, который до сих пор склонял голову над своими бумагами, вдруг поднял глаза, желая проверить, кто стоит перед ним. Вид у комиссара был неприветливый – заостренный нос, желтые выдающиеся скулы, глаза маленькие, но живые и проницательные. В лице было нечто напоминающее одновременно и куницу и лису. Голова на длинной, подвижной шее, вытягивающейся из-за ворота черной судейской мантии, покачивалась, словно голова черепахи, высунувшаяся из панциря.
Комиссар прежде всего осведомился об имени и фамилии г-на Бонасье, о роде занятий и месте его жительства.
Допрашиваемый ответил, что зовут его Жак-Мишель Бонасье, что ему пятьдесят один год, что он бывший владелец галантерейной лавки, ныне оставивший торговлю, и живет на улице Могильщиков, в доме номер одиннадцать.
Комиссар после этого, вместо продолжения допроса, произнес длинную речь об опасности, которая грозит маленькому человеку, осмелившемуся сунуться в политику. Кроме того, он пустился в пространное повествование о могуществе и силе г-на кардинала, этого непревзойденного министра, этого победителя всех прежних министров, являющего блистательный пример для министров будущих, действиям и власти которого никто не может противиться безнаказанно.
По окончании этой части своей речи, вперив ястребиный взгляд в несчастного Бонасье, комиссар предложил ему поразмыслить о своем положении.
Размышления галантерейщика были несложны: он проклинал день и час, когда г-н де Ла Порт вздумал женить его на своей крестнице, и в особенности тот час, когда эта крестница была причислена к бельевой королевы.
Основой характера г-на Бонасье был глубочайший эгоизм в соединении с отчаянной скупостью, приправленной величайшей трусостью. Любовь, испытываемая им к молодой жене, была чувством второстепенным и не могла бороться с врожденными свойствами, только что перечисленными нами.
Бонасье серьезно обдумал то, что ему сказали.
– Но, господин комиссар, – заговорил он с полным хладнокровием, – поверьте, что я более чем кто-либо знаю и ценю все достоинства его несравненного высокопреосвященства, который оказывает нам честь управлять нами.
– Неужели? – недоверчиво спросил комиссар. – Но если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?
– Как или, вернее, за что я нахожусь здесь – вот этого я никак не могу сказать вам, ибо мне это и самому неизвестно. Но уж наверное не за поступки, которые могли бы быть неугодны господину кардиналу.
– Но вы должны были совершить какое-нибудь преступление, раз вас обвиняют в государственной измене.
– В государственной измене? – в ужасе вскричал Бонасье. – В государственной измене?.. Да как же несчастный галантерейщик, который не терпит гугенотов и ненавидит испанцев, может быть обвинен в государственной измене? Вы сами подумайте, господин комиссар! Ведь это же совершенно немыслимо!
– Господин Бонасье… – произнес комиссар, глядя на обвиняемого так, словно его маленькие глазки обладали способностью читать в глубине сердец. – Господин Бонасье, у вас есть жена?
– Да, сударь, – с дрожью ответил галантерейщик, чувствуя, что вот именно сейчас начнутся осложнения. – У меня… у меня была жена.
– Как это – была? Куда же вы ее дели, если она у вас была?
– Ее похитили у меня, сударь.
– Похитили? – переспросил комиссар. – Вот как!
Бонасье по этому «вот как!» понял, что дело его все больше запутывается.
– Итак, ее похитили, – продолжал комиссар. – Ну, а знаете ли вы, кто именно ее похитил?
– Мне кажется, что знаю.
– Кто же это?
– Заметьте, господин комиссар, что я ничего не утверждаю. Я только подозреваю.
– Кого же вы подозреваете? Ну, отвечайте откровенно.
Г-н Бонасье растерялся: следовало ли ему во всем отпираться или все выложить начистоту? Если он станет отрицать все, могут предположить, что он знает слишком много и не смеет в этом признаться. Сознаваясь, он докажет свою добрую волю. Он решил поэтому сказать все.
– Я подозреваю мужчину высокого роста, черноволосого, смуглого, важного на вид, похожего на знатного вельможу. Он несколько раз следовал за нами, как мне показалось, когда я поджидал жену у выхода из Лувра и отводил ее домой.
Комиссар как будто несколько встревожился.
– А имя его? – спросил он.
– О, имени его я не знаю. Но, если бы мне пришлось встретиться с ним, я сразу узнал бы его даже среди тысячи других, ручаюсь вам.
Комиссар нахмурился.
– Вы говорите, что узнали бы его среди тысячи других? – переспросил он.
– Я хотел сказать… – пробормотал Бонасье, заметив, что ответил неудачно. – Я хотел сказать…
– Вы ответили, что узнали бы его, – сказал комиссар. – Хорошо. На сегодня достаточно. Необходимо, раньше чем мы продолжим этот разговор, уведомить кое-кого о том, что вам известен похититель вашей жены.
– Но ведь я не говорил вам, что он мне известен! – в отчаянии воскликнул Бонасье. – Я говорил как раз обратное…
– Уведите заключенного! – приказал комиссар, обращаясь к двум стражникам.
– Куда прикажете его отвести? – спросил писарь.
– В камеру.
– В которую?
– Господи, да в любую! Лишь бы она покрепче запиралась, – произнес комиссар безразличным тоном, вселившим ужас в несчастного Бонасье.
«О боже, боже! – думал он. – Беда обрушилась на мою голову! Жена, наверное, совершила какое-нибудь ужасное преступление. Меня считают ее сообщником и покарают вместе с нею. Она, наверное, призналась, сказала, что посвящала меня во все. Женщины ведь такие слабые создания!.. В камеру, в первую попавшуюся! Ну конечно! Ночь коротка… А завтра – колесо, виселица… О боже, боже! Сжалься надо мною!»
Не обращая ни малейшего внимания на жалобные сетования г-на Бонасье, сетования, к которым они, впрочем, давно должны были привыкнуть, караульные подхватили арестанта с двух сторон под руки и увели в камеру. Комиссар поспешно принялся строчить какое-то письмо. Писарь в ожидании стоял возле него.
Бонасье в эту ночь не сомкнул глаз – не потому, что камера его была особенно неудобна, но страшная тревога не позволяла ему уснуть. Всю ночь он просидел на скамеечке, вздрагивая при малейшем звуке. И когда первые лучи солнца скользнули сквозь решетку окна, ему показалось, что само солнце приняло траурный оттенок.
Вдруг он услышал, как отодвигается засов, и даже подскочил от ужаса. Он решил, что за ним пришли, чтобы отвести на эшафот.
Поэтому, когда в дверях вместо палача появился вчерашний комиссар со своим писарем, он готов был броситься им на шею.
– Ваше дело, дорогой мой, крайне запуталось со вчерашнего дня, – сказал комиссар. – И я советую вам сказать правду. Только ваше чистосердечное раскаяние может смягчить гнев кардинала.
– Но я готов все сказать! – воскликнул Бонасье. – По крайней мере, все, что я знаю. Прошу вас, спрашивайте меня.
– Прежде всего: где находится ваша жена?
– Ведь я говорил вам, что она похищена.
– Да, но вчера после пяти часов дня она благодаря вашей помощи сбежала.
– Моя жена сбежала? – воскликнул Бонасье. – Несчастная! Но, сударь, если она сбежала, то не по моей вине, клянусь вам!
– Для чего вы днем заходили к вашему жильцу, господину д'Артаньяну, с которым вы о чем-то долго совещались?
– Да, это правда, господин комиссар. Признаюсь в этом и признаюсь, что это была ошибка. Я действительно был у господина д'Артаньяна.
– С какой целью вы заходили к нему?
– С целью попросить его разыскать мою жену. Я полагал, что имею право требовать ее назад. По-видимому, я ошибся и очень прошу вас простить меня.
– Что же вам ответил господин д'Артаньян?
– Господин д'Артаньян обещал помочь мне. Но я вскоре убедился, что он предает меня.
– Вы стараетесь ввести суд в заблуждение! Д'Артаньян сговорился с вами, и в силу этого сговора он разогнал полицейских, которые арестовали вашу жену, и скрыл ее от преследования.
– Господин д'Артаньян похитил мою жену? Да что вы мне тут рассказываете?
– К счастью, господин д'Артаньян в наших руках, и вам будет устроена с ним очная ставка.
– Ну что ж, я, право, этому рад! – воскликнул г-н Бонасье. – Хотелось бы увидеть хоть одно знакомое лицо…
– Введите господина д'Артаньяна! – приказал комиссар, обращаясь к караульным.
Караульные ввели Атоса.
– Господин д'Артаньян, – произнес комиссар, обращаясь к Атосу, – расскажите, что произошло между вами и этим господином.
– Но это вовсе не господин д'Артаньян! – вскричал Бонасье.
– Как – не господин д'Артаньян? – в свою очередь закричал комиссар.
– Ну конечно, нет! – сказал Бонасье.
– Как же зовут этого господина? – спросил комиссар.
– Не могу вам сказать: я с ним не знаком.
– Вы с ним не знакомы?
– Нет.
– Вы никогда его не видели?
– Видал, но не знаю, как его зовут.
– Ваше имя? – спросил комиссар.
– Атос, – ответил мушкетер.
– Но ведь это не человеческое имя, это название какой-нибудь горы! – воскликнул несчастный комиссар, начинавший терять голову.
– Это мое имя, – спокойно сказал Атос.
– Но вы сказали, что вас зовут д'Артаньян.
– Я это говорил?
– Да, вы.
– Разрешите! Меня спросили: «Вы господин д'Артаньян?» – на что я ответил: «Вы так полагаете?» Стражники закричали, что они в этом уверены. Я не стал спорить с ними. Кроме того, ведь я мог и ошибиться.
– Сударь, вы оскорбляете достоинство суда.
– Ни в какой мере, – спокойно сказал Атос.
– Вы господин д'Артаньян!
– Вот видите, вы снова это утверждаете.
– Но, господин комиссар, – вскричал Бонасье, – уверяю вас, тут не может быть никакого сомнения! Господин д'Артаньян – мой жилец, и, следовательно, хоть он и не платит мне за квартиру, или именно поэтому, я-то должен его знать. Господин д'Артаньян – молодой человек лет девятнадцати-двадцати, не более, а этому господину по меньшей мере тридцать. Господин д'Артаньян состоит в гвардейской роте господина Дезэссара, а этот господин – мушкетер из роты господина де Тревиля. Поглядите на его одежду, господин комиссар, поглядите на одежду!
– Правильно! – пробормотал комиссар. – Это, черт возьми, правильно!
В эту минуту распахнулась дверь, и гонец, которого ввел один из надзирателей Бастилии, подал комиссару какое-то письмо.
– Ах, негодная! – воскликнул комиссар.
– Как? Что вы сказали? О ком вы говорите? Не о моей жене, надеюсь?
– Нет, именно о ней. Хороши ваши дела, нечего сказать!
– Что же это такое? – воскликнул галантерейщик в полном отчаянии. – Будьте добры объяснить мне, господин комиссар, каким образом мое дело может ухудшиться от того, что делает моя жена в то время, как я сижу в тюрьме?
– Потому что все совершаемое вашей женой – только продолжение задуманного вами совместно плана! Чудовищного плана!
– Клянусь вам, господин комиссар, что вы глубоко заблуждаетесь, что я и понятия не имею о том, что намеревалась совершить моя жена, что я не имею ни малейшего отношения к тому, что она сделала, и, если она наделала глупостей, я отрекаюсь от нее, отказываюсь, проклинаю ее!
– Вот что, господин комиссар, – сказал вдруг Атос. – Если я вам больше не нужен, прикажите отвести меня куда-нибудь. Он порядочно надоел мне, ваш господин Бонасье.
– Отведите арестованных в их камеры, – приказал комиссар, одним и тем же движением указывая на Атоса и Бонасье, – и пусть их охраняют как можно строже.
– Если вы имеете претензии к господину д'Артаньяну, – с обычным своим спокойствием сказал Атос, – я не совсем понимаю, в какой мере я могу заменить его.
– Делайте, как вам приказано! – закричал комиссар. – И никаких сношений с внешним миром! Слышите!
Атос, пожав плечами, последовал за караульными, а Бонасье всю дорогу так плакал и стонал, что мог бы разжалобить тигра.
Галантерейщика отвели в ту самую камеру, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. И весь день Бонасье плакал, как настоящий галантерейщик: да ведь, по его же собственным словам, в нем не было и тени воинского духа.
Вечером, около девяти часов, уже собираясь лечь спать, он услышал шаги в коридоре. Шаги приближались к его камере; дверь открылась, и вошли караульные солдаты.
– Следуйте за мной, – произнес полицейский чиновник, вошедший вместе с солдатами.
– Следовать за вами? – воскликнул Бонасье. – Следовать за вами в такой час? Куда это, господи помилуй!








