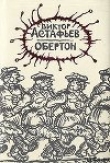Текст книги "Очень хочется жить"
Автор книги: Александр Андреев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Часть вторая
1
Мы вступили в осинник, где стояли недавно наши тылы. Здесь все было разбито и разметано – пусто. Чертыханов, зайдя за перевернутую повозку, поспешно снял с себя гимнастерку и штаны, выжал их, затем скрылся куда-то и вскоре вернулся с тремя парами сапог – снял с убитых.
– Выбирайте, кому какой калибр по размеру, – деловито сказал он, бросая перед нами сапоги. – Я пойду похороню погибших. А вы пока одежу выжмите. Не беспокойтесь, немцы, если, переправятся, сюда не пойдут, они любят по гладенькой дорожке катить… – Он отыскал возле телеги лопатку и ушел.
Мы остались вдвоем со Щукиным – командиры без войск. Горькая., отчаянная вина легла на душу. Было тяжко оттого, что потерял всю роту, а сам остался цел и невредим. И в то же время в груди настойчиво, неумолчно, почти ликующе запела знакомая струна: жив, здоров, уцелел!
– Ну, что голову повесил? – сказал Щукин, выжимая гимнастерку. – Устал? Не ко времени. Завинчивай гайки до предела, пока сердце выдерживает. Иначе конец. Что будем делать?
Я промолчал. Что можно сделать троим почти безоружным людям? Щукин уже надел гимнастерку и примерял сапоги.
– Хороши, точно на меня сшиты. Эх, отходили чьи-то ножки по стежке-дорожке!.. – Он пододвинул мне вторую пару. – Надевай, эти, кажется, побольше… – Мне не хотелось двигаться, только бы забыться, хоть на минуточку!
Появился Прокофий Чертыханов, по-прежнему расторопный, неунывающий и до бесстыдства оживленный.
– Захоронил, товарищ лейтенант, – доложил он бодрым голосом. – Всех четверых уложил, родименьких, в одну постельку: спите, товарищи, на вечные времена, – Он присел на корточки возле меня. – Не по себе, товарищ лейтенант? Такой бой слона укатает!.. Ничего, сейчас я вас вылечу… – Прокофий развязал свою плащ-палатку. Все было запаковано с умом: два немецких автомата с запасными магазинами, краюха хлеба, несколько пакетов для первой помощи, ботинки с обмотками, бинокль и две фляги. Отвинтив у одной пробку, он понюхал, крякнул от предвкушения, – Не лекарство – поэма, как говорил мой покойный друг Суздальцев. Хлебните-ка…
Это был спирт. После двух – трех глотков сразу зажгло, засосало внутри; захотелось есть. Я потянулся было за хлебом, но Чертыханов поспешно спрятал его.
– Вот отойдем немного от дороги, поужинаем, – пообещал он и, словно только что вспомнив, сообщил как бы между прочим: – Когда я ребятам рыл могилу, прошел мимо старший лейтенант, остановился возле меня. «Роешь?» – говорит. «Рою». – «Молодец, – говорит, – хорошо роешь. Потом мне выроешь поглубже, чтобы я топота этих гадов не слышал». У меня даже лопатка выпала из рук. «Что вы, – говорю, – живому-то!» Гляжу, не то он пьяный, не то очумел, – глаза ничего не видят… «Не здесь, – говорит, – так в другом месте выкопаешь, – все равно нам живыми отсюда не выбраться. Окружены. Помечемся немного, как зафлаженные звери, – и конец, гибели, – говорит, – не миновать». И ушел.
Я хотел было встать, но, услыхав страшное слово «окружение», опять обессиленно сел, ужасаясь.
– Выходит, все бои, все жертвы впустую, – проговорил я. – Пока мы отбивались от наседавших немцев здесь, их пропустили в другом месте: фланги замкнули кольцо! Не лучше ли было отойти без боя?
– Нет, – возразил Щукин, – не лучше. Все подожженные нами танки, убитые солдаты, – а их мы положили намного больше, чем своих, – дальше не пойдут. Урон, который причинила им наша рота, хоть на шаг да удлинит им путь на Москву. А сколько таких рот, сколько шагов! Полк наш разбит, роты не стало. Ты остался один. Теперь твой командир – твоя совесть, твоя честь, твоя ненависть к врагу и твоя любовь к матери-Родине. Их приказ – закон. Что они прикажут, то и выполняй до последнего удара сердца. – Глаза его глубоко запали, скулы туго обтянулись сухой, обожженной кожей, уголки губ скорбно опустились. – А зря ты, Прокофий, не вырыл могилу тому старшему лейтенанту: меньше было бы посеяно страхов и паники на земле. – Щукин встал. – Где ты там облюбовал место для привала, Чертыхан? Веди.
Солнце, склоняясь, коснулось холмов за рекой и, как бы проткнутое острыми пиками елей, огненной лавой хлынуло на землю, осины побагровели и казались окровавленными. Листья их беспокойно трепетали, рассыпая красные брызги света, хотя было тихо и глухо кругом. И что-то до глубокой, неминучей тоски гнетущее слышалось в этом неотвязном шелесте. Скорее бы кончился сырой осинник с его гнилым, запахом!
– Мы уже у цели, – известил ефрейтор, двигаясь впереди нас своим неустанным, спорым шагом. – Слышите?
Сквозь монотонный шум осин невнятно доносилось глухое, жестяное громыханье. Прокофий вывел нас на поляну с желтоватой, жесткой травой на высохших кочках. На ней, бренча консервными банками, привязанными за шею, паслись две коровы – рыжая и белая в черных заплатах. Они посмотрели на нас печальными, укоряющими глазами, пестрая жалобно замычала, точно простонала: им, брошенным или забытым хозяевами, должно быть, тяжело и больно было носить раздутые, полные молока вымена.
Чертыханов приблизился к ветхому, сплетенному из сухих прутьев шалашику, какие на скорую руку ставят по весне охотники. Он бросил в шалашик на почерневшую солому плащ-палатку, поставил автоматы и взял котелок.
– Располагайтесь, товарищи. Сейчас будем пить молочко…
Он отломил кусок хлеба, приблизился к пестрой корове, сытой и молодой, и угостил ее мякишем. Затем, наклонившись, ощупал ей вымя и вернулся к шалашику, озабоченный. Корова опять жалобно застонала.
– Вымя бы помыть… Воды нет… – Постоял немного, нахмурясь, соображая. – Протру спиртом. Вот будет дезинфекция! – Схватив флягу, он опять подбежал к корове, присел на корточки, и локоть его задвигался. Корова, вскинув голову, с изумлением поглядела на странную доярку, с беспокойством переступила ногами и хлестнула Чертыханова хвостом по голове.
– Стой, Пеструшка! – предупредил Прокофий. – Сейчас я произведу такой массаж, что тебе от роду не снилось. Потом подою, как по нотам, дурочка, тебе будет сладко, и нам сытно…
Но Пеструшка, вдруг взревев дурным голосом, со всей силой взбрыкнула задом, ударила Чертыханова так, что он откатился от нее кувырком, и что есть мочи понеслась по поляне, точно колокол, раскачивая вымя из стороны в сторону, – очевидно, спирт пламенем охватил ей вымя, и она, обезумев от боли, ринулась в осинник, ломая сучья. Вторая корова тронулась было следом, но остановилась: тянуло вымя. Чертыханов, вскочив на колени, ошалело глядел вслед взбесившейся Пеструшке, держа в руках флягу.
Щукин рассмеялся.
– Вот тебе и молочко от бешеной коровки! Отдай флягу…
Чертыханов понял свою ошибку. Ко второй корове, настороженно и сердито уставившей на него острые рога, он подкрадывался с мягкостью и осторожностью кота, с воркованьем голубя.
– Буренушка-матушка, кормилица наша, поилица! – ласково приговаривал он, тихо приближаясь к корове. – Я ведь не волк, не медведь – не съем. Я только подою тебя… Мы только что из боя вышли, как по нотам… Живы остались, мы хотим кушать, молочка хотим… Дай нам молочка, Буренушка!..
Корова, еще ниже нагнув рогатую морду, угрожающе двинулась на Прокофия. Он отскочил, рассерженно вскрикнув:
– Ах, зараза! Сейчас я тебя!..
Торопливо отстегнув ремень, он одним прыжком очутился возле Буренки, накинул ремень ей на рога. Корова взмахнула головой и как вкопанная замерла, покорная и податливая: где уж ей, мирной, доброй, отяжелевшей, полной даров, тягаться с таким проворным и настырным парнем; делай, что хочешь…
– Вот так-то лучше, неразумная скотина, – заговорил Чертыханов, поглаживая ее по шее; потом он, ласкательно произнося что-то, присел у вымени. Поплевав на ладони, он вытер их о грудь гимнастерки и начал доить. Тонкие струйки молока с нежнейшим звоном ударились о дно котелка. Солнце село за холмами, и на поляне сейчас же сгустились сумерки. На траву легла обильная роса; в сыром воздухе, приятный и аппетитный, разнесся запах парного молока. Сразу же мучительно и тоскливо заныло в груди; опять вспомнилась мать: вот так же звенело каждый вечер ведро во дворе, когда корову пригоняли из стада; я всегда ждал мать, сидя на заднем крылечке; она проходила мимо с ведром, полным молока, мягко белевшим в сумраке; за ней, мяукая, кралась кошка; я тогда не любил парного молока, оно было теплое, густое, пахнущее сытым коровьим дыханием. Теперь же у меня все пересохло во рту, желудок жег голод…
Чертыханов, осторожно ступая, принес котелок, до краев налитый молоком. Поставил на землю у моих ног.
– Ох, люблю я молоко, товарищи! – заговорил он, разрезая краюху финским ножом, вынутым из ножен на поясном ремне. – Лучше других напитков люблю. Коза меня пристрастила к молоку. Не помню, как я сосал материну грудь, а как сосал козье вымя, помню. Вышло это так. Ушла мать на огород, оставила меня с козой в сенях. Подошла она ко мне, коза, – я в то время еще не наладил дело с ходьбой, ползал, увидел две титьки перед собой, не сплоховал, да и цап. Насосался и отвалился. И козе это по сердцу пришлось, – сама стала подходить в определенные часы и минуты… Растолстел я так, что мать подымала меня, как двухпудовую гирю. А на козу жаловалась: что это она скупа стала на удой? И какое я только молоко не пробовал! И овечье, и кобылье, жиденькое, синеватое, кисло-сладкое, очень, говорят, пользительное… А однажды у нас собака окуталась, шесть штук принесла, а они, кутята, все померзли. Собака мучилась, скулила… Я взял да и подоил ее для облегчения. Хотел было попробовать молоко на вкус, но раздумал. Забоялся: еще сбесишься, залаешь кобелем. Был у нас в деревне один тронутый, все лаял…
– Может быть, ты помолчишь? – сдержанно сказал Щукин. – Дай хоть поесть…
Котелок ходил по кругу, отхлебывали по очереди. Никогда еще молоко не казалось мне таким сладким и сытным.
– Вы ложитесь, отдыхайте, а я пойду надою еще, на утро… – сказал Прокофий, взяв у меня пустой котелок. – Спите спокойно, немцы сюда не пойдут.
Мы лежали на плащ-палатке, накормленные заботливым и смекалистым солдатом. Чертыханову явно нравилось опекать и покровительствовать нам. Я тоже все сильнее привязывался к нему, он всегда был под рукой, ко всему готовый, никогда не теряющий здравого рассудка…
Стало совсем темно. На блеклом небе несмело проступили звезды, мелкие и колючие, пугливо мигали на багровый разлив пожарища, захлестнувший горизонт, розовели, словно накаляясь, и, сорвавшись, падали в пламя, сгорали. Предсмертным криком огласила поляну какая-то ночная птица, и опять все смолкло. Только по-прежнему беспокойно шумел осинник, да оттуда, из жуткой красноты, доносились удары молотков и топоров, как бы напоминая о приближении рокового часа: немцы торопились навести переправы. Я уже не слышал, как они, починив мост, катили по большаку на восток… Сколько еще дней и ночей предстоит провести так же, а может быть, хуже, опасней! Надо сохранять силы, слабому и безвольному тут не выдержать…
2
Я проснулся от студеной сырости, от надоедливого и упорного стрекотания сорок. Они перелетали с ветки на ветку и кричали, раскатисто грассируя. Чертыханов сказал вчера, что сороки – птицы с предательскими наклонностями: где они беспокойно и непоседливо вьются и неумолчно, противно скрежещут, значит, там кто-то затаился, – иди и вылавливай беглецов. Отныне они всюду станут сопровождать нас, трещать над нашими головами, накликая беду, наводя наблюдательного человека на наш след. Я возненавидел сорок! Схватив комок глины, я швырнул в них. Они, нещадно бранясь, отлетели на соседнее дерево, но тотчас вернулись, блестя белыми боками и помахивая длинными ленивыми хвостами, подозрительно, с наглым любопытством оглядывая нас.
Тело, налитое сыростью, ломило от неудобного и жесткого лежания на земле, суставы неприятно хрустели, голова казалась чугунной, дурманной. Уже рассветало. Листья осин, искупанные в тумане, сочно лоснились. Я провел руками по росистой траве и прохладные, влажные ладони приложил к лицу, стирая остатки сна. Щукин и Чертыханов еще спали, прислонившись друг к другу спинами, подтянув колени к самому подбородку, – укрыть их было нечем. Возле шалашика стоял котелок с молоком, накрытый зеленым лопухом, – Пеструшка и Буренка, судя по глухому дребезжанию колокольцев, паслись где-то близко.
По гулу, идущему от большака, я догадался, что немцы, наведя за ночь переправы, двигались на Смоленск. Мне жаль было будить своих спутников: дорога предстояла трудная, и они должны хорошо отдохнуть. Потянуло взглянуть на вражескую колонну… Неслышными шагами ступая по кочкам, я осторожно пробрался через осинник. Листья, стряхивая капли, осыпали словно дождем. Под ногами, среди травянистых кочек, заманчиво рдели бело-розовые крапины брусники. Вскоре высокие деревья оборвались, дальше стлался мелкий кустарник с красноватыми, чахлыми листочками. Я пополз. Залег в тридцати метрах от придорожной канавы.
В пыли, в грохоте, с демонстративным вызовом, презирающим преграды и опасности, катилась бронированная фашистская рать, подавившая своей тяжестью многие народы Европы. Сотрясая землю, шли тяжелые танки с высокими башнями и желтыми крестами по борту. Мчались грузовики с пехотой; солдаты сидели в кузовах аккуратными рядами – два ряда спинами друг к другу, два ряда лицом к лицу, как на параде. Неслись, обгоняя грузовики, легкие офицерские, штабные вездеходы. Тягачи и бронетранспортеры везли пушки и минометы. Летели, сигналя, санитарные автомобили. На фоне стремительного движения машин кони-тяжеловозы с мощными шеями, широкими, развалистыми крупами, сильными, мохнатыми у копыт ногами и куцыми хвостами, казались медлительными; они тащили крепко сбитые линейки и крытые фургоны. Шли нестройными группами солдаты в серо-зеленых формах с закатанными по локоть рукавами, с воротниками нараспашку, без касок. Явственно слышалась чужая, опаляющая слух гортанная речь. На одной из линеек был включен радиоприемник. Красивая, мягкая танцевальная музыка оглашала унылую, скорбно примолкшую местность, окропленную жиденькими лучами восходящего солнца. Солдаты оживленно смеялись, подпевали и пританцовывали на ходу – не война, а раздольная, веселая прогулка!.. Весь этот нескончаемый и неудержимый железный поток алчно и нетерпеливо стремился, жадно пожирая километры, в глубь моей земли, к сердцу Родины – к моему сердцу.
На минуту движение прервалось, пыль осела. Я увидел на том краю дороги мальчика лет шести или семи. Он стоял на самой кромочке у канавы в длинном, до пят, должно быть, отцовском поношенном пиджаке. Руки его были подняты вверх. Один рукав сполз к плечу, оголив худенькую белую ручонку, второй, закрыв кисть, тряпкой свисал книзу. Мальчик сдавался в плен на милость победителей. Неподалеку от него, в кювете, неподвижно лежала женщина в пестренькой полинялой кофте, очевидно, его мать, раненая, обессиленная или убитая. Горькая свинцовая спазма намертво сдавила мне горло; Глухой, отчаянный крик вырвался из груди. Я поднялся и, не пригибаясь, пошел от дороги прочь.
Я плакал. Никогда не изгладится из моей памяти этот мальчик в отцовском пиджаке, с худеньким личиком, отмеченным недетской суровостью и скорбью, молящий о пощаде и помощи. Он будет стоять перед глазами как живой укор, и в минуту усталости заставит собрать последние силы и встать, чтобы насмерть биться с врагом.
Над шалашиком по-прежнему звучала неумолчная и скрипучая сорочья трескотня. Щукин и Чертыханов давно проснулись, позавтракали, оставив мне мою долю молока, и ждали, недоуменно гадая, куда я мог исчезнуть, не предупредив их.
– Да вот он! – обрадованно воскликнул Прокофий, когда я из осинника вышел на поляну. – Явился, как по нотам! Я говорил вам, товарищ политрук… А вы подумали… – Он не сказал того, что думал политрук, осекся, смущенный, сел и стал укладывать и увязывать вещи в плащ-палатку.
– Что ты подумал? – спросил я Щукина, садясь с ним рядом. Политрук чистил носовым платком пистолет.
– Что я подумал?.. – Щукин, прищурив левый глаз, смотрел в канал ствола; он не пытался увиливать или хитрить. – Знаешь, Митя, сейчас такое время, когда человек вдруг так повернется, что только ахнешь… Помнишь Смышляева?..
– Нет, не убегу, – сказал я спокойно, почти безразлично, давая этим понять, что об этом не только говорить, но и думать нелепо. – Некуда бежать, дружище, кругом фашисты…
– А что я вам говорил! – опять вмешался Прокофий; он был настолько безмятежно спокоен, его лицо с облупленным носом так сияло, словно находился он у себя на калужской земле, в беззаботном путешествии, а не затерянный во вражеском обруче где-то на границе Белоруссии и Смоленщины. – У меня, товарищ лейтенант, собачий нюх на людей. Я еще издали чую, чем от кого тянет. От одного барской заносчивостью попахивает: «Как стоишь перед командиром? Устава не знаешь! Я тебя научу!..» Война идет, а он собирается меня учить, как стоять!.. От другого хвастовством разит за три версты: «Я, да у меня!» – одним махом семерых убивахом. От третьего трусостью воняет. Не просто трусость, – с кем такого греха не случается… – а трусость с расчетом: другого послать, а самому за его спину спрятаться… Вы, товарищ лейтенант, не такой…
– Помолчи, Прокофий, – попросил его Щукин тихо.
– Слушаюсь, – с готовностью отозвался Чертыханов, ничуть не обидевшись, и занялся своим делом. Щукин, видимо, был обеспокоен моим удрученным, подавленным видом.
– Где ты был?
Я сказал, что ходил к дороге, наблюдал за движением вражеской колонны и видел мальчика рядом с лежащей матерью. Волнение не давало мне говорить.
– Понимаешь, какая судьба ожидает этого мальчика? Рабская судьба. Они с корнем вырвут из него достоинство человека. На голой спине плетью напишут рабский его удел. А ты говоришь – убежать!.. Разве позволит мне этот мальчик убежать? Он всю жизнь проклинать меня будет за то, что я позволил фашистам сделать из него раба!..
Щукин посмотрел на меня внимательными синими глазами, улыбнулся сдержанно и криво, одним уголком губ – трещина мешала улыбнуться широко.
– Извини, что я так подумал, – проговорил он и, скупо выказывая товарищескую привязанность, подал мне котелок. – Ты слишком расточительно расходуешь свои духовные силы. Успокойся. Выпей молока. И договоримся раз и навсегда: ни шагу самовольно. А то кто знает, ушел ты на разведку, или тебя выкрали и убили, и где тебя искать… – Он помолчал, прислушиваясь к слитному шуму проходящей по большаку вражеской колонны. – Думаю, идти нам придется ночами. Сейчас немцы текут рекой, потом они разольются вширь, затопят деревни…
– Товарищ политрук, разрешите сказать, – обратился Чертыханов к Щукину; тот кивнул. – Вы решайте ваши задачи, как идти, куда идти… А меня произведите в должность начпрода… Я буду снабжать вас, как по нотам. Рацион, конечно, летний, легкий и пользительный: морковь в сыром виде, репа, огурцы, если подоспеют, брюква, простокваша…
– Да, щедрый начпрод! – оценил Щукин с беззлобной иронией. – Твой рацион сразит нас вернее фашистской пули – быстро ноги протянешь.
Прокофий рассмеялся, нос утонул между пухлых щек.
– Не думайте, товарищ политрук, что я от барашка откажусь или курочку не сцапаю, ошибаетесь. Я на кур, как гипнотизер, действую: как гляну строго, так она покрутится, покрутится на месте, бедняжка, и сядет, раскрылится и клюв раскроет – бери ее голыми руками, ощипывай, как по нотам…
– Жаль только, что не жареные, – заметил Щукин.
– Верно, жаль! – опять рассмеялся Чертыханов. – Сколько я у колхозников кур перевел!.. Страсть! Едем с трактористами в поле – я одно время в прицепщиках состоял, – завидим кур, которые сломя голову разлетаются от машины, трактористы ко мне: «Ну-ка, Проня, у тебя глаз вроде снайперской винтовки, положи парочку». Я положу – и, смотришь, обед как в ресторане.
Я поражался, прислушиваясь к Щукину и Чертыханову: рядом, в двух километрах, движется сама смерть, а они ведут беседу о каких-то курах, трактористах, начпроде… Я встал.
– Отдохнули и хватит.
– Да, пора в дорогу, ребята, – отозвался Щукин и тоже встал, расческой с обломанными зубьями причесал волосы на пробор, подтянул ремень; проверил автомат, гранаты, пистолет. Я еще раз взглянул на карту: зеленые разводы, обозначавшие лесные массивы, чаще всего прерывались у деревень, – тут придется или пробираться по открытой местности, или, огибая поля и населенные пункты, двигаться опушкой леса. Это дальше, но безопасней.
– Как решил идти? – спросил Щукин, прислоняясь плечом к моему плечу и заглядывая в карту.
– На месте легче решать, куда и как идти, – ответил я. – Обстоятельства подскажут.
3
Мы тронулись в путь, держась по левую сторону от немецкого потока. Лесные заросли, где совсем редкие, где густые, скрывали нас от постороннего взгляда. Сумеречная прохлада сохранялась здесь долго, пока отвесные лучи подкатившего к зениту солнца не пробили жидкой листвы.
Мы обогнули три деревни, хотя в них, по всей видимости, еще не появлялось ни одного немца. Метрах в трехстах от одной из них задержались. Над трубой избенки трепетал едва уловимый, тающий в зное дымок. Сразу захотелось есть, а особенно пить: почудилась даже дрожащая в ведре вода, поднятая из глубокого колодца, синеватая от чистоты, обжигающая зубы ледяным огнем, – во рту было вязко от полынной горечи. Но заходить не решились: опасно…
– Давайте переоденемся в гражданское, – предложил Чертыханов таким тоном, словно сделал великое открытие, – и будем щеголять… И скрываться легче и в селении приземлиться способнее – сойдем за местных жителей.
Щукин вопросительно взглянул на меня, скрывая в синих усталых глазах насмешку…
– То есть как это в гражданское? – переспросил я ефрейтора.
Тот поглядел на меня, как на младенца, удивленно пожал плечами.
– Обыкновенно. Займем у колхозников штаны и пиджачки, после мобилизованных остались небось. А форму в сумку, а то так закопаем, вроде как похороним…
– Похороним?! – Он уловил в моем голосе угрозу и тихо отступил за спину Щукина. – Но ведь ты военный, ты присягу давал, что никогда не изменишь воинскому долгу…
– Долг от одежды не зависит, товарищ лейтенант, – не очень смело возразил Чертыханов. – Можно ходить в лаковых сапогах и долга не признавать, а можно и в лаптях топать, а за долг горло грызть…
– Расстаться с формой – значит наполовину капитулировать перед, врагом. – Я повысил голос. – И чтоб мыслей таких не держал в голове! Слышишь!
Прокофий вдруг обиделся, щеки и лоб побагровели, подбородок задрожал.
– Мне это зазорно слышать от вас такое обо мне мнение. Я, товарищ лейтенант, нагишом останусь, а не капитулирую. Это уж будьте покойны. Подтвердите, товарищ политрук.
– Подтверждаю. – Щукин внимательно присматривался к деревне, – намертво легла на ее улицы тишина.
– Вот видите! – вскрикнул ободренный поддержкой Чертыханов, заглядывая мне в лицо. – Товарищ политрук меня знает. Не нравится гражданский пиджачок, что я сморозил, так шут с ним! Буду ходить, в чем прикажете, хоть в поповской ризе… – Я улыбнулся; Прокофий тотчас просиял, рука несмело дернулась, задержалась, но потом лопатистая ладонь все-таки полетела за ухо. – Разрешите, товарищ лейтенант, я подкрадусь к избенке? Разнюхаю, чем там можно воспользоваться бездомному путнику… Товарищ политрук!
Мы рискнули отпустить: хотелось побыть среди людей, поесть и отдохнуть. Чертыханов отделился от нас, пересек заросшую сорной травой пашню, крупно зашагал по борозде между картофельных грядок, нагнувшись подлез под жерди и скрылся на огороде.
– Пока морковь и репу не обшарит, не вернется, – заметил Щукин, улыбаясь. Он привалился к молоденькой, слезящейся светлыми потеками смолы елке, приклеился к ней спиной и закрыл глаза. Усталость и озабоченность отметили его лицо страдальческими морщинами, отодвинули глаза вглубь; подбородок, заросший рыжеватой щетиной, выступил и заострился.
– Долго ли, нет ли придется нам тащиться в немецком обозе? – вслух подумал я.
Щукин не пошевелился, не открыл глаз, обронил после долгой паузы:
– Пока пойдем… Там видно будет…
Я кинул нетерпеливый взгляд в сторону деревни. Чертыханов уже стоял возле городьбы и махал нам обеими руками, приглашая к себе. Тронув Щукина, я встал, обрадованный, но, пройдя полпути к избе, вдруг затосковал: что-то подсказывало вернуться.
– Иди, иди, – подтолкнул меня Щукин, и я, пересилив себя, побрел по картофельной борозде, нехотя, с тяжелым чувством. Прокофий подал мне руку, когда я перелезал через жерди изгороди.
– Все в порядке, товарищ лейтенант, – картошка на столе, разварная, рассыпчатая. Фашистским духом не пахнет. Поедим, подождем, когда день остынет…
В тесной избе с крохотными оконцами было полутемно, тесно и действительно прохладно, как в шалаше На столе с неровными, выскобленными досками исходил паром чугунок с картошкой, на тарелке несколько ломтей хлеба и кислое молоко в крынке. Женщина молча смахнула с лавки крошки.
– Закусите на дорожку, – пригласила она и отодвинулась к подтопку, смотрела на нас укоряюще и с жалостью. – Сколько вас идет… – Она сокрушенно покачала головой. – И ночью и днем. Картошку сварила, знала, что придете, не вы, так другие… Как же это вы, родненькие, сплоховали?.. Неужели вы хуже их? Все такие молодые, здоровые…
Мы со Щукиным сделали вид, что не расслышали ее вопроса – стояли над ведром и по очереди пили студеную воду из железного ковшика. Чертыханов не удержался, чтобы не разъяснить ей:
– Это, мать, стратегия такая, военная хитрость: мы сейчас их все заманиваем, заманиваем – отступаем…
Женщина улыбнулась с горечью:
– Эх ты, заманивальщик… Ты откуда будешь?
– Калужский. – Он уже сидел за столом и очищал картофелину, перекидывая ее с ладони на ладонь.
– Вот и заманивал бы ты их к себе в Калугу…
– Погодите, мамаша, не торопитесь, заманим и в Калугу. – Он засмеялся над своей глупой и нелепой остротой. Хозяйка опять улыбнулась.
– Эх, голова садовая! Видно, горе-то мимо тебя проходит, не задевает…
– Нет, мамаша, – возразил Прокофий, отхлебнув из кружки кислого холодного молока. – Мы мимо него проходим. Оно, горе-то по большаку прет на всех парах, а мы его огибаем леском, глухими деревушками, задворками… Садитесь, товарищ лейтенант, а то от обеда останутся рожки да ножки.
Есть не хотелось, да еще горячей картошки. Но к столу мы сели. Чертыханов налил мне в кружку кислого молока.
– Чесночку хотите? – Он отломил от большой луковицы несколько долек. – Чеснок – «смерть микробам», от одного духа любая зараза ляжет замертво.
– Чесночку попробуем, – согласился Щукин и стал растирать дольку на корке черного хлеба. – Свидание нам не предстоит…
– Да, – подхватил Прокофий, – однажды я, товарищ политрук, вышел на улицу после ужина с чесноком… Так, знаете ли, люди огибали стороной, даже лошади отворачивались…
Я как будто и не слышал, о чем говорили Щукин с Чертыхановым; все время я ощущал какую-то неловкость, беспокойство – прислушивался, поглядывая в оконце на улицу, и все мне казалось, что к нашей избенке кто-то подкрадывается… В сенях упало с дребезжащим громом ведро. Я вскочил и выхватил пистолет. Щукин сделал то же. Лишь Чертыханов остался спокоен, только переложил автомат с лавки на край стола. В полумраке двери встал человек с рукой на перевязи.
– Свои: сержант Корытов, – назвался он негромко и шагнул через порог. Мы опустили оружие. Оглядев нас, он грохнулся на лавку и выдохнул: – Устал чертовски! Ну и жара… Хозяюшка, дай водички, пожалуйста. – Сержант был молодой, но весь какой-то полный, обмяклый, точно глиняный; из-под пилотки катился пот, глаза смотрели пугливо, как бы опасаясь встретиться с взглядом других глаз. Пошевелив пальцами раненой руки, он поморщился. – Товарищ лейтенант, руку не перевяжете?
Прокофий отодвинул от себя стол, расплескивая молоко.
– Давай я.
– Погоди, попью сперва…
Рукав его гимнастерки был распорот от плеча до обшлага. Повязка туго обхватывала предплечье. Чертыханов, развязав свой узел, извлек аптечку; громадные ручищи его с толстыми, протертыми спиртом пальцами сделались вдруг осторожными, почти нежными. Сержант коротко вскрикнул, когда Прокофий отодрал повязку, обнажив сквозное пулевое ранение. Хозяйка, наблюдавшая за перевязкой, страдальчески всхлипнула: ей было по-матерински жаль нас всех… Через несколько минут на рану была наложена свежая повязка. Сержант облегченно вздохнул.
– Спасибо, приятель… И ломота вроде утихла… – На пристальный, вопросительный взгляд Щукина Корытов проговорил, точно оправдываясь: – Из-под самого Минска иду. Полк истрепали в первых же боях. Держался полк стойко… Но он, сволочь, навалился всей тяжестью, фашист проклятый!.. И вот я, как волк, по лесам рыскаю… Прямо одичал…
«Стойко, – подумал я, глядя на него с неприязнью. – Небось бежал, как заяц, при первом выстреле. Увалень!» Сержант выглядел раскисшим и несчастным.
– Куда же ты идешь? – спросил Щукин.
– Из кольца хочу вырваться, к своим. Вы ведь тоже к своим идете?..
– С нами пойдешь? – допрашивал Щукин настойчиво.
– С вами? – Корытов нехотя, через силу улыбнулся, ответил уклончиво: Можно и с вами…
«Странный тип какой-то, – подумал я. – Может быть, он вовсе и не сержант Корытов… Надо проверить его…» Я решил потребовать у него документы. Но в это время в избу вбежала девочка, которая приносила нам воду. Споткнувшись о порог, она упала и заголосила что есть мочи:
– Едут, едут!..
Сержант Корытов подпрыгнул и левой рукой выхватил из кармана «лимонку».
– Кто едет? – закричал он.
С улицы послышался нестройный, неистовый треск. За окном, вдоль порядка, промчались трое немецких мотоциклистов. Они остановились напротив, три молодых немца, пыльные, утомленные, но добродушно веселые, как все удачливые люди. Критически оглядев нашу избу, приметив дымок, вьющийся из трубы, они засмеялись и, застрекотав моторами, развернулись и подкатили прямо к окнам. Сержант Корытов бросился к двери.
– Бежим!
– Спокойно, – сказал я. – Иначе в тебя первого всажу пулю.
Женщина, обняв девочку, в ужасе замерла возле подтопка.
Чертыханов сразу весь подобрался – куда девалась его добродушная, хитрая ухмылочка! – и по-медвежьи грузно выкатился в сенцы. Мы неслышно метнулись вслед за ним. Затаились за дверью, за ларем с мукой, в полумраке; опасность, которую я предчувствовал, подступила вплотную, ее скрюченные пальцы тянулись к самому горлу.
Двое немцев – третий остался у машин, – бодро и по-хозяйски стуча каблуками по скрипучим половицам, вошли в сени: тогда они входили в дома без опаски. Перешагивая порог, первый ударился лбом о низенький косяк, громко вскрикнул и, должно быть, выругался. Второй рассмеялся, пригибаясь.
И следом за ними, так же стуча каблуками, держа наготове автомат, в избу вошел Прокофий Чертыханов – скрываться теперь не имело смысла.