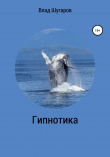Текст книги "Бумажный герой"
Автор книги: Александр Давыдов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Помню пафосный миф о покоренье Космоса, занудно расцветавший в годы моего детства, когда еще было принято верить в небылицу о безбрежном пространстве. Я-то ему вовсе не был подвержен, этому вроде и вдохновляющему порыву покорить беспредельность. Но – дело в том, что мне было совсем на Земле не тесно. Имеющему тогда в запасе всего горстку слов, но беспредельное как раз воображенье, мне было, если где тесно, то в своем времени, я буквально задыхался от своего душевного переизбытка, для жизни обременительного. Но зачем стремиться куда-то, если, например, старый дом по соседству, изукрашенный чужеродным эпохе орнаментом, я мог разглядывать часами, не уставая. Он манил меня гораздо больше далеких созвездий, своей причастностью другим, куда изобильней, чем окружавшее, духовным пространствам. Дом-то, скажем, был самый обычный, – его снесли недавно, заменив новоделом, – не великое создание зодчества, всего-то рядовой свидетель былого. Но именно что символ, значок, веха. Как дерево, шелестеньем кроны свидетельствует о глубоко запущенных в почву корнях, так и ветхое строенье намекало на существованье неведомых мне плодородных мифов и высоких абстракций. Оно подает мне сигнал странности, к которой я с малолетства чуток. Тогда мне, наивному, казалось, что я избыточен понапрасну. Будто для того лишь маялась душа, чтоб тело праздношаталось по стогнам бытия.
Я не дитя спокойных времен, мне родней накренившийся мир. Но и в эпохи благоденствий, в общем-то, уместен, как ненавязчивый, деликатный гость. Я ведь осторожен, как никто другой, переживая стеклянную хрупкость мирозданья. В уютные времена я, пожалуй, даже наверняка, ненасущен миру, но я и постоянно бдящий, словно резервный полк, приберегаемый для решительного сражения. Не думаю, что это лишь моя спасительная иллюзия. Ведь мне и впрямь удается расслышать раньше других зловещий скрип, стремящих во все концы света опасных трещин и прозреть вдруг багровеющее око всевластного созерцателя нашей жизни. Тут-то я и обретаю смысл, моя избыточность и чуткость делаются ненапрасными. И сам я оказываюсь необходимой заначкой промотавшегося гуляки.
При любви к человечеству в целом, могу ль не быть равнодушным к его каждой отдельной особи, коль для меня они всего только вариации на единственную великую тему, которой отзываюсь дребезжаньем всех моих душевных и духовных струн; частный случай пока не познанного мной вселенского закона? По своей уж натуре я взыскую всеобщего и презираю частности. Но я и уважаю такую приоритетную, что ли, частность, как отдельное человеческое существо. Постоянно себе твержу, – и ангелок не дает забыть, – что и малейший, и мельчайший угоден высшей силе, как ее ни назови, возлюблен ею и взыскан. Даже вот моя соседка, которая неизменно, уже полвека, остается мерзкой старушонкой, – ох плачет по ней топор какого-нибудь честолюбца. Но я-то понимаю, даже и без напоминаний ангела, сколь обильная, радостная слеза умиленья прольется из всевидящего ока, если в этой омертвелой душе родится хоть мизерное живое чувство, на которое та вряд ли способна. Впрочем, может, здесь я и не совсем прав, – ведь эта склочница и стукачка подкармливает бродячих кошек, загадивших весь подъезд, а я и свою-то единственную иногда кормить забываю.
Трудно представить, что мы с нею вместе канем в непроистекающий век и там будем струиться, как и тут – по соседству, сверкая всеми качествами нам дарованных благодатью совершенств. Но я все ж, хоть и с трудом, представляю, как ее душа, закореневшая в коммунальных склоках, поначалу сварливая, потом очистится средь чистейших небесных сфер и будет тихонько тренькать на какой-нибудь астральной арфе, услаждая мой слух. Ведь чтоб стать совершенством нам будет отпущена всеискупающая вечность, которая наши грехи сотрет в порошок.
Раздел 4
Помянул соседку лишь потому, что для меня, пусть мелкий, но постоянный соблазн, испытанье мой любви к человечеству, это единственное, пожалуй, существо к которому я не испытываю равнодушного благоволения. Но она и безумье, отчаянность моей веры в совершенство вселенского закона, который – милость, любовь, благодать. «Ты близок к истине, – как-то мне сказал ангелок, – настолько, что и не разглядеть ее». Так он ответил на мою глубокомысленную реплику о самих корнях мирозданья. Ведь мы с ним и философствуем охотно. Похоже, он самый терпеливый мой собеседник. Конечно, он причастен к горним тайнам, но в какой мере? Пронизанный чувством, мой ангелок вряд ли мыслитель в расхожем понятии. У него заметна плохая философская выучка и полное отсутствие книжных знаний. Мне пришлось убедиться, что он не знаком даже с элементарными философскими понятиями, терминологией и проблематикой. Я-то ведь кой-чего поднабрался, гуляя об руку с наверно лучшим их моих учителей, – может быть, единственным стоящим, истинным любомудром: хотя и вторичным мыслителем, но исключительно добросовестным и эрудированным компилятором, – в роще Академа, загаженной пивными бутылками и обертками от попкорна. А вот мой ангел к обученью оказался вовсе невосприимчив. Но мудрость сквозит в каждом перышке его крыльев. И слушатель он замечательный, – верю, что в нем надежно запечатлено мое каждое слово.
У меня ведь практически нет достойных собеседников, даже и просто внимательных слушателей. Сослуживцы слегка тупоумны, практичны и равнодушны к метафизике. Друзья – напротив: каждый носится со своей метафизической блажью, ловит за хвост ускользающие виденья смысла. Их покалеченные души глухи, слепы, бывает, что и немы, по крайней мере, косноязычны. Про кучера и кухарку даже и не говорю – они оба ленивы, притом любопытны, но как-то по мелочам. Им бы только стянуть чайную ложечку или мои парадные шпоры да посплетничать о хозяине с окрестными простолюдинами. Оруженосец им под стать, рассуждать он как раз любит, но только о политике: такую чушь несет – уши вянут. Что остается? Воззвать к животным, как тот босоногий монах, что на моих глазах проповедовал птицам? Пытался. Моя борзая умна по-своему, многое понимает и в своем подобострастии готова внимать мне часами, согласно подвывая. Но это ж не бескорыстно, она-то уж прагматична до кончика хвоста – на все готова, лишь бы выпросить косточку. Завел кошку – существо мистичное и сокровенное, но, увы, оказалось, еще более моих сослуживцев равнодушное к метафизике, может быть, потому что сама собой – метафизика въяве.
Так я и остаюсь наедине, не считая ангела, со своим душевным избытком, побуждающим в тихие годы лишь философствовать, как умею, можно сказать, киснущим без применения. В детстве мне часто являлась мысль, что я угодил не в тот век, которого достоин, в серый век бесцельного бытия, без великих страстей и прозрений, в серенькое преддверье ада иль рая. Но ведь вот промелькнули столетия, а я даже и не замечал перемен. Проворонил два ледниковых периода, ядерную зиму, а всемирный потоп, вызванный глобальным потеплением, заметил, лишь когда уже волны плескались прям под моими окнами. Должно быть, дело во мне самом или, пусть, в неизменности человеческой природы.
Я в себе подозревал большие таланты, но совершенства достиг не в едином творчестве. Вопрос: берег ли я их, как рачительный скупец, или, наоборот – как мот, растратил на пустяки, в своем грошовом бытованье просто-человека? Не смог мне ответить и ангел. В моей душе будто роились великие поэмы, губы, случалось, уже начинали трепетать в божественном лепете, но с них не срывалось ни единого слова. «Дурацкая у тебя манера губами жевать и закатывать глаза. Иди проверься, может, у тебя скрытая эпилепсия», – посоветовал друг, кстати, врач, пусть и патологоанатом. Проверяться я не пошел, хотя знаю, что эта священная болезнь тоже способ изжить душевный избыток. Мне ж она не подмога, излишек мой не только, даже не столько душевный, сколь духовный.
Да еще и звуки роились в моей душе, но им всегда не хватало какой-то мелочи, чтоб стать музыкой. Еще и объемы, мной творимые в сновиденьях, которые полнятся изваяньями, что достойны великого мастера, и постройками невиданной красоты. Причем не лишь намеченными, а во всей полноте, глубокой разработке деталей, к которым, я, как признал, наяву равнодушен. Я мог бы стать скульптором или, скорей, архитектором, ибо тонко чувствую архитектонику пространства. Мог бы и мыслителем, если б моя вполне изобретательная мысль не была б так подвластна чувству. Но предпочел бы званье художника. Я завидовал вовсе не только великим творцам, но и мельчайшим из малых – графоманам, обивающим пороги редакций, мазилам, мнящим себя гениями, кое-как ляпая на холст тошнотворные пятна или какой-нибудь черный квадрат изображая своими фекалиями. Любому, короче говоря, кто возгласил зло и дерзко: «Я творец, и все вы катитесь в жопу!».
Как бы я мечтал обрести их сокровенную, чуть истеричную повадку, их горделивое самоощущенье. Но так и не отыскал в себе этой дерзости. Может, дело в семейной традиции, – мои предки в большинстве люди скромных, позитивных профессий: охотники, земледельцы, скотоводы, учителя, врачи, инженеры, химики, фармацевты, антиквары, юристы, депутаты парламента от оппозиционных фракций. И ни единого, даже самого незадачливого творца. (Ну, не считая одного, разве, кто изобрел зубочистку и клюшку для гольфа, что, скорей, из области семейных преданий.) Но миф о творце-художнике в поколеньях оставался незыблем. К любому художнику, даже явной бездари, мои предки относились с почтеньем и опаской, будто к пророку и безумцу, который еще неизвестно, какой фортель выкинет, одновременно сверх– и недочеловеку. Он виделся моим немудрящим предкам насельником великих миров, первопроходцем глубин и высей, знакомцем и бесов, и ангелов, святым безумцем, зачумленным. От них старались держаться подальше, от этих опасных существ, твореньями коих всем положено восхищаться.
Учитывая традиционное в семье столь острое возвышенье-приниженье художника, скажите, мог ли я в себе не убить его, – точней убивать постоянно, – под приветственный вопль, стремящих в глубь веков поколений: убей, убей его! Но я хитер, даже и себя самого обхитрю. Убийство в себе художника лишь было зрелищем, достойным нашего Колизея. Я убивал только видимость, внешние проявленья творца, а творческий дух, наоборот, в себе тишком холил и взращивал. К слову замечу, что бездарность – изъян вкуса, а не отсутствие таланта. Коль человек вовсе не претендует быть художником, кто ж его назовет бездарью?
Раздел 5
Но куда ведь его денешь, свой духовный избыток? Он есть и причина, и следствие утаенного таланта. Он и вернейшее свидетельство Божьего дара, как я полагал в своей скромной гордыне, который слишком расточительно было б тратить попусту. А что если не существует достойного меня искусства, в котором я был бы талант, а возможно, и гений? А может, и существует издавна, – без предмета и выражения, как тайное творение сердца, к чему именно и благоволит всегда бдящее око, которое взирает на мир и каждого печально, радостно, горько, предостерегающе, а главное – с терпеливой надежной. Великий Замысел ожидает, не побуждая, видно, из уваженья к нашему бремени свободной воли, чем был наделен любой из всех в начале веков. Не о том ли намеки, ненавязчивые подсказки, умолчанья и недомолвки моего ангела, будто выпархивающего из абстрактных пятен, всегда маячивших пред глазами, причина которых – мое уже с детства утомленное зренье?
Я недостоин земных искусств, иль те недостойны меня. Но вправе ль я избегать судьбы, что все равно бестолку, не оправдать упованья бдящего ока и ангела? Неисполненный долг раздербанит душу и тело, их размечет в беспредельном пространстве, лишит даже робкой надежды на искупленье. Да, я – гений неведомого искусства, творимого из деликатной материи младенческих слез и душевной муки, потому нужнейшего людям. Назови, друг мой, его даже антиискусством, но превыше любых, ибо те избегают воплощенья, которое всегда неверно и убого. А то, неведомое – как раз точнейшее воплощение и чувства, и мысли, конкретное выраженье истины. Оно творится из самой магмы бытия, не обесчещенного, не оболганного рефлексией.
Предчувствие небывалого искусства мне вдруг явилось, когда я стоял над великим покоем природы, на взгорке, как пуп мирозданья, открытый веянью вселенского духа. Был тот редкий миг, когда нет желанья выклянчивать милостей, а лишь славить Бога за внятность и красоту Им созданного. Порхали птицы у моих раскинутых рук, своим щебетом верней, чем я, прославляя Господа. Казалось, еще мгновенье – и я постигну птичий язык, ему отвечу верным пересвистом, скажу вдохновенную проповедь изначальной, потому не изолганной речью. Какое искусство может выразить в полноте воздух, ширь, полет, сюжет речной излучины, хитросплетенье лесных троп, а главное – этот восторг души, мимолетный, однако истинный до самого донца? Какими, скажи, объемами, красками, организациями пространства, словами, даже музыкой, которая подчас кажется мне всесильной?
Мне почудилось, что, коль удастся запечатлеть навсегда этот ускользающий миг, не корявым наброском, а точно, в полноте, как он есть, это и будет явленьем вечной красоты, что спасет мир, уже сухой, словно древесный лист осенью. Тот вновь очнется, шелестя зеленью. Тогда, над великим покоем, я себя ощутил гениальным творцом, пребывающем на пике мирозданья, в сердцевине надежды. Раньше творенья земных искусств мне внушали трепет. Буквально до слез я внимал воплощенным шедеврам и все ж в глубине души чуял их недостаточность. Они ведь бледная тень порыва, что я испытал объятый средой, когда вся мощь мирозданья переполнила на разрыв мое сердце. И что дальше? Жить, как прежде, убого и невнятно? Умереть сразу, ибо уже изведал полноту бытия? Или все ж попытаться его запечатлеть как дар человечеству и оправданье собственной жизни? Избрал последнее.
«Ты скрытый честолюбец», – мне твердили не самые чуткие из приятелей. Отнюдь, я равнодушен к атрибутике славы. Вот ведь отказался от ордена Подвязки за спасенье полкового штандарта. Правда, не сказать что награда была по справедливости. Все мы знаем цену кондотьерским войнам – не доблесть, не высокая идея, а мародерство, блуд с маркитантками и другое подобное скотство. Я записался волонтером больше от скуки, а утраченный по пьянке стяг попросту отыграл в кости. Короче говоря, слава слишком для меня много – как-то обременительно, излишне – но, может, и маловато. Где ж честолюбие, коль шедевр мой, как и автор, – мы с ним оба заведомо не получим признания? Он ведь задуман нерукотворным, тайным, из неуловимой материи, легкой, как испарина, выступающая на теле страдающего человека, как легчайшее марево духа, и будет вечно мерцать из пространств недоступных, ни мысли, ни воображению. И она спасет мир, эта совершенная красота, ничуть не замаранная грубой материей, будь та физической или ментальной. А закончив столь совершенное дело, я смогу наконец предаться желанному отдыху, созерцая мир со стороны, как праздное божество, демиург древних религий, заслуживший вечный покой неучастия.
Сперва свою мечту о вечном покое, я путал с леностью. Теперь понимаю, что это род влечения к смерти, – ведь даже как-то прошел терапевтический курс у венского шарлатана, которого вызвал бы на дуэль, если б не Страстная неделя, за гнусные намеки в адрес моей матушки, дамы высокородной и благонравной. Но это и впрямь, должно быть, мой идеал – смерть как неучастие в жизни, при неутраченной остроте мысли и ясном сознании. Вечно и неотступно за моей спиной бдит не моя кровная, а черная матушка. Признаться, мне и вообще-то невыносимо всегда присутствовать, с трудом лишь сношу бремя непрерывного существования. Вся моя жизнь источена прорехами неокончательной смерти.
Нет, чтоб решиться на сотворенье шедевра, который спасет мир, нужна отвага, куда большая, чем воинская. Ведь какова ответственность, а ставка – не драное полковое знамя, а моя бессмертная душа и судьба человечества. Конечно, я сперва посоветовался с ангелом. Стыдно сказать, но личного демона я, видимо, не удостоен, по крайней мере, ни разу он себя не проявил. Должно быть, он собеседник лишь только мыслителей, а я человек чувства. Зато ангелок-то радостно поддержал мое дерзновенье. Даже, легко помавая крыльями, вроде как стал намечать в пространстве контуры задуманного мной нерукотворного шедевра.
Стали вещими мои сновиденья. Виделось, будто могучая длань лепит из самой субстанции жизни, как из податливой глины, образы обновленного бытия. Они все были человекоподобны, но в своем высшем замысле, а не загубленном нашей убогой мечтой воплощении. Это была, наверняка, и подсказка ко мне вечно и не по заслугам благоволящего провидения. Указанье, что мой пронзительный миг вовсе не должно запечатлеть в скучном реализме, то есть в его антураже – горку, ласточек, меня самого, распростершего руки, окрестную природу, которая сладость и искус. Не все это, не вдохновлявшую видимость, а его сущность, его средостенье, изыскать вернейший символ красоты и блаженства. Мне был подсказан человеческий образ – совершенное тело как единство духа и анатомии, – да и сам я свято верю в антропность вселенной. Тело сверхсовершенных пропорций, не доступных мастерству и величайшего скульптора – достойный сосуд чистейшему духу. И в совершенном жесте, где и страстный порыв, и смирение, и готовность творить любое благо, а также ненарушимое, точное равновесие, которое возможно соблюдать веками, даже и вечность. То есть рассчитанное не на временное пребывание, а на нескончаемое бытие.
Признаюсь, что не силен в анатомии, – лишь в детстве тайком от взрослых листал фолиант «Мужчина и женщина» да еще какие-то книжки моего деда – известного гинеколога, но уверен, даже не сомневаюсь, что угадаю душой анатомическое совершенство. Уточню, что для меня всегда была этика неразрывна с эстетикой, или, по крайней мере, они шли рука об руку. Упаси Боже предположить, что мой замысел хотя б чуть отдавал алхимией. Мне довелось быть знакомым со многими из этой породы, и все как один оказались на поверку либо глупцами, либо мошенниками, либо разом и тем и другим. Как-то видел гомункулуса в реторте: ужасен сверх меры, – так выглядел бы зародыш Антихриста. Они еще изобретают жизненный эликсир. Ну и что будет? Раскинется перед нами унылая, бесцельная, праздная вечность. Мне удивительно пристрастье нынешних интеллектуалов к алхимии. Помяните мое слово, ее когда-нибудь признают лженаукой.
Раздел 6
Я был готов учесть опыт великих предшественников. Даже не только знаменитых творцов рукотворных шедевров, а пусть и наивных эпигонов, притом вдохновленных мощью им выпавшей эпохи, коллективного гения их современности. В основном опыт неудач. Ведь любой рукотворный шедевр все ж убого опосредован, весь в плену материала, школы, предрассудков и ложных мнений века. Это не истина сама, а ее мутный призрак, который иногда лишь растрава души. Оттого, сколь бы не множились гениальные творенья, сколь бы не взмывали духом наши прославленные творцы, сколь бы не терзали свои души, вовсе не идут на убыль человеческие злоба и жестокость. Только делались изощренней из века в век орудия убийства. Да, уж мне поверьте, жестоковыйные люди уже наверняка задумали совершенное оружие, способное не только обратить в руины целый город, но и нести проклятье еще не рожденным поколениям. Мне надо поторопиться, чтоб его создать не успели. Как мы сейчас детски радуемся едва пробившимся росткам прогресса – книгопечатанью, ткацкому станку, пороху, очкам, микроскопу; мечтаем об овладенье силой электричества и пара. Но все ведь обратится во зло. Грядут жесточайшие войны, не на сто или даже тридцать лет, – будет и четырех-пяти довольно, чтобы взгромоздить гекатомбы. Предвижу огненную гибель целых народов и наций, восстанья черни, пред которыми лишь мелкая неприятность сейчас охватившие всю страну крестьянские мятежи. И только мой вселенский шедевр – красота, которая совершенна и вечна, нагая истина, маленькая купальщица в море несудьбоносной правды, беззащитная, но и властная, смирит мировое безумство, и мы пребудем как агнцы. Значит, кто как не я – последняя, отчаянная надежда всего человечества, о которой то и не ведает? Свято верю, что достоин великой миссии, куда вложу свой неприкаянный гениальный дар и тоже неприкаянную, горькую любовь к человечеству, переполнившую до краев мое сердце. Кто, скажи, ну скажи, больше меня взыскует совершенства? О своем другом исключительном свойстве я пока умолчу.
Сперва, конечно, мне следовало позаботиться о достойном материале, а где искать его, как не в обыденности? Мой взгляд приобрел силу рентгеновского луча, способность увидеть в мельчайшем крупинку великого. Будто мощный лазер пронзал он теперь видимость, до ее сокровенной сути. Превозмогая невнятицу, все косноязычье жизни, ее флер и морок, теперь я постигал самую сердцевину вещей. Сквозь любые слова прозревал средостенье смысла, из всей словесной трухи точно выбирал сокровенное слово, чтоб сберечь до поры. В любом женском лице теперь мне сквозила богиня великих страстей, одновременно и мать, и губительница.
Надо признаться, что пока душа моя пребывала в мире истинного, тело, видно, привычкой и генетикой отнюдь не растерялось в юдоли акциденций. Я даже подчеркнуто не менял образ жизни, на словах разделял все расхожие мнения, изображал все привычки среднего человека, и никогда не был пойман с поличным, не потерял путеводную нить повседневного бытованья. Даже успел жениться или развестись, не помню точно. Из друзей и приятелей вряд ли кто во мне подозревал такую уж тягу к совершенству. Я достиг его только в настольных играх, вроде триктрака, нардов, бриджа, покера, игре в кости, ну еще и в крестики-нолики. Школяром отлично играл в орлянку, так добывая карманные деньги. В остальном же довольствовался пристойно-обыденным, никого не оскорблявшим уровнем достижений. Потому везде себя чувствовал уместным – и в богемной мансарде художника, и в саду Академа среди наших мыслителей, и на корпоративной вечеринке, и на футбольном матче, и на рыцарском турнире, и в полковой казарме, и на холостяцкой пирушке, и на балу в торжественном зале Синьории, где среди портретов лучших граждан красуются аж целых пять моих предков. Ну разве что, немного, чуждым. «Нормальный ты мужик, но у тебя тараканы в голове», – мне твердили собутыльники, соратники и сослуживцы. Правда, кое-кто меня подозревал в заносчивости, иные, что лелею какую-то пакость. Ну, это ясно: что, по их понятиям, лелеют в душе, кроме подляны? Только влюбленные женщины во мне видели бог весь какие достоинства, ими же выдуманные, – кроме тех, кто меня считал пьяницей, бабником и даже тайным алиментщиком.
Однако ни единый (не единая) не прозрел, как и не прозрела, ни моей любви к мирозданью, ни стремленья спасти его. Куда ж им разоблачить меня, коль в чем я поистине совершенен, так в искусстве прикидываться? Лишь раз ко мне обратился мой весьма проницательный начальник: «У тебя взгляд какой-то безумный, поезжай отдохни», – и наградил туром в Египет, где как раз недавно возвели пирамиды, для привлеченья туристов. Ну съездил, ну да, пирамиды, самую большую даже и не достроили, по причине, думаю, финансового кризиса. Еще сфинкс, – действительно мощное творенье, хотя и лишь увеличенная копия тех, что установлены в Северной Пальмире. Но и впрямь – весь тайна, вопрос без ответа, сокровенное бытие, загадка, лишенная разгадки; его можно подробно рассматривать целый год, чтоб затем свихнуться. Но главное – красивая женщина или, возможно, девушка, седой благообразный мужчина, прелестный младенец, маленький ослик. Все очень трогательно. Я даже подумал: может, вот она – истина, что ж искать ее дальше? Но любое прозренье – разве ж не счастливая находка утерянного, зерна, давно погребенного средь плевел? Я скромен, не демиург, создающий миры, лишь хочу, чтоб воссиял из мрака нашей косной жизни совершенный образ бытия, вечный и неизменный, во всей упоительной простоте Божьего замысла.
Вынашивая спасительной силы творенье, я полюбил гулять в романтичнейшем месте столицы – средь поросших травой и кедрами развалин комплекса Москва-Сити, кровля которого теряется в облаках. Тут все наглядно – и дерзкий богоборческий замысел, и смешенье языков на обломках раскуроченной тары, и низринутая гордыня, и тщета человеческих, небоговдохновенных усилий. Тут зрима и равнодушная мощь природы, населившая этажи разнотравьем и робкими осинами. Меня приводили в восторг, пришпоривали мое воображенье и лианы, повисшие с балконов, и купы меланхоличных пиний, теперь украсившие парковку, и магнолии, цветущие в разломах асфальта. Впрочем, может, и не магнолии, я не силен в ботанике. Ангел мне, конечно, сопутствовал в моих одиноких прогулках, порхая над моей головой.
Раздел 7
О чем, спросишь, я раздумывал, гуляя средь романтичных руин в сопровожденье ангела? Ну, к примеру, что мы с мирозданьем, видно, переживаем единый кризис среднего возраста. Это пик жизни, когда уже мудр, но еще полон страстей, и одновременно трагический перелом, точка невозврата, развилка, откуда лишь три пути – восхожденье к свету, бесцельное увяданье и полная гибель. Я чувствую, как никто, драматизм переломных моментов, колебанье, поигрыванье шарика на гребне возмущенных событий. Как раз время делать великие ставки, все, что скопил, ставить на кон до последнего пенса, тогда и выигрыш будет бесценен. Мне ль этого не знать, мастеру всех настольных игр? Я решительный игрок – однажды, применив игральные кости, готов был свою жизнь переиначивать многократно, запутав концы и начала. Оговорюсь, что я смел в тяжбе с роком, вселенским законом, законами общежития и гражданским законодательством, собственным и чужим разумом, предрассудками эпохи, расхожей этикой, светскими правилами, но в собственно игре всегда избегал значительных ставок, – мой наибольший прибыток, кроме уже помянутого штандарта, – алмазная пуговица с манжета графа де С., тоже умелого игрока в кости. Так меня научил старый отцовский слуга, бывший пес войны, работорговец, биржевой брокер, сыскной агент, может, и палач, не знаю. «По маленькой ставь, – всегда твердил, мне преподавая игроцкую науку, – по маленькой, выигрывай постепенно».
Но как мне, с моей неутоленной душой, не мечтать о решительной ставке, что исчерпает игру целиком? Все, все бросить на кон разом – свою бессмертную душу, мир, вселенную. И стяжать тот самый град в образе сверкающего агнца, изображеньем которого на алтаре соседнего храма я благоговейно любовался с юных лет. Еще я думал, гуляя в руинах, что вот ведь созрел наконец и вовремя для судьбоносных деяний. А то ведь почти уже примирился, что так и останусь юнцом, исполненным героических фантазий и прыщавых комплексов. Их и представлю небесам в миг расставанья, только тем утешась, что остался чист душой, то есть не созрел и в злодействе тоже, – так, просто мелкий шкодник. Но нет, с годами все-таки потяжелел, – постепенно теряя младую резвость, приобретал весомость. Я делался упорней в чувстве и основательней в мысли, оттого легко мирился, что мое тело утратило прежнюю верткость.
Кажется, менялся и ангелок. Словно б и он слегка отяжелел, и сейчас порхал не так уж беспечно и легкомысленно. Прежде был радостный, теперь подчас казалось, что он скорбит и в нем появился невысказанный укор. Тут я виноват. Еще б ему не скорбеть, не укорять, если каждый мой грех, мне казавшийся мелкой проказой, обременяет его полет, как вязкая сырость напитывает голубиные крылья? Но будто и он помудрел, нежный ангелок моего детства, мне дарованная весть о рождественской сказке, единственный мой собеседник и задушевный друг, сквозящий из каждой моей мечты и мысли, которые пространственны всегда. Так и клубятся в моих небесах объемы нерастраченных мыслей и несвершенных деяний. Кроме эссенции житейской обыденности, они станут матерьялом, из которого я и сотворю свой шедевр.
Ты поглядел бы, как вдруг оживился мой ангел, встопорщился перьями, когда я открыл ему свой дерзновенный замысел. Будто помолодел лет на тысячу или даже две, когда я летел на боевой колеснице встреч оробевшему врагу, а он реял надо мной, как уже сбывшаяся победа. Тут неважно, взаправду ль была колесница иль она мне чудилась как образ моего тогдашнего победительного задора. Первым делом я спросил ангела, не чересчур ли она горделива, мной принятая миссия, ибо знал, что гордыня – мой самый коварный искус. «Да брось ты, – легко ответил, – это ж для мира, людей, а не ради славы. Что и впрямь дерзновенно – другое дело. Мы стареем, друг мой. Сейчас или никогда». И я тогда сказал ему: «Знаю, что глупо и недостойно, поднимаясь в атаку, заранее думать о медсанбате. Беззаветно верю в победу, но как ты считаешь, ангелок, что будет, ну… коль прогорит моя ставка?». Тот улыбнулся и развел крылышками. Вот уж вопрос не для этого ангела, при всем к нему уваженье, – это ведь родной мой ангелок, моя детская выдумка. Ну, чуть меня мудрей, лучше намного. Собственно, я же, хотя и в дистиллированном виде. Однако не обижайся, мой ангел, и чуть упрощенном, без моих червей и тараканов, мук и сомнений, рождающих истину. Без вопля наконец разрешившейся страсти, эхо которого будто разносится по мирозданью. А это ведь – жизнь, еще как.
Сам попробую сообразить, чем мне грозит неудача. Надеюсь, не муками ада, ведь верю столь же беззаветно, как в собственную победу, в милосердие Божье. Один восточный мудрец – шаман, шарлатан, не выяснил, кто он, – мне преподал на базаре свое ученье. Беседа была короткой и наспех, но, если не путаю, он твердил о вечном покое духа, который доступно стяжать медитацией, тренингом, дыханьем и самодисциплиной. Прижизненно или только посмертно, мне мудрец не успел объяснить из-за начавшейся облавы на незаконных мигрантов. Не собираюсь менять вероисповеданье, – стар уж для этого, к тому же тверд в нем, – но упокоенье духа, избавленного от нудного, бесцельного коловращенья событий, это, как уже говорил, и есть мой идеал, тайная цель. А каждому, говорят, по вере, добавлю: и по надежде его. Вот и стану лелеять надежду, что, не стяжав светоносного агнца, хотя б за благое намеренье буду вознагражден неучастием, при несмеркшемся разуме. И точка.
Раздел 8
Может быть, именно из-за влеченья к смерти, мне и так дороги, так насущны обрывы струн, когда, неуместно звякнув напослед, смолкает бархатный гул повседневности. Другой нашел бы тут противоречие: и стремленье к покою, и увлеченность бедой. Лично я не вижу: смерть – и покой, и трагедия одновременно. И она величава. Говорят, уже едва ль не изобретены пилюли бессмертия, но жизнь без смерти – сплошная морока, а смерть без жизни – мрачная яма, где вечность не сладка. Так сказал мне мой ангел, точно и верно, – с ним полностью согласен. Люблю, – что поделать? – когда врываются в мир сумбурно-трагические темпоритмы, где звучит уж не самодовольная гордыня, а смятенье и ужас. Короче, как говорил, обожаю кризисы, которые еще не разыгранная ставка и репетиция Последнего суда над виновными и невинными. Мою жизнь благоволящее Провиденье ими уснастила с избытком. Тут и мои личные – возрастные, житейские, тут и глобальные катаклизмы. Если не вру, последний действительно серьезный – гибель Атлантиды, историю и географию которой я знал назубок с ранней юности, когда взахлеб зачитывался книгой моего покойного учителя. Завязкой трагедии были какие-то пустяки: паденье индексов, скачок цен на медь и олово, эгоистичная жадность банкиров, беспечность правительств. Потому и стеклянный хруст, рассекавшей мирозданье трещины, был столь тих, невнятен, что его с трудом различил и мой тонкий слух, даже путая с привычным звоном в ушах.