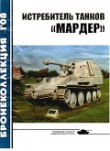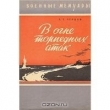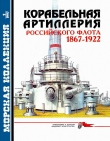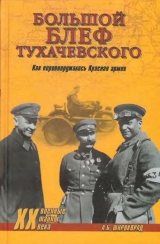
Текст книги "«Большой блеф» Тухачевского. Как перевооружалась Красная армия"
Автор книги: Александр Широкорад
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 3.
ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ
Леонид Васильевич Курчевский родился в 1891 г. в мещанской семье, окончил два курса физико-математического факультета Московского университета, но в 1913 г. по каким-то причинам был отчислен и стал лаборантом Московского педагогического института имени Шелапутина.
С юных лет Курчевский прекрасно чувствовал конъюнктуру. С началом Первой мировой войны возникла необходимость в траншейных орудиях – Курчевский предлагает оригинальную конструкцию гранатомета. Он был создан по схеме средневековой баллисты. Основной частью гранатомета была стальная штанга, на одном конце которой крепился стакан для вкладывания рукояти ручной гранаты образца 1914 г., а с другой – противовес. Стрелок вручную с помощью рукояти зубчатой шестерни раскручивал штангу. А в нужный момент он (или 2-й номер расчета) нажимал на спуск, отмыкалась защелка, и граната летела по инерции.
Опытный образец гранатомета был изготовлен в механической мастерской Охтенского порохового завода. В ходе испытаний дальность метания гранат составила 110—158 шагов (78—112 м). Однако одна из гранат попала в свой бруствер, а еще несколько полетели назад.
ГАУ, согласно Журналу Артиллерийского комитета № 1361 от 6 августа 1915 г., решило уплатить Курчевскому 800 рублей и предложило доработать гранатомет с тем, чтобы обеспечить своевременное срабатывание защелки. Деньги Леонид Васильевич взял, но дорабатывать свои изобретения он не любил и к гранатомету больше не возвращался.
С 1919 г. Курчевский руководил мастерской-автолабораторией при Комитете по делам изобретений, а в 1922—1924 гг. он стал начальником лаборатории отдела военных изобретений Комглисс, который тогда находился в Москве в Мертвом переулке, д. 20. Курчевский сразу проявил себя властным авторитарным начальником. От подчиненных во все инстанции шли жалобы, часто созывались собрания лаборатории, где стороны, не стесняясь в выражениях, выясняли отношения.
Но, несмотря на склоки, Курчевский изобретал. Вот далеко не полный перечень его работ: полярная лодка-вездеход с авиационным мотором; электрическая машина, использующая энергию малых течений; горючее, заменяющее бензин, – смесь эфира со спиртом-сырцом; эмульсия для автомобильных шин, затягивающая пулевые пробоины; крылатая торпеда с реактивным двигателем; бесшумная пушка; дульный тормоз к обычным орудиям; переделка легкового автомобиля ГАЗ-А в трехосный вездеход на колесном и гусеничном ходу, система централизованного регулирования уличного движения в Москве и т.д. Вдобавок он писал научно-фантастические повести и охотничьи рассказы.
В январе 1923 г., заведуя Лабораторией-мастерской Комитета по делам Изобретений ВСНХ и ЦУМТа НКПС [18]18
ЦУМТ НКПС – Центральное управление местного транспорта Наркомата путей сообщения
[Закрыть], Леонид Курчевский из рабочих и служащих организовал частную фирму – артель «Заводское дело». Что поделаешь – НЭП был «в угаре».
В 1922 г. в руки Курчевского попали документы лаборатории Д.П. Рябушинского. Попали, скорее всего, нелегально. Мне удалось найти в делах лаборатории Курчевского фотокопии документации Аэродинамического института Рябушинского. В военных и научных организациях России в 1917—1922 гг. не практиковалось фотографирование документов. Их перепечатывали на машинке, переписывали от руки, делали «синьки» (цианотилия).
В 1923 г. Л. Курчевский и сотрудник отдела военных изобретений ВСНХ [19]19
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства.
[Закрыть]С. Изенбек подали заявку на изобретение безоткатного орудия (ДРП).
С весны этого года Курчевский буквально бомбардировал письмами все инстанции, вплоть до главкома Вооруженных Сил С.С. Каменева, предлагая свои ДРП. Это дало результаты: завод № 8 (им. Калинина) получил указание переделать в ДРП две 57-мм пушки Норденфельда. 20 сентября 1923 г. обе пушки испытали на подмосковном полигоне в Кунцеве. На стрельбах присутствовал сам заместитель председателя Реввоенсовета Эфраим Склянский. Результат: 25 сентября на специальном совещании под председательством Каменева постановили начать работы по созданию полковой пушки ДРП и автоматический «самолетной ДРП».
16 октября 1923 г. Курчевский направляет главкому Каменеву проект 102-мм авиационной ДРП. Вес пушки с установкой 160 кг. В боекомплект входили 20 унитарных картечных выстрелов весом по 24 кг. Итого вес боекомплекта с пушкой был 640 кг. Начальная скорость снаряда была невысока – 348 м/с. Картечь содержала 85 картечных пуль весом по 200 г. По расчетам Курчевского, на дистанции 330 м площадь поражения должна составить 40 квадратных сажень. Проект был одобрен, и Курчевский приступил к созданию авиационной пушки, не прерывая, впрочем, работы над сухопутными орудиями.
25 сентября было собрано совещание под председательством главкома Каменева, которое постановило:
1. Изготовить опытную ДРП из 57-мм береговой пушки на тумбе и испытать ее.
2. Разработать автоматическую самолетную ДРП и выяснить, на каком аппарате ее можно установить.
3. Разработать полковую ДРП калибра 57 мм, весом 2 пуда, с дальностью стрельбы 2000 м и углом возвышения больше или равным 35°.
4. Приступить к разработке бездымного и беспламенного заряда для ДРП.
Однако довести 102-мм авиационную пушку и другие ДРП Курчевскому не удалось. 23 сентября 1924 г. ОГПУ арестовало Курчевского, но не за «политику», а «за расхищение государственного имущества». Сам Курчевский утверждал, что казенные деньги он потратил на проектирование вертолета. Так или иначе, но ни денег, ни вертолета в наличии не оказалось.
Коллегией ОГПУ Курчевский был осужден к 10 годам лишения свободы. Срок отбывал Курчевский на Соловках. Кипучая энергия и страсть к изобретательству не оставили его и там. Начальство обратило на него внимание и назначило заведующим электрохозяйством УСЛОНа. Курчевский наладил работу местной кузнецы, сделал лодку повышенной проходимости (во льду) и, по некоторым данным, – даже действующую модель ДРП, которую после демонстрации лагерному начальству якобы утопил в море.
Постановлением комиссии ОГПУ от 3 января 1929 г. Курчевский был досрочно освобожден.
За время отсутствия Курчевского многое изменилось. Безоткатными орудиями, независимо друг от друга, стали заниматься многие ученые и организации, например, Газодинамическая лаборатория под руководством Б.С. Петропавловского, коллектив «особой комиссии» под руководством профессора Беркалова, и другие.
В конце 1924 г. по приказанию заместителя председателя Реввоенсовета СССР И.С. Унщдихта была организована Особая комиссия под руководством Трофимова в составе Розенберга, Соколова, Рдултовского, Федорова, Самсонова «для изучения имеющегося образца трехдюймовой гаубицы ДРП и разработки на том же основании новых более усовершенствованных образцов таких гаубиц». Речь идет о 76-мм гаубицах, сконструированных сотрудниками Косартома (Комиссии особых артиллерийских опытов) и, в частности, Беркаловым.
В 1925 г. комиссия под руководством товарища Саахава испытала несколько 76-мм гаубиц. Тела были изготовлены из негодных для службы 3-дм полевых пушек.
Первый вариант. 3-дм гаубица № 1-В, заряжаемая с дула, с ниппелем в 70 мм и навинчиваемой короткой задней воронкой и с тонкой дульной частью. Эта гаубица с цапфенными кольцами и с цапфами, так как она предполагалась для наложения на первый вариант верхнего бронзового станка, разработанного Соколовым.
Второй вариант. 3-дм гаубица № 1-С, с расточенной зарядной каморой и с утолщенной дульной частью. Заряжание тоже с дула. Гаубица предназначалась для испытания стрельбой надульных, мин. Имела тот же наклон и позволяла навинчивать на нее задний срез или короткую, или другую, более удлиненную, заднюю воронку. Цапфы гаубицы позволяли накладывать ее на тот же бронзовый станок.
Третий вариант. 3-дм гаубица № 2 с чекой, заряжаемая с казны, без ниппеля, также позволяла навинчивать на задний срез ту или иную воронку. Гаубица имела кольцо с цапфами на тот же бронзовый станок.
Четвертый вариант. 3-дм гаубица № 1-Д такого же внутреннего устройства, как и № 1-В, с тем же ниппелем и возможностью навинчивать любую заднюю воронку, но с утолщенной дульной частью, как в гаубице № 1-С. Гаубица № 1-Д цапфенного кольца не имела, так как она предназначалась для наложения на новые варианты верхних станков, не требующих цапф у орудия.
Железный лафет системы Соколова с осью и деревянными колесами диаметром 610 мм с железным клином. Лафет этот имел верхнюю алюминиевую площадку для наложения на нее верхних станков системы Соколова обоих вариантов, соединяемых с нею посредством особого стяжного хомутика.
Стальная тренога системы Соколова. Ноги для лучшей устойчивости связаны тремя шарнирными тягами, другими концами укрепленными на подвижной муфте, скользящей по средней трубке треноги. Накладываются все станки разрабатывающихся систем. Алюминиевая тренога Соколова – того же устройства.
Снаряды:
а) фугасный содержал около 0,65 кг тротила, с алюминиевой головкой и ведущим задним медным кольцом, навинченным на дно снаряда на оловянном припае;
б) картечь с папковыми парафинированными боковыми стенками, стальной донной частью и деревянной головкой. Содержала 280 пуль по 11 грамм;
в) надульная мина весом 8 кг с ВВ около 4 кг. Мина с трубчатым хвостом и тремя стабилизирующими крыльями.
Гильза разработана составная, имевшая боковые стенки из особой сгорающей ткани, заднюю стенку – деревянную, боковую чашку и металлический поддон.
Боевой заряд – из быстро горящего пироксилинового пороха завода Ротвейль, весом 250 г.
Испытания проводились в присутствии комиссии, возглавляемой Дыбенко. В первый день, 11 ноября 1925 г., производилась стрельба из гаубицы № 1-Д на стальном треножном станке фугасными снарядами и картечью. Отмечено слабое действие картечи по деревянному щиту (41% пробоин, засело 38% пуль, отскочило – 21% пуль). Мала начальная скорость.
Испытание надульных мин велось из одного тела гаубицы № 1-С без лафета. Гаубица укладывалась на накладную стенку окопа и привязывалась к двум кольям, вбитым по сторонам. При последнем выстреле гаубица была установлена на деревянные салазки Соколова (первая их проба), положенными на тупую наклонную стенку окопа и привязанными также к кольям. Всего сделано 3 выстрела минами весом около 8 кг с зарядом 0,25 кг пороха Ротвейль, под углом 45°.
У первой мины разорвался хвост близи от дула, и мина полетела неправильно. Сама мина разбилась. У двух других мин полет был правильный. Дальность падений – 685 м и 700 м, при боковом разлете между ними 20 м. Салазки при выстреле разбились. Минами из гаубицы стреляли и ранее, а разорвавшаяся мина была новой системы. Выявлена необходимость привязывания гаубицы при стрельбе, так как мина своим хвостом свободно движется по дулу гаубицы, и не получается силы, тянущей гаубицу вперед, как у калиберных снарядов.
Второй день испытаний проходил 12 ноября 1925 г. Велась стрельба фугасными снарядами.
Таблица 3.
Результаты испытаний 12 ноября 1925 г.
Угол, град. …… Дальность средняя, м – Отклонения (По дальности, м / Боковое, м)
Гаубица №1-Д
16 …… 1419 – 26,8 / 1,9
25 …… 1883 – 43,2 / 3,9
40 …… 2200 – 28,8 / 10,4
Испытывались и различные типы авиационных пушек. Среди них 47-мм пушка ДРП. Первая стрельба состоялась на НИАПе [20]20
НИАМ – Научно-исследовательский артиллерийский полигон.
[Закрыть]22 декабря 1927 г.
Таблица 4.
Результаты стрельбы 22 декабря 1927 г.
Заряд, г …… Начальная скорость, м/с – Давление в канале ствола, кг/см2
40 …… 151 – 1625
50 …… 214 – 2345
На испытаниях 29 декабря 1927 г. была получена начальная скорость 234 м/с.
В 1928 г. велись испытания 47-мм ДРП с тяжелым стволом.
Таблица 5.
Результаты испытаний 2 февраля 1928 г.
Вес снаряда, кг …… Вес поддона, кг – Начальная скорость, м/с – Примечания
1,2 …… 1,32 – 312
1,093 …… 1,32 – 327 – Отмечен наброс вреред
При стрельбе из этой 47-мм пушки поддон (тяжелая гильза) вылетал назад.
Известный историк авиации В.Б. Шавров писал: «В 1923 г. и позже на самолете Ю-13 производились опыты с пушками калибра до 6 дм (152 мм)» {25} .
К сожалению, я сам этих дел не видел и могу добавить, что одномоторные самолеты Ю-13 («Юнкерсы») с полетным весом 1900 кг в количестве 20 штук были закуплены за рубежом и 50 машин собрано на заводе в Филях.
Всего с 1924 по 1929 г. было испытано несколько десятков типов безоткатных орудий калибра 37—107 мм (большинство же орудий имело калибр 76,2 мм). Так, в 1925 г. на НИАПе было испытано 7 различных систем ДРП, в 1926 г. – 5 систем, в 1927 г. —11 систем, в 1928 г. —13, и в 1929 г. – 13 систем.
Была проделана огромная научная и конструкторская работа и испытаны почти все типы безоткатных орудий, известные на сегодняшний день. В их числе:
а) Казнозарядные и дульнозарядные системы.
б) Стволы гладкие, нарезные для обычных поясковых снарядов, нарезные с углубленной нарезкой для снарядов с готовыми выступами.
в) Орудия, у которых заряды помещались в гильзах из сгорающей ткани, в картонных гильзах, в перфорированных металлических гильзах. Часть гильз имела металлические, деревянные и картонные поддоны.
Кроме того, с 1927 г. испытывались 47-мм авиационные пушки с инертной массой, в качестве которой была использована тяжелая металлическая гильза, вылетающая через сопло.
Подавляющее большинство безоткатных систем дошло только до стадии испытаний опытных образцов, и лишь некоторые – до стадии войсковых испытаний.
Вот, к примеру, 18 февраля 1929 г. Курчевский отправляет письмо начальнику ВНИК Янсону [21]21
Янсон Карл Иванович (1894—1938) окончил школу прапорщиков военного времени. Председатель Военно-научного исследовательского комитета при Реввоенсовете СССР.
[Закрыть]:
«Настоящим доношу, что в Ленинграде мне было предъявлено к осмотру две пушки (гаубицы): 1) заряжаемая с дула, 2) заряжаемая с казны, построенные на полигоне специальной комиссией по ДРП.
Гаубицы устанавливаются на треноге или, по желанию, на пулеметном станке. После осмотра был произведен один выстрел и даны объяснения тов. Беркаловым. При использовании снаряда весом 3,15 кг и заряда 400 г начальная скорость снаряда – 180 м/с, дальность стрельбы – 2 км, давление газов – 2300 атм. При стрельбе снарядом весом 6 кг – начальная скорость снаряда 90 м/с.
Вывод:
1. Осмотренные гаубицы не являются орудиями, построенными на основании разумно усвоенного и разработанного принципа ДРП…
2. Единственное свойство, оставшееся от ДРП, – безоткатность, однако заимствованное от ДРП сопло не используется по прямому назначению – для увеличения реакции струи, а следовательно, и повышения начальной скорости снаряда.
Вследствие непомерного уширения сопла, примерно до 60° взамен допустимого 10°, его роль сводится к простому надульнику [Курчевский имеет в виду дульный тормоз. – А.Ш.],лишь тормозящему откат ствола, без всякого влияния на улучшение баллистических качеств орудия.
3. Заряд воспламеняется в передней части, что противоречит самому принципу ДРП.
4. Полученное давление – 2300 атм – чрезмерно велико и используется очень плохо, так как начальная скорость снаряда всего 180 м/с.
5. Благодаря большому давлению уничтожается ценное свойство ДРП – применение легких, с тонкой оболочкой, дешевых снарядов с большим количеством взрывчатого вещества.
Если сопоставить результаты работы Комиссии с бывшими у меня ранее, то получится такая картина: скорострельность упала с 30 до 7 выстрелов в минуту.

Таким образом, невзирая на большой вес тела орудия, большой заряд и громадное давление в канале, живая сила снаряда гаубицы Беркалова в четыре раза меньше, чем живая сила снаряда ДРП.
По словам Комиссии, работавшей над ДРП, она не получила после меня никаких теоретических материалов. Первые стрельбы, по-видимому, производились бракованными снарядами, может быть, этим и объясняется столь малая успешность работ Комиссии.
Никакого существенного улучшения работы орудия Беркалова ожидать нельзя. Таким образом, вся работа Комиссии, за исключением некоторых мелких деталей конструктивного характера, оказывается безрезультатной. Необходимо вернуться к неискаженному принципу “ДРП”. При этом, я полагаю, удастся построить:
1. Дешевое легкое полковое орудие с дальностью стрельбы 4—5 км, калибром 3 дюйма.
2. То же легкое “тяжелое орудие” калибром 5—6 дюймов с дальностью 5—6 км.
3. Легкую противотанковую пушку калибром 2—2,5 дюйма, способную пробивать броню 20—25 мм на расстоянии 1000 м.
4. Картечницу 3—4-дюймового калибра для вооружения самолетов, для борьбы с самолетами противника.
Полковую артиллерию считаю необходимым сделать самоходной. Весьма заманчивым представляется установка 3-х дюймовой гаубицы на шасси прицепки мотоцикла “Харлей” и 6-дм пушки на шасси легкового автомобиля “Форд”.
Такое орудие, обладая большой скоростью передвижения (до 80 км/час), проходимостью по любым дорогам и даже без дорог, большим запасом снарядов, возимых с орудием (40—50 шт.), и громадной мощностью огня, должно в корне изменить нашу тактику».
Давайте спокойно разберемся, насколько справедлива критика Курчевским созданных к 1928 г. орудий Беркалова и других.
Сравним данные 76-мм ДРП малой и большой мощности с данными 76-мм батальонной пушки Курчевского БПК, испытанной в октябре 1932 г.
Таблица 6
Орудие …… ДРП-4 ММ – ДРП-4БМ – ВПК
Калибр, мм …… 76,2 – 76,2 – 76,2
Длина ствола с воронкой, мм …… 1060 – 1447 – 1900
Вес тела орудия с воронкой, кг …… 56,4 – 66,1 – 90,5
Вес системы в боевом положении, кг …… 109 – 138 – 162,5
Скорострельность без изменения наводки, выстр/мин. …… – / 3 / 5-6
Вес снаряда, кг …… 6,41 – 6,5 – 4,7/6,5
Начальная скорость, м/с …… 160 – 265 – 350/252
В ходе сравнительных испытаний ДОР-4 и БПК в мае 1932 г. на НИАПе при больших (больше 20°) углах возвышения у ДРП-4 БМ струя выхлопных газов делала меньшую воронку, чем у БПК.
Ну а мы посмотрим внимательно таблицу. Весогабаритные характеристики у БПК в среднем в 1,5 раза больше, чем у обеих ДРП-4. А это весьма важно для батальонных орудий. Проблема перевозки у обеих ДРП была решена – в конских вьюках и на «тавричанках». У БПК – фактически не решена. В 1933 г. еще пытались по шоссе (!) возить ее за автомобилем со скоростью 30 км/ч – лафет развалился.
Курчевский хвастался скорострельностью своей пушки в 30 выстр./мин., а на полигоне без исправления наводки – всего 5—6 выстр./мин. (хотя и выше, чем у ДРП-4). «Живая сила», по Курчевскому, у гаубицы Беркалова в 4 раза меньше. А при одинаковом снаряде баллистика ДРП-4 БМ и БПК одинаковые. То есть налицо вранье Леонида Васильевича.
А теперь вспомним выражение классика: «Практика – критерий истины». 76-мм БПК Курчевского промышленностью было произведено существенно больше, чем ДРП-4 БМ и ММ вместе взятых. А на 1 сентября 1936 г., то есть на момент заката «Курчевщины», в РККА состояло на вооружении 526 орудий ДПР-4 БМ и 40 ДРП-4 ММ, то есть всего 566 штук. А вот БПК – всего 405 штук {26} . Кстати, в 1935 г. последние заказанные 150 БПК были сняты с заказа промышленности {27} .
Риторический вопрос: что, все командиры и военпреды РККА дураки и предпочли худшее лучшему?
Далее мы увидим, что компрометация конкурентов и наглое очковтирательство, включая липовые отчеты об испытаниях орудий, принесли ему временный успех.
Глава 4.
ТОТАЛЬНАЯ «КУРЧЕВЩИНА»
И Тухачевский решил полностью перевооружить артиллерию РККА безоткатными орудиями.
Несколько забегая вперед, скажу, что в июне 1935 г. Тухачевский попытался заставить Грабина переключиться на безоткатные орудия. Вот как описывает это сам Грабин: «В этот день Тухачевский предложил Магдасееву, начальнику КБ одного артиллерийского завода [“Большевик”. – А.Ш.] и мне ехать в Москву в его машине. В дороге Тухачевский обратился ко мне с вопросом» как я расцениваю динамо-реактивную артиллерию, иначе говоря, безоткатные орудия.
Я ответил приблизительно так: безоткатные орудия имеют то преимущество, что при одинаковой мощности они легче классических пушек. Но у них есть и ряд недостатков, при этом существенных, которые совершенно исключают возможность создания всей артиллерии на этом принципе. Динамореактивный принцип не годится для танковых пушек, казематных, полуавтоматических и автоматических зенитных, потому что при выстреле орудийный расчет должен уходить в укрытие – специально вырытый ровик. По этой же причине динамо-реактивный принцип не годится и для дивизионных пушек: они не смогут сопровождать пехоту огнем и колесами. Безоткатные пушки могут и должны найти широкое применение, но только как пушки специального назначения.
Тухачевский заговорил не сразу, видимо, он размышлял над моими словами, которые шли вразрез с его взглядами.
Спустя некоторое время он спросил:
– А не ошибаетесь ли вы?
– Я много раз обдумывал этот вопрос и всегда приходил к одному и тому же выводу.
– Вы только поймите, какие громадные преимущества дает динамо-реактивный принцип! – с горячностью заговорил Тухачевский. – Артиллерия приобретает большую маневренность на марше и на поле боя, и к тому же такие орудия значительно экономичнее в изготовлении. Это надо понять и по достоинству оценить!
– Согласен, что меньший вес пушки увеличивает ее подвижность, я к этому тоже стремлюсь и полагаю, что применение дульных тормозов может очень помочь конструктору. Что же касается экономичности, то заряд динамо-реактивного орудия приблизительно в три-четыре раза больше, – это во-первых.
– Во-вторых, кучность боя у безоткатной пушки значительно ниже, чем у классической пушки. Поэтому для решения одной и той же задачи безоткатной пушке потребуется гораздо больше времени и снарядов, чем классической. Так что безоткатная пушка не в ладах с экономикой. Не говорю уже о том, что скорострельность безоткатной пушки значительно ниже. И точность наведения на цель меньше.
Разговор становился все острее и острее. Не мог я согласиться с доводами Тухачевского, они были слабо аргументированы. Но и мои доводы, по-видимому, не убеждали его. После долгих дебатов Михаил Николаевич сказал:
– Вы молодой конструктор, подающий большие надежды, но вы не замечаете того, что тормозите развитие артиллерии. Я бы посоветовал вам еще раз более тщательно проанализировать вопрос широкого применения динамо-реактивного принципа, изменить свои взгляды и взяться за создание безоткатных орудий.
Как военный человек, обязанный соблюдать субординацию, я должен был прекратить полемику.
Конечно, мои доводы вызвали у Тухачевского неудовольствие.
В артиллерии главным всегда считалось эффективное разрушение цели противника. Орудие, легко доставленное на огневую позицию, но не способное в короткий срок решить боевую задачу, никому не нужно.
Подчеркну еще раз: мы никогда не утверждали, что безоткатные орудия не нужны. Требовалось разумное сочетание тех и других орудий, а не огульное исключение классических.
Автомашина катила вперед, а наш разговор больше не клеился.
В безмолвии доехали до дачи Тухачевского в Покровско-Стрешневе. Михаил Николаевич пригласил нас на чашку кофе. Он оказался на редкость гостеприимным. У него дома мы быстро нашли общие темы, и чем дольше сидели, тем оживленнее становилась беседа, но артиллерии не касались. Так и пошло у нас с ним: мы были в прекрасных отношениях, пока не касались артиллерии. Как только доходило до артиллерии, занимали разные позиции и становились противниками. По молчаливому уговору, мы оба старались не задевать этой темы.
Уже поздней ночью мы с Магдасеевым уезжали из Покровско-Стрешнева. Прощаясь, Тухачевский посоветовал мне еще раз подумать о безоткатных орудиях. Я не стал повторять, что этот вопрос для меня достаточно ясен. По дороге в гостиницу, да и придя в свой номер, я думал о другом: конечно, начиная разговор, он не ожидал встретить с моей стороны серьезных возражений. По-видимому, искренне убежденный в своей правоте, он не мог доказать ее, но, человек увлекающийся, горячий, отступать не считал для себя возможным.
Как я понял, ему до сих пор не только никто не возражал относительно его идеи перевода всей артиллерии на динамо-реактивнй принцип, но даже поддакивали. Еще сильны пережитки прошлого в людях: не все решаются говорить начальству правду, тем более если знают, что эта правда будет начальству неприятна. Я же, как специалист, не мог, не имел права не возражать ему» {28} .
Сразу скажу, что я не считаю воспоминания маршалов и генеральных конструкторов, написанные спустя 40—50 лет после описываемых событий, истиной в последней инстанции. Тем более что с воспоминаниями Грабила здорово поработали «черные перья» уже после смерти Василия Гавриловича. Но тут прорвался настоящий Грабин, и я не уверен, что в оригинале это не было сказано о маршале более жестко.
Впервые Тухачевский увидел стрельбу ДРП 29 марта 1928 г. и был поражен увиденным. Только вот зачем назад летит струя раскаленных газов – это лишнее. И вот 9 апреля 1928 г. Тухачевский пишет директиву: «К дальнейшим опытам надо доработать ДРП с тем, чтобы уничтожитьдемаскирующее действие газовой струи. Срок доработки 1 августа 1928 г. Поставить вопрос о совмещении зенитной пушки с противотанковой». Комментарии, как говорится, излишни. Как не вспомнить Гоголя: «Легкость в мыслях необыкновенная».
Поначалу Тухачевский восхищался системами ДРП Беркалова, но, познакомившись поближе с Курчевским, понял, что ему нужен именно такой человек.
Леонид Васильевич был крупным мужчиной, чрезвычайно самоуверенным и наглым. Ну а главное, он умел делать себе рекламу. Лет 30 назад я ходил на теплоходе до Астрахани, и моим соседом был известный танковый конструктор Николай Александрович Астров. Он несколько раз видел Курчевского и характеризовал его как крайне напористого и наглого человека. Когда на полигон должно было прибыть большое начальство, Курчевский одевался в замасленный комбинезон и, взвалив на плечо 37-мм танковую пушку, весившую всего 44 кг, всеми силами старался попасться на глаза комиссии – такое зрелище неспециалисту запоминалось на всю жизнь.
Я лично видел в архиве Советской армии протокол заседания, где Леонид Васильевич доказывал, что украденный на заводе № 38 пуд меди (его, скорее всего, толкнули и пропили работяги) есть акт вредительства с целью сорвать производство его сверхсекретных пушек.
Курчевскому сравнительно быстро удалось сделать своими сторонниками наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, его заместителя Павлуновского, начальника артиллерийского управления снабжения РККА Кулика и др. Но «идеологом» внедрения безоткатных орудий, несомненно, стал М.Н. Тухачевский. Так, Тухачевский даже написал восторженное предисловие к совершенно секретной монографии Курчевского «Элементарная теория динамо-реактивной пушки».
Возражать против разработки такого мощного орудия боялись все, от членов комиссии на полигонах до директоров артиллерийских заводов, получавших телеграммы от Орджоникидзе, типа «…если завод № 7 к… не освоит выпуск орудий Курчевского, то директор будет снят с работы», а что за этим следовало, мы теперь знаем.
И вот Михаил Николаевич попытался перевооружить всю армию, авиацию и флот на системы Курчевского.
Курчевский спроектировал десятки типов динамо-реактивных пушек, самолетов, автомобилей и т.д. и т.п. Но если задать вопрос, а что из всех великих изобретений осталось, скажем, если не к 1951 г., то к 1941 г., то получится тождественно ноль. Ни одна пушка, ни один автомобиль или самолет, да просто ни один агрегат или даже узел агрегата не использовались в годы Великой Отечественной войны, я уж не говорю, что после нее.
Суть изобретений, я бы назвал «самоделок на коленке», Курчевского сводилась к нескольким идеям – для создания безоткатной пушки (ДРП) следует обрезать по затвор обычное нарезное орудие и в ствол вставить сопло Лаваля. (Документацию на сопло и его расчеты Курчевский нашел в материалах Рябушинского.)
Для читателя-гуманитария придется дать маленькие разъяснения. Для того чтобы из сопла вытекал сверхзвуковой поток, необходимо, чтобы оно было специальным образом профилировано. В самом деле, газ вытекает из пороховой каморы с малой скоростью, меньшей скорости звука. Следовательно, для ускорения потока необходимо, чтобы сопло на начальном участке сужалось. При достаточно большой разности давлений скорость потока в самом узком сечении станет равной местной скорости звука. Если сопло дальше расширяется, то поток будет продолжать ускоряться. Сопло, работающее в таком режиме, и называется соплом Лаваля.
Благодаря соплу Лаваля Курчевскому удалось в своих орудиях иметь максимальное давление в канале от 1600 до 3200 кг/см 2. Замечу, что давление 3200 кг/см 2в те годы считалось предельным для обычных артиллерийских орудий. Таким образом, орудия Курчевского имели тяжелый «нагруженный» ствол с нарезкой обычного орудия. Автор просмотрел техническую документацию на десятки образцов орудий Курчевского, но иных схем не нашел.
Заряжание в пушках Курчевского было двух типов – обычное казнозарядное и автоматическое дульнозарядное.
В первом случае снаряд помещался в латунную гильзу, штатную от состоявших на вооружении орудий. В ней только вырезали на дне отверстие для выхода пороховых газов. Затвор соединялся с соплом и вручную сдвигался при заряжании.
37—152-мм автоматические орудия Курчевского заряжались унитарными патронами с гильзами из нитроткани. Патроны перемещались к дулу по цилиндрическому магазину, расположенному над стволом, а далее попадали в специальный лоток перед дульным срезом, оттуда специальным устройством досылались в канал ствола. Все операции производились пневматическим приводом. Сжатый воздух подавался из специального баллона. Понятно, такая автоматика не могла обеспечить высокий темп стрельбы. Так, для 76-мм авиационных пушек расчетный темп стрельбы—40 выстрелов в минуту, а фактический – 20—30 выстрелов в минуту. Для сравнения скорострельность 76-мм пушки ЗИС-3 без исправления наводки доходила до 20 выстрелов в минуту.
Гильза из нитроткани по проекту должна была полностью сгорать, но делать этого она не хотела, да еще и рвалась в магазине при подаче. В результате – систематические отказы при подаче и разрывы ствола. Кстати, проблема создания сгорающих гильз до сих пор полностью не решена.
Пушки Курчевского показывали на полигонных испытаниях прекрасные результаты. Они стреляли снарядами от штатных пушек, но были на порядок легче их. Само по себе испытание ДРП было эффектным зрелищем. Курчевский любил ставить стакан с водой на ствол или лафет орудия. Оглушительно гремел выстрел, из сопла орудия на десятки метров вылетало пламя, но вода в стакане даже не расплескивалась – конструктору удалось свести силу отката к нулю.
Курчевский повсюду рекламировал, даже буквально пробивал свои орудия. Скептически настроенные старые военспецы немедленно получали от него политические ярлыки, вплоть до «вредителей».
Сторонники Курчевского упрекнут меня в очернительстве. Ну что ж, давайте разбираться в деталях, чем великий маршал хотел вооружить нашу армию, авиацию и флот.