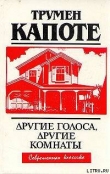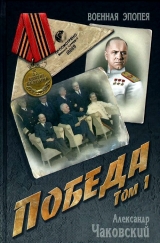
Текст книги "Победа. Том 1"
Автор книги: Александр Чаковский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц)
Приехав на аэродром, Воронов узнал, что прибытие Трумэна ожидается примерно через полчаса. На поле не было ни одного самолета. У взлетно-посадочной полосы толпились люди в американской, английской и французской военной форме. Человек двести, не меньше. Над их головами возвышались установленные на штативах кино – и фотокамеры, а окружало их овальное кольцо американских солдат. Несколько в стороне расположился американский почетный караул.
Английский офицер остановил машину Воронова метрах в двухстах от летного поля. Он бросил беглый взгляд на «эмку», подошел к дверце, которую приоткрыл Воронов, держа наготове пропуск с тремя флажками, и сразу спросил:
– Русский?
– Советский, – по-английски ответил Воронов.
– Одно и то же, – глянул на пропуск офицер. – Паркуйтесь вон там. – Он указал на несколько десятков машин самых разнообразных марок, сгрудившихся в отдалении.
– Олл райт, – кивнул в ответ Воронов и показал своему неразговорчивому старшине-шоферу, куда поставить машину. Затем подхватил лежавший на заднем сиденье «ФЭД», в просторечии именуемый «лейкой», и быстрыми шагами направился к толпе, стоявшей у взлетной полосы.
Подойдя ближе, он увидел, что в оцеплении американских солдат есть узкий проход. Солдаты стояли плечом к плечу, образуя сплошную цепь, но среди них были два офицера, которые находились друг против друга на расстоянии шага. Между ними в лучшем случае мог протиснуться один человек.
Когда Воронов приблизился, офицеры сомкнулись и настороженно посмотрели в сторону одетого в штатский костюм человека, на плече которого висел фотоаппарат.
Воронов протянул одному из офицеров пропуск с тремя флажками и сказал по-английски:
– Советский фотокорреспондент.
Несколько секунд оба офицера внимательно разглядывали пропуск. Один из них сжимал рифленую рукоятку пистолета, выглядывающего из кобуры. Было жарко, по лицам офицеров струился пот. Возвращая Воронову пропуск, офицер сказал:
– Проходите. Правый третий квадрат.
«Какой еще квадрат?» – удивился Воронов.
Снимать прибытие американского президента он не собирался, прекрасно понимая, что это гораздо лучше сделают настоящие фото – и кинокорреспонденты.
Разглядев в толпе знакомые лица корреспондентов советской кинохроники, Воронов стал пробиваться к ним и оказался в журналистской толкучке. Беспорядочной и пассивной она казалась только издали. Здесь все были заняты делом. Фотокорреспонденты вскидывали экспонометры. Короткими очередями стрекотали и тут же замирали кинокамеры – операторы проверяли свою аппаратуру.
Люди то и дело вглядывались в сторону горизонта, боясь пропустить появление самолета.
Но в небе ничего не было видно.
Вдруг кто-то оглушительно крикнул по-английски:
– Тихо!
Многоголосый шум тотчас смолк. Откуда-то издалека донеслось едва различимое гудение, похожее на вой ветра в горах.
Рядом с Вороновым стоял молодой американец-корреспондент. Он прижимал к груди фотоаппарат. Рыжеватый, веснушчатый, с мокрым от жары лицом, в рубашке с расстегнутым воротом и закатанными ниже локтей рукавами, в сдвинутой набок пилотке, он то и дело вставал на цыпочки, стремясь приподняться над толпой. Полные, мальчишеские губы его были плотно сжаты от напряжения. Время от времени он вскидывал вверх свою фотокамеру, как бы репетируя бесприцельную съемку.
Гудение становилось все отчетливее. Наконец на горизонте показались три серебристые точки – одна впереди и две несколько поодаль, справа и слева. Над головами людей взметнулись фотоаппараты и ручные кинокамеры.
Иностранные корреспонденты бросились к взлетной полосе, но стоявшие в оцеплении солдаты прикладами автоматов преградили им путь.
Постарался пробиться вперед и веснушчатый американец, но толпившиеся впереди коллеги и соотечественники, не оборачиваясь, локтями вернули его на прежнее место.
Самолет уже мчался по бетонной полосе, замедляя ход и с каждой секундой увеличиваясь в размерах, а сопровождавшие его истребители промчались над аэродромом и скрылись за горизонтом. Это была огромная четырехмоторная машина с изображением герба президента Соединенных Штатов на фюзеляже.
Откуда-то появился трап – несколько американских солдат катили его навстречу самолету. Взревели и сразу же смолкли моторы. Самолет остановился. Воцарилась тишина.
Прошло несколько минут томительного ожидания. Наконец дверь самолета раскрылась и на трапе показался человек.
Застрекотали кинокамеры, часто защелкали затворы фотоаппаратов.
Еще не успев как следует рассмотреть стоявшего на площадке человека, Воронов вскинул «лейку», щелкнул затвором, поспешно взвел его, щелкнул еще раз. Он снимал без особой цели, просто на всякий случай, повинуясь журналистскому инстинкту. Потом, опустив камеру, стал с интересом разглядывать президента, все еще стоявшего на площадке трапа.
Трумэн был в сером двубортном костюме, с ослепительно ярко – синей с белым горошком «бабочкой» вместо галстука. Такой же синий с белым горошком платок высовывался из кармана его пиджака, прикрывая край лацкана. Двухцветные туфли из сморщенной, словно старый пергамент, видимо, крокодиловой кожи выделялись на фоне трапа, покрытого красным ковром. В первое мгновение лицо Трумэна показалось Воронову неприятным. Тонкие, пак ниточки, губы были плотно сжаты. Рот казался от этого злым, а лицо, на котором поблескивали овальные очки в тонкой оправе, – птичьим.
Но в следующее мгновение губы президента разжались, он широко улыбнулся и приветственно помахал рукой…
Стоявший рядом с Вороновым веснушчатый американец высоко поднял свой аппарат, торопясь запечатлеть улыбку президента, но тяжелая камера выскользнула у него из рук и с треском упала на землю.
– О боже! – воскликнул американец. Он растолкал соседей, поднял камеру и, чуть не плача, смотрел на разбитый объектив.
Воронову показалось, что окружающие смотрят на парня без всякого сочувствия, насмешливо и даже злорадно.
– Возьмите мой аппарат! – неожиданно для самого себя воскликнул Воронов, протягивая американцу свою «лейку» – «ФЭД».
Тот бросил на него растерянный взгляд.
– Да берите же, черт побери! – тыча лейкой в грудь американца, громко крикнул Воронов. – Здесь еще десятка два неиспользованных кадров!
– О нет, сэр… Благодарю вас, сэр! – пробормотал американец, но тут же почти вырвал из рук Воронова фотоаппарат и, по-бычьи наклонив голову, рванулся вперед.
Трумэн все еще стоял на площадке трапа, по-прежнему широко улыбаясь. Видимо, он хорошо понимал, что должен быть многократно запечатлен, и точно рассчитал, сколько времени для этого потребуется.
Не опуская руки и продолжая улыбаться, Трумэн стал наконец медленно спускаться по трапу. В дверях самолета показались американские военные. Толпа корреспондентов хлынула вперед, но ее быстро оттеснили американские полицейские, расчищая путь неизвестно откуда появившейся группе военных и гражданских лиц.
Эти люди по очереди подходили к президенту, пожимали ему руку и отходили в сторону.
После этого к трапу были допущены и корреспонденты. До Воронова, двинувшегося вместе со всеми, донеслись обрывки английских фраз: «Как долетели, мистер президент?..», «Два слова для „Нью-Йорк тайме“, мистер президент…», «Для ЮПИ…», «Для Эй Пи, мистер президент…»
Ответов Воронов не слышал. Он только видел, как шевелятся тонкие бескровные губы Трумэна, как голова его поворачивается из стороны в сторону. Президент спустился на землю и сразу очутился в толпе. Отовсюду к нему тянулись руки с блокнотами. Это продолжалось недолго и разом кончилось. Казалось, до Трумэна никому больше нет никакого дела. Корреспонденты отхлынули от президента так же поспешно, как бросились к нему. Теперь они устремились к почетному караулу, который был выстроен неподалеку. Между тем Трумэн, сопровождаемый солдатами с автоматами в руках и офицерами, державшими руки на пистолетах, шел по направлению к стоявшему неподвижно Воронову.
«Задать ему вопрос? – мгновенно подумал Воронов. – Но мне этого никто не поручал…»
Слыша свой голос как бы со стороны, он громко сказал:
– Я советский корреспондент, мистер президент! Как вы рассматриваете перспективы советско-американских отношений?
Как только корреспонденты разбежались, лицо Трумэна приняло прежнее холодно – замкнутое выражение. Услышав вопрос Воронова, президент снова улыбнулся.
– О-о! – произнес он, замедляя шаг. – Мы союзники! Следовательно, союз и дружба!
– Спасибо, мистер президент, – пробормотал Воронов уже в спину удалявшемуся Трумэну.
Оркестр заиграл американский гимн. Все застыли там, где в данную минуту находились. Трумэн обошел строй, затем мимо него продефилировали представители разных родов войск. Подкатил огромный черный лимузин с голубыми стеклами. Трумэн еще раз помахал рукой и сел в машину. Ее со всех сторон немедленно окружили «джипы». Вооруженные солдаты расположились не только на сиденьях – они висели на машинах буквально гроздьями – и на подножках, держась за металлические поручни, и прямо на капотах…
Раздался пронзительный вой сирены. Ей ответила другая. Сигналя, лязгая включаемыми скоростями, машины с особым шиком развернулись и под несмолкаемое завывание сирен, с места набирая скорость, исчезли в облаках пыли.
Воронов пошел по направлению к стоянке, где ждала его «эмка». В его ушах все еще слышались голоса кричащих, перебивающих друг друга людей, звучал американский гимн, шумели автомобильные моторы, пронзительно, словно возвещая воздушную тревогу, вопила сирена.
За спиной он услышал возглас:
– Простите! Одну минуту, сэр!
Воронов обернулся. К нему быстрыми шагами, почти бегом, приближался веснушчатый американец. Разбитая камера болталась у него на груди, а в руках он держал вороновскую «лейку».
«Черт побери. – мысленно выругался Воронов, – я же забыл о своем аппарате!..»
– Вы меня здорово выручили, сэр! – улыбаясь сказал американец. – Позвольте представиться. – Он протянул Воронову руку. – Чарльз Брайт. «Ивнинг геральд».Штаты. Вы ведь не американец?
– Легко догадаться по моему английскому, – с усмешкой ответил Воронов.
– О, ваш английский превосходен. Вы француз?
– Михаил Воронов, Совинформбюро, Советский Союз.
Американец крепко пожал протянутую ему руку, дважды сильно тряхнул ее и с недоумением посмотрел на Воронова:
– Бю-ро?..
Воронов сообразил, что произнес все это по-русски. Он повторил то же самое по-английски.
– Русский?! – восторженно воскликнул американец. – Спасибо, сэр… Как вы сказали?
– Воронов.
– Это имя?
– Фамилия. Зовут меня Михаил.
– Можно называть тебя просто Майкл? – с истинно американской непосредственностью спросил Брайт. – А меня зови Чарли. Легко запомнить. Все американцы – Чарли. Не знаешь, как зовут, называй «Чарли». – Он заразительно расхохотался.
– Хорошо, Чарли. Рад был тебе помочь. Давай камеру.
– Майкл, – неожиданно жалобным тоном произнес Брайт, – можешь съездить мне по физиономии. В колледже я занимался боксом, но сейчас стерплю.
Все это начало раздражать Воронова. Он не мог понять: паясничает американец, или говорит всерьез.
– Давай камеру, Чарли, – сухо сказал он, – скоро прилетит Черчилль…
– Уинни прилетит через час, – ответил Брайт, посмотрев на часы, – а в твоей камере заела перемотка…
Воронов не настолько хорошо знал английский, чтобы понять последние слова Брайта, но жалобная мина, с которой говорил американец, подсказала ему, что аппарат не в порядке.
Он решительно протянул руку. На этот раз Брайт покорно отдал ему камеру.
– Я отщелкал всю пленку, – виновато сказал Брайт. – Всю до конца. А с обратной перемоткой что-то заело.
Воронов попробовал покрутить ручку перемотки, но она намертво заклинилась. Очевидно, перфорация пленки соскочила с зубцов. Автоматическим движением Воронов хотел открыть камеру.
– Стоп! – неожиданно гаркнул Брайт, выхватывая аппарат из его рук. – Ты засветишь пленку! У меня вылетят из кармана пятьсот долларов. Ты хороший парень, Майкл, будь им до конца. Рванем сейчас в Берлин. В доме, где я живу, есть фотограф. Немец. Он проявляет мне пленку за блок «Лаки страйк». Через сорок минут мы вернемся, или я на твоих глазах сожру объектив этого проклятого «Спида». – Он тронул висевшую у него на груди разбитую камеру.
«Какого черта!.. – с раздражением подумал Воронов. – Ехать с этим растяпой в Берлин – значит наверняка прозевать Черчилля». Но, как старый фотограф – любитель, он понимал, что положение в самом деле безвыходное. Открыть камеру, не засветив отснятой пленки, можно было только в абсолютной темноте. Но и тогда пришлось бы отдать этому неудачнику всю пленку, в том числе и те несколько кадров, которые Воронов все же снял и которые могли ему пригодиться.
– Едем, Майкл, – умоляюще произнес Брайт, – будь союзником до конца!..
"Пропади ты пропадом! " – хотелось сказать Воронову, но он не знал, как перевести это на английский. Кроме того, растяпа Брайт искусно сыграл на союзнических чувствах. Воспользовавшись минутным замешательством Воронова, он уже тянул его к стоянке машин.
– Мой шофер не знает дороги, мы наверняка опоздаем, – бормотал Воронов на ходу.
– Твой шофер пока что может сделать бизнес и подбросить кого-нибудь за доллары или марки. Мы поедем сами…
Все дальнейшее произошло молниеносно. Старшина-водитель уже включил мотор, но Воронов крикнул ему:
– Жди здесь!
Лавируя между машинами, Брайт подбежал к стоявшему в отдалении «виллису». Водителя за рулем не было.
Брайт плюхнулся на сиденье, подвинулся, освобождая место Воронову, и повернул ключ зажигания, который, видимо, оставался в замке. Машина тронулась.
За всю свою жизнь Воронов не испытывал такой сумасшедшей езды. Брайт сидел не прямо или чуть склонившись к рулю, как обычно сидят русские водители, а откинувшись на спинку, чуть ли не развалившись. Покрытые рыжеватым пухом руки его небрежно лежали на рулевом колесе. Всей своей позой он демонстрировал залихватскую беспечность. Только губы были плотно сжаты, а глаза чуть сощурены.
«Виллис» мчался, почти не разбирая дороги, с ходу, как танк во время атаки, врезаясь в груды разбитых камней, подпрыгивая, словно самолет в первые минуты взлета или посадки. При этом Брайт оглушительно сигналил. Люди в военной форме и в гражданской одежде, едва завидев эту взбесившуюся машину, торопливо отбегали в стороны.
Воронову казалось, что прошло несколько минут, а машина уже ворвалась в Берлин и, не сбавляя скорости, мчалась по незнакомым ему улицам.
Резко затормозив чуть ли не на полном ходу, Брайт остановил машину около дома, не тронутого ни бомбами, пи снарядами.
– Приехали! – сказал он. Это было первое слово, произнесенное им с тех пор, как они сели в машину. – Четырнадцать минут сюда, – самодовольно продолжал Брайт. – Десять минут здесь. Четырнадцать обратно. Мы вернемся на двадцать минут раньше, чем прилетит английский толстяк! О'кэй!
Над одной из дверей дома висела небольшая самодельная вывеска. На ней было написано: «Фотография. Ганс Гетцке».
– Я помог этому Гансу восстановить его бизнес. Это ведь наша зона. У вас частный бизнес, кажется, не поощряется, – быстро говорил Брайт. – Гетцке обязан мне по гроб жизни.
Пинком ноги он распахнул дверь. Звякнул укрепленный над дверью колокольчик. Брайт, а за ним и Воронов почти вбежали в маленькую полутемную комнату-клетку, к тому же перегороженную прилавком. В противоположной стене виднелась еще одна дверь. Как только звякнул колокольчик, за прилавком появился немолодой худощавый человек в длинном пиджаке, похожем на пальто.
Положив на прилавок обе камеры – разбитую и целую, Брайт обрушил на фотографа поток слов. Он говорил по-английски, время от времени вставляя немецкие слова.
Фотограф растерянно глядел на него, кивая головой, но, видимо, не понимая, чего хочет от него этот возбужденный американец.
– Погоди! – сказал Воронов, кладя руку на плечо Брайта. – В этой камере заела обратная перемотка, – продолжал он по-немецки, – нужно вынуть пленку, проявить ее и снова зарядить. Другая камера разбита. Не можете ли вы на день одолжить ему свою, тоже заряженную. В нашем распоряжении десять минут.
– Ну что? – нетерпеливо спросил Брайт, когда Воронов смолк, а немец мгновенно исчез за своей дверью.
– Все в порядке, насколько я понимаю.
– Тогда поднимемся ко мне, – сказал Брайт. – Я здесь живу. На втором этаже.
– Но какой смысл? – Воронов посмотрел на часы. – Мы должны выехать через десять минут.
– Тем более, – категорически заявил Брайт, направляясь к выходу.
«На кой черт я с ним связался? – выругал себя Воронов. – Зачем дал ему свою „лейку“, верой и правдой прослужившую мне всю войну? Зачем поехал с ним сюда?»
Но делать было нечего, и он покорно поднимался вслед за Брайтом по грязной, давным-давно не мытой лестнице.
Судя по всему, Брайт занимал однокомнатную квартиру. В ней стояли небольшой столик, превращенный в письменный, и очень широкая кровать, прикрытая армейским одеялом. В углу – один на другом – громоздились картонные ящики. В них были то ли сигареты, то ли бутылки. На вешалке висели шинель и фуражка.
– Смешная квартирка, – сказал Брайт. – Кровать как пульмановский вагон.
Воронов выразительно поглядел на свои часы.
– Да, да, – заторопился Брайт, – сейчас отчалим. Погоди минутку…
Он подошел к стоявшему у стены комоду, открыл один из ящиков и, достав оттуда что-то, протянул Воронову:
– Держи. Тебе.
На широкой ладони лежали небольшие квадратные часы в металлическом браслете.
– Швейцарские, – с гордостью сказал Брайт.
Воронов почувствовал, что краснеет.
– У меня есть часы, – пробормотал он.
. – Швейцарские? – деловито спросил Брайт.
– Советские. Отец подарил.
– Почему ты не хочешь взять швейцарские? – по-прежнему держа часы на протянутой ладони, спросил Брайт. – Что-что, а банки и часы у них самые надежные в мире.
– Спасибо, Чарльз. – Воронов все-таки чувствовал себя растроганным. – Моя скромная услуга не стоит таких подарков.
– Кто говорит о подарках? – удивленно спросил Брайт, подбрасывая часы на ладони, – Купи! По дешевке. У Бранденбургских ворот такие стоят две тысячи марок. Отдаю за тысячу.
– Мне они не нужны. – Вместо растроганности Воронов уже испытывал раздражение.
– Бери за пятьсот. Ты хороший парень и здорово выручил меня. Мы же союзники.
– Нет!
– Тебе они просто не нравятся! Иди сюда!
На дне ящика лежало десятка полтора часов. Ручные, карманные, с браслетами, на ремешках…
– Бери любые, за одну цену. Как у Вулворта. Если нет денег, отдашь после.
– Мы опаздываем, – сухо сказал Воронов.
– Ну, как хочешь, – с обидой произнес Брайт. К удивлению Воронова, эта обида казалась искренней.
Он вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице, прислушиваясь, как Брайт возится с замком.
Два фотоаппарата уже лежали на прилавке: вороновский «ФЭД» и немецкий «контакс», приготовленный для Брайта.
Как только Воронов вошел, Гетцке торопливо заговорил с ним по-немецки.
– Что он лопочет? – спросил Брайт.
– Он говорит, что с твоим «Спидом-грэфиком» дело плохо. Надо менять объектив. Вряд ли можно найти его сейчас в Германии.
– А, черт! – воскликнул Брайт. – Придется выложить монету за новый.
– У Бранденбургских?
– Да нет! У наших фотокорреспондентов, – не поняв или не оценив язвительности вопроса, ответил Брайт. – Среди них есть запасливые ребята.
Об этом они говорили уже на ходу и усаживаясь в «ДЖИП».
«Странный парень», – подумал Воронов. Чем-то он был ему все-таки симпатичен. Чем именно? Может быть, беззащитной растерянностью, с которой он глядел на свои разбитый аппарат? Или порывом искренней, даже восторженной благодарности, , охватившим его, когда Воронов предложил ему помощь? А может быть, просто ребяческой, улыбчато-веснушчатой физиономией? Но какова бестактность с часами! После нее Воронов с удовольствием отделался бы от Брайта.
Прежде чем включить зажигание, американец посмотрел на часы.
– Все в порядке, – сказал он. – У нас вагон времени.
– Пожалуйста, не гони, – угрюмо попросил Воронов.
– Боишься быстрой езды? – с добродушной усмешкой спросил Брайт, включая двигатель. – Но ведь ты храбрый Это у тебя ордена? – Он посмотрел на орденские планки на пиджаке Воронова и, не глядя вперед, тронул машину.
– Теперь у всех ордена, – не отвечая на вопрос, неприязненным тоном отозвался Воронов.
– У меня тоже есть, – увеличивая скорость, сказал Брайт.
– За что?
– А-а… – мотнул головой Брайт, – не хочется вспоминать. Тащил на себе раненого командира полка. До медпункта. Жирный был боров!
– Это же подвиг!
– Какой, к черту, подвиг! Толстяк вообразил себя Патоном! Сначала выгнал меня из полка, а потом я же его тащил. Полез куда не надо. Видеть не хочу эту медаль. Валяется где-то в комоде.
Воронов понял, что этот парень, очевидно, отведал пороха.
Брайт опять разогнал машину – ездить спокойно, с нормальной скоростью, он просто не умел.
– Как тебе понравился Гарри? – неожиданно спросил он, поворачиваясь к Воронову. То, что Брайт вел машину на такой скорости, не глядя на дорогу, пугало Воронова.
– Какой Гарри?
– Наш президент.
Пренебрежение, с которым Брайт говорил о новом президенте США, показалось Воронову дешевым снобизмом.
Впрочем, и самому Воронову Трумэн не понравился, но он не хотел обсуждать это с Брайтон.
– Ты говоришь о президенте так, будто он твой близкий знакомый.
– Первый раз в жизни вижу, – пожал плечами Брайт. – Мой старик рассказывал, что в свое время не раз заходил к нему в лавочку.
– Какую лавочку?
– В его лавочку. Я ведь родом из Индепенденса. Ты, видимо, не знаешь биографии нашего нового президента. Впрочем, не смущайся, ее и в Штатах мало кто знает. А Индепенденс – маленький американский городок. Его тоже мало кто знает. Все вы думаете, что Америка – это Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.
– При чем тут лавочка?
– Я же тебе объясняю: Трумэн был хозяином галантерейной лавочки. Мой старик покупал в ней товары.
– Значит, в прошлом он бизнесмен?
– Отец? Нет, у него была ферма под Индепенденсом. Мы родом из Миссури.
– Я говорю о президенте.
– А-а… – пренебрежительно протянул Брайт. – Трумэн имел грошовый бизнес. Потом стал сенатором. У нас это быстро делается. Страна равных возможностей. Но машина у него хороша! Шесть тонн веса, броневая сталь, пуленепробиваемые стекла… Кстати, тебе удалось что-нибудь заснять?
– Что именно?
– Ну, президента. Его «Священную корову»…
– Какую корову?
– Боже мой, так называется его самолет! Ты не заснял и тех, кто его встречал?
– Зато ты это сделал, – сухо ответил Воронов, делая ударение на слове «ты».
– Верно, – самодовольно улыбнулся Брайт. – Один-ноль в твою пользу. Впрочем, и в мою тоже. Стимсон, Гарриман Мерфи – все они оказались в твоей коробочке. Ты хоть своих-то узнал в лицо?
– Своих?!
– Слушай, парень, при самом огромном спросе на фотокорреспондентов в Штатах у тебя не было бы никаких шансов. Я говорю о вашем после Громыко, Вышинском и…
– Разве они тоже были? – с искренним удивлением воскликнул Воронов.
– Были! И Колли, и Спаркс, и Клей! А кто нес почетный караул, знаешь? Солдаты и офицеры из дивизии «Черт на колесах».
"Этот парень, кажется, умеет работать! " – подумал Воронов, с невольным уважением посмотрев на Брайта.
Дорогу преградила группа военных. Насколько Воронов мог разобрать, это были англичане. Они стояли спиной к машине и о чем-то разговаривали. К удивлению Воронова, Брайт нажал на газ, хотя машина и так мчалась на огромной скорости. Метрах в десяти от военных англичан он дал оглушительно-резкий сигнал. Люди разбежались в разные стороны.
– Ты в уме? – воскликнул Воронов.
– Не люблю снобов, – сквозь зубы процедил Брайт.
… В ветровом стекле показалось поле аэродрома.
Теперь подъезды к нему охраняли уже не американские, а английские патрули. Первым предъявил свою белую карточку американец.
– Мистер Брайт? – спросил офицер.
– Герман Геринг, сэр, – с насмешливой почтительностью ответил Брайт.
– На виселицу не сюда, – без тени улыбки сказал офицер, возвращая Брайту карточку.
Потом он взял в руки документ Воронова.
– Россия?
– Советский Союз!
– Поторопитесь, джентльмены, – сказал офицер, протягивая Воронову его пропуск.
– Эти снобы не лишены юмора, о-уу, май диэ-э-э…[6]6
О, мой дорогой! (англ.)
[Закрыть] – пробормотал Брайт, пародируя английское «оксфордское» произношение. Он рванул машину вперед. Через минуту они уже были неподалеку от стоявшей на прежнем месте «эмки» Воронова.
Оставив ключ в замке зажигания, Брайт выскочил из машины почти одновременно с Вороновым.
– Я побежал, – торопливо сказал он. – Надо еще отвоевать себе место. Еще раз спасибо тебе, Майкл. Ты отличный товарищ, но… никудышный бизнесмен. И все-таки…
Он запнулся и с огромным усилием, едва ворочая языком, сказал по-русски:
– Я тьябя… Лу-у-у… блу!
Помахивая «контаксом», Брайт побежал к своим коллегам, уже толпившимся у взлетной полосы.
Воронов отсутствовал не более сорока пяти минут, но за это время на аэродроме все изменилось. Вместо американского почетного караула стоял английский. Солдаты строились в некотором отдалении друг от друга, примерно на полшага. Музыканты в черных мундирах, высоких меховых шапках, с трубами, тромбонами и флейтами напоминали персонажей экзотической оперы. Особенно странно выглядели барабанщики, одетые в своего рода фартуки из леопардовых шкур.
Однако время шло. Воронов заспешил к оцеплению.
Протиснувшись в толпе к группе советских кинематографистов, стоявшей на прежнем месте, Воронов пристроился рядом. Два – три раза прокрутив и спустив затвор своего «ФЭДа», он убедился, что все в порядке.
Самолет появился над линией горизонта минут через пять.
Все повторилось с самого начала. Над аэродромом снова промчались два истребителя эскорта. Опять взметнулись кинокамеры и фотоаппараты. Примитивной «лейкой» Воронова снимать самолет с такого расстояния не имело смысла. Как и в первый раз, Воронов ограничился тем, что наблюдал за своими иностранными собратьями. Из спокойно стоявших и негромко разговаривавших между собой людей они на глазах превратились в стадо буйволов или носорогов. Плечами, локтями, всем корпусом расталкивая соседей, они устремились к посадочной полосе. Своего нового знакомого Воронов среди них не видел. Очевидно, Брайт извлек уроки из предыдущей неудачи и на этот раз опередил всех возможных конкурентов.
Едва самолет коснулся земли, английские солдаты покатили трап. Вздрогнув, самолет остановился. Десятки кинокамер и фотоаппаратов с длинными трубами телеобъективов нацелились на еще закрытую металлическую дверь. Из-за нее слышалось какое-то лязганье. Стрекотание киноаппаратов постепенно смолкло. «Что происходит? – спросил себя Воронов. – Нагнетается атмосфера ожидания? Или с дверью и впрямь что-то случилось?»
Наконец дверь открылась, но Черчилль все еще не появлялся. Снова смолкли ожившие было камеры. И в этот момент вышел Черчилль, заполнив своей массивной фигурой весь дверной проем.
Час назад Трумэн шагнул на площадку трапа легко и подчеркнуто энергично. Так появляется в зале правления компании ее председатель, заставивший всех ждать и делающий вид, что очень торопился.
Черчилль же возник, словно медленно воздвигнутая на пьедестал тяжелая статуя. Он был в военном мундире, из-за отворотов которого виднелся темный галстук. Над фигурным клапаном верхнего левого кармана пестрели орденские планки. На погонах можно было различить нечто похожее на звезды. Огромную голову, посаженную, кажется, прямо на плечи, увенчивала фуражка с широким козырьком такого же цвета хаки, как и сама фуражка. В правой руке Черчилля были зажаты перчатки и стек с белой, очевидно перламутровой, ручкой.
Черчилль стоял неподвижно, как монумент. Лицо его газа лось застывшей крупной маской: пристальные немигающие глаза, большие губы – нижняя значительно толще верхней, приподнятый широкий подбородок.
Так он стоял секунду, три, пять… Само Время, взирающее на мир с высоты! Затем, переложив стек и перчатки в левую руку, он поднял правую и раздвинул два пальца, образуя знаменитую букву "V".
В толпе прошелестели аплодисменты.
Воронов сделал несколько снимков. Потом, повесив аппарат на плечо, он аплодировал вместе со всеми. Ему был неприятен фамильярно-пренебрежительный тон, каким Брайт говорил об американском президенте, хотя Трумэн не понравился и ему самому. Воронов привык к иному облику президента Соединенных Штатов Америки. У того, ныне уже ушедшего, было длинное, аскетическое лицо с тонкими чертами мыслителя. Рузвельт напоминал Воронову Ромена Роллана. Нынешний президент показался Воронову обыкновенным и вместе с тем крикливым. Он был явно немолод, но демонстративной энергичностью и легкостью походки как бы хотел показать, что полон сил и энергии.
Черчилль же и впрямь произвел на Воронова сильное впечатление. Из-за его широких плеч, из-за его массивной головы, казалось, глядела на мир сама Эпоха. Какая? Сейчас, устремив взор на Черчилля, Воронов не задавал себе этого вопроса. Ему казалось, что за Трумэном не было ничего, кроме пустоты. Черчилль же как бы олицетворял собой Историю. Он был импозантен. Именно это слово пришло на ум Воронову, когда он пристально глядел на Черчилля из толпы.
Тем временем монумент сошел со своего пьедестала и стал тяжело спускаться по трапу. Во рту Черчилля уже была толстая длинная сигара. Путь по лестнице он проделал, зажав незажженную сигару в левом углу своего широкого рта. Когда премьер достиг земли, в дверях самолета появилось несколько военных. Среди них – молодая женщина, тоже в военной форме.
Подавляющее большинство кинокамер и фотоаппаратов было, однако, по-прежнему направлено на Черчилля.
Корреспонденты начали бомбардировать его вопросами.
Оркестр грянул британский гимн. Черчилль обошел ряды почетного караула. При этом он снизу вверх заглядывал солдатам в лица, иногда задерживая на ком-нибудь из них свой сурово-сосредоточенный взор.
Воронов вспомнил советский журнал, посвященный Ялтинской конференции. В Ялте почетный караул состоял из советских солдат. Черчилль, обходя его, так же заглядывал в лицо каждому солдату. На советских людей это произвело тогда сильное впечатление. Одни были уверены, что английский премьер смотрел на наших солдат с откровенной неприязнью, другим, казалось, что его пугали их боевые качества, третьи считали, что сам Черчилль своим бычье-пристальным взглядом хотел их испугать.
Наблюдая за Черчиллем сейчас, Воронов понял, что все эти догадки были лишены основания. Очевидно, Черчилль просто – напросто выработал себе такую манеру. Он привык именно так обходить ряды почетного караула. Точно так же как привык постоянно курить или просто держать в углу рта толстую сигару, приветствовать людей знаком «Victory» – «Победа», появляясь на лондонских улицах, носить противогаз в сумке через плечо.
Пока Воронов предавался этим размышлениям, английский премьер продолжал свой обход, а оркестр, к удивлению Воронова, играл легкомысленные мотивы, переходя от фокстрота к вальсу и от вальса к польке.