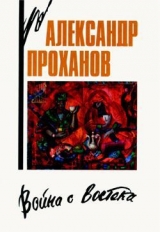
Текст книги "Сон о Кабуле"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава вторая
Офицер разведки Белосельцев, приглашенный в кабинет к генералу, слушал его трескучий, распавшийся на сухие волокна голос, смотрел на остроносое больное лицо и старался запомнить не столько слова, сколько сухой дребезжащий звук, в котором, как и во всем его облике, обнаружился убыстряющийся распад, дробление, вторжение инородной, расщепляющей материи. Стены кабинета, обшитые темным дубом, воплощали строгую окаменелую незыблемость. Зеленая настольная лампа была из времен, когда ее зажигала белая властная рука замнаркома. Портрет Дзержинского над головой генерала, написанный маслом, висел с тех пор, когда посетители кабинета носили длинные френчи с красными кубами и ромбами, за окнами, за тяжелыми, на медных кольцах портьерами, шумела иная Москва, светились иные небеса, в которых шли неуклюжие, как бронепоезда, бомбовозы, окруженные жужжащими серебристыми «ястребками», и над розовой площадью, над брусками полков, над ползущими танками проплывало в небе звенящее, в блеске пропеллеров металлическое слово «Сталин».
Стол генерала, с дубовыми углами под зеленым сукном, усеянный кляксами старинных чернил, прожженный горячим пеплом выкуренных полвека назад папирос, был пуст. Несколько белых листков, изрезанных колючими генеральскими письменами, красная картонная папка с агентурными донесениями, свежая, еще не раскрытая черно-белая газета и маленькая синяя ваза из гератского стекла, слюдяная, с потеками, льдистого изумрудно-прозрачного вещества, с таинственным излучением, словно внутри горел немеркнущий светоч, – лампада, зажженная в кабинете чьей-то волшебной рукой. Этот фетиш, изделие гератских стеклодувов, Белосельцев увидел год назад, когда был представлен генералу. С тех пор на докладах и встречах, на совещаниях и во время внезапных вызовов этот зелено-синий, волшебный цвет волновал Белосельцева. Хотелось взять этот хрупкий сосуд, поднести к глазам, посмотреть сквозь него на окно, на зажженную лампу, на лицо генерала.
– Теперь, когда мы оговорили формальности, попробую объяснить, почему я тебя посылаю. После того как из Кабула вернулась наша главная аналитическая группа и подготовлен общий отчет, ты поедешь отдельно, в режиме «свободного поиска», и привезешь информацию, которой не будет в отчете. Ты привезешь не факты, не сведения, не вскрытые взаимодействия и связи, – ты привезешь впечатления. В них, полученных с помощью интуиции и образного сознания, будет заключаться ответ – предстоит ли нам крупномасштабная азиатская война, или Афганистан – лишь локальное приложение сил, как это было в Венгрии, Чехословакии и на китайской границе. Я давно оценил твой ум, твое кропотливое усердие, но я оценил также редкое свойство, которым ты обладаешь. Которым когда-то обладал и я. Ты мыслишь образами, системами образов, а это и есть наиболее экономный и целостный способ выражения истины. Настоящая разведка – это поэзия. «Илиада» или «Слово о полку Игореве» – есть сохранившиеся во времени отчеты военных разведчиков. Ты возьмешь себе «журналистскую легенду». Не обременяй себя шифрограммами в Центр. Резидент оповещен о твоих маршрутах. Через месяц ты придешь ко мне в кабинет и положишь на стол три странички отчета. Это и будет твоя афганская «Одиссея». Проиллюстрируем ее вместе миниатюрами из «Бабур-намэ»!.. – генерал засмеялся, и смех его коричневых губ напоминал хруст кофейных зерен, перетираемых ручной кофемолкой.
Офицер разведки капитан Белосельцев слушал генерала, оказывающего ему знак высшего расположения, посылавшего под пули в страну, где сам генерал провел свою молодость, откуда вывез гератскую голубую лампаду. Теперь она сияла зеленоватой лазурью среди московской зимы.
За огромным холодным окном сыпал снег, заваливал круглую площадь, в центре которой возвышался конический памятник. Белый снежный сугроб на бронзовой фуражке, белые эполеты на бронзовых плечах, и вокруг в гулах, в мерцании стекла и металла – сверхплотный горячий сгусток. Завиток, в самом центре Москвы, где раскручивалась мировая спираль. Волчок, заставлявший кружиться отдаленные пространства и земли. Он, Белосельцев, как крохотный камень, выпущенный из огромной пращи, полетит с этой площади в азиатскую даль, где сверкает лазурь минаретов.
– Мы начали афганский поход с бельмами, вслепую. Наши политики не знают Востока, военные не знают Востока, разведка не знает Востока. Мы готовились воевать на европейском театре, брать Рим, Париж и Мадрид, полагая, что Самарканд и Бухара – это и есть Восток, а все, что южнее Амударьи, спит непробудным сном. Но Восток проснулся. Мы въехали туда на танках, но война в горах требует снайперских винтовок. Мы понесли идеологию туда, где властвует религия. Мы предлагаем культуру тем, кто ценит обычаи и заповеди. Русская школа разведки великолепно знала Восток, но последние ее представители были изгнаны из разведки после расстрела Берии. Я – лишь недоучка, лишенный учителей. Человек, обделенный мистическим опытом, не сможет понять Восток. Мне казалось, я обладал мистическим опытом. Мне кажется, и ты обладаешь. Русская душа, измученная западной мыслью, стремится на Восток, мечтает о Востоке. Лермонтов в бурке с газырями на кахетинском жеребце мчался на Восток. Верещагин с мольбертом надевал тюбетейку, рисовал гробницу Тимура. Я наматывал чалму, кутался в накидку, сидел в чайхане на рынках Кандагара, Герата, Гордеза. Поезжай на Восток, посмотри на него непредвзято, любящими глазами. Вернись и расскажи, что увидел…
Белосельцев, в генеральском кабинете, у стола, сбитого из кубов и цилиндров, напоминающего мавзолей или здание «Днепрогэса», глядел на белое, в падающих хлопьях окно и чувствовал дыхание Востока. Горячий солнечный ветер, вылетающий из обожженных глиняных губ. Голубой сладкий дым, в котором туманятся изразцовые дворцы и мечети. Кусты чайных роз, обрызганные алмазными каплями. Огненно-черные взгляды мужчин из-под пышных белых тюрбанов. Укутанные в шелковую паранджу розовые, как лилии, женщины.
Лишь дважды за время службы он был на Востоке, в Пакистане и Турции. Запомнил, как сладкий обморок, рынок в Равалпинди. Мессиво золота, шелка, заваленные плодами прилавки. Рокот и шарканье клубящейся несчетной толпы. Утренний Босфор был синий, густой. В проливе, оставляя стеклянный след, плыл белый корабль. Первый луч солнца краснел на минаретах Софии.
Теперь его поездка в Кабул обещала быть долгой. Уже был собран дорожный баул. Заряжен цветными слайдами аппарат. Марлевый сачок – бабочки, его тайная страсть, – был уложен на дно баула. Его фарси, не находивший применения в Москве, тревожил гортань и язык, как вкус перезрелого граната. Скоро он расцелуется на прощание с матерью, и сияющая махина, заглатывая турбинами голубой студень неба, унесет его на Восток.
– У меня были «легенды» дервиша, торговца опиумом, рыночного менялы. Я разведывал танковые проходы в горах, на случай прорыва в Индию через Джелалабад. Брал пробы фуражного зерна для нашей кавалерии в районе Хоста. Исследовал заболевания гепатитом и проказой под Кандагаром. Промерял броды через реку Герат для артиллерии и пехоты. Мы всерьез готовились выйти к «теплым морям». Сталин утвердил разведывательную директиву. У меня одно ножевое и два пулевых ранения, полученные во время афганской разведоперации. После Сталина и Тегерана мы охладели к Востоку. И жестоко за это заплатим. У меня есть мечта: перед смертью побывать в Бамиане, лечь на желтую горячую землю и увидеть, как в красной горе улыбается огромный, вырезанный из песчаника Будда. Верблюды пьют из арыка, пускают сквозь рыжие зубы серебряные пузыри…
Белосельцев видел, как смертельно болен генерал. Казалось, в его остроносом лице, в тоскующих темных глазах, в голом коричневом черепе завелись невидимые муравьи. Копошатся, точат, роют крохотные пещеры, превращая генерала в труху. И скоро его не станет. Он вернется к своему тотемному зверю, превратится в смуглую бабочку, обитающую на горячих осыпях Гиндукуша, на каменной скале Бамиана. И, быть может, он, Белосельцев, оказавшись в афганском ущелье, взмахнет сачком над жарким откосом, над крохотной цветущей полынькой, и в прозрачной кисее затрепещет, забьется резными крыльями пойманный в сачок генерал.
– Введение войск – стратегическая ошибка. Мы подготовили вариант операции, исключавшей ввод войск. Мы предлагали ограничить наши действия районом Кабула. Сделать ставку не на наивного мечтательного Тараки, похожего на детского сказочника, а на блестящего волевого Амина, которого поддерживала армия. Мы предлагали опираться на простонародное крыло партии «Хальк», которое работало в деревне, воевало на фронтах. И отдалиться от крыла «Парчам», состоявшего из городской интеллигенции и профессуры, умевшей говорить с трибун и не знавшей устройство «Калашникова». Политбюро отвергло наш план. Мы убили Амина и ввели дивизии. Армия вторглась в районы пуштунских племен, расшевелила дремлющий муравейник. В несметном количестве эти муравьи выползут из своих убежищ, из своих песчаных нор и горных пещер и, быть может, доползут до Ташкента. Я хочу, чтобы ты среди патетических речей и наивных иллюзий разглядел катастрофу. Допущенные под Кабулом ошибки нам придется исправлять под Москвой…
Белосельцев, офицер советской разведки, не понимал генерала. Он верил в незыблемость и мощь государства, которому верой служил. Рассматривал мир, как арену соперничества. Как театр возможной глобальной войны, где страны и континенты, океаны и дно морей содержали уран и нефть, разделялись на военные блоки и связывались подлетным временем баллистических и крылатых ракет. Афганистан, куда его направляла разведка, был объектом соперничества. Американские авианосцы в Персидском заливе, осуществив массовый взлет авиации, через полчаса могли бомбить нефтяные поля Сибири. Советские штурмовики с аэродрома Кандагара через десять минут после взлета могли топить авианосцы в заливе. Генерал говорил о катастрофе, о совершенных непоправимых ошибках, но прочность и мощь страны, несокрушимость системы позволяли исправить ошибки, выдержать перекосы в политике. Крымский мост над Москвой-рекой был спроектирован с пятикратным запасом прочности. С таким же запасом был спроектирован Советский Союз. Белосельцев не понимал генерала, сострадал ему. Генерал уменьшался и таял, распадался на множество мелких, не связанных друг с другом частиц. Был готов исчезнуть. А он, Белосельцев, в своей силе и молодости наращивал присутствие в мире, расширял над ним свою власть. Еще немного, и на мощной советской машине перелетит в другую часть света, которая тоже станет советской.
– Мы, аналитики, знаем больше, чем все остальные. У меня предчувствие огромной беды. Не той, в Кабуле, которую ты обнаружишь. А этой, в Москве, которая никому не видна. Разбитый кувшин с молоком летит со стола, и пока он летит, осколки, прилипая друг к другу, сохраняют форму сосуда. И молоко в разбитом кувшине сохраняет форму сосуда. Но едва кувшин коснется пола, и он превращается в груду бесформенных черепков среди белой бесформенной лужи. Наше общество, как красивый глазированный, расписанный орнаментами кувшин, в бесчисленных, едва различимых трещинах. Оно падает, еще не наткнувшись на преграду. Афганистан – преграда, на которую натолкнется Советский Союз. Не умом, а всей своей биологией я чувствую начало распада. Мои чуткие клетки уловили это начало, отторгаются одна от другой, ненавидят одна другую, и я весь распадаюсь. Ты молод, в цветении сил. Тебе многое дано увидеть и многое дано пережить. Ты будешь свидетелем больших потрясений…
Белосельцев изумленно слушал. Генерал в своем державном кабинете, среди телефонов кремлевской связи, под недремлющим оком Дзержинского, награждал его признаниями так, словно завтра умрет. Напутствовал его не в Кабул, а в далекое грозное будущее, где его, генерала, не будет. Белосельцев вдруг испытал странное помрачение, затмившее снежное большое окно, словно им в одночасье была прожита вся огромная предстоящая жизнь. Он оказался у другого ее конца, перед самым ее завершением. Старый, одинокий, бессильный, перенесший утраты и тяготы, сидит в сумраке деревенской избы, без огня, без тепла, посреди непроглядной вьюги, и ждет, когда из метели протянутся к нему две белые женские руки, унесут его из этого мира.
Видение налетело и кануло. Он снова был в кабинете генерала разведки. Молчали телефоны с металлическими гербами страны. Драгоценно сияла голубая гератская ваза. Генерал смотрел на нее, как в таинственный стеклянный прибор, сквозь который видел жаркие кишлаки, смуглолицых людей, многолюдные моленья и торжища, и он, молодой разведчик, под белой чалмой и накидкой, смотрит на солнечный брод, по которому в брызгах и пене, в блеске винтовок и сабель проходит военная конница.
– Разведка – это способ познания. Познание имеет предел. За этим пределом – неведомое. Неведомое в философии именуется истиной. Неведомое в религии именуется Богом. Монахи разработали систему познания Бога – аскеза, молитвенное молчание, неуклонное, с падениями и взлетами, восхождение. Художники и философы, приближаясь к порогу познания, творят многообразие стилей и школ, стараются, каждый по-своему, приблизиться к истине. Разведчик – это художник, монах и философ. После изнурительных кропотливых трудов его посещают прозрения. Сквозь формулу деления урана, или данные о полете ракет, или дислокацию гарнизонов врага ему открывается истина. Ты отправляешься на Восток, где понимание приходит как чудо. Твое оружие – ум и душа. Не торопись хвататься за автомат, не спеши вынимать из кобуры «Макарова». Постарайся пережить откровение. Чувствуй и думай так, чтобы тебя посетило чудо…
Генерал нажал невидимую кнопку, помещенную в каменном туловище стола. Привел в движение обитателей соседней приемной. В кабинет вошел референт, деликатный, сдержанно-приветливый, наглухо закрытый для понимания того, что творилось в этой красивой, аккуратно подстриженной голове с голубыми, навыкат, глазами.
– Товарищ капитан, ваши документы! – произнес референт, выкладывая перед Белосельцевым командировочный бланк, загранпаспорт, удостоверение корреспондента столичной газеты, банковый счет и авиационный билет до Термеза. – Термезское управление уведомлено о вашем прибытии. Агитколонна с тракторами выдвигается в Афганистан через два дня. Товарищи внедрят вас в колонну.
– Спасибо, – сказал Белосельцев, принимая пакет документов. – Товарищ генерал, разрешите идти!
– Идите. Желаю удачи.
– Спасибо, товарищ генерал!
Они пожали друг другу руки. Ладонь генерала была сухая и острая, обожгла чем-то горячим и быстрым. Выходя на улицу из огромных, украшенных бронзой дверей, погружаясь в белое, падающее с небес вещество, Белосельцев чувствовал прикосновение генерала, как незримый порез. Схватил холодный снег, нападавший на мраморный цоколь. Сжал что есть силы в горячих пальцах. Кинул снежок вслед проходившей женщине, ее запорошенному лисьему воротнику, маленьким красным сапожкам, оставлявшим на белизне вереницу мелких следов. И когда в ночных небесах несла его туманная серебряная машина и он дремал, откинувшись в кресле, после терпкой рюмки вина, он все медлил, старался не думать о будущем. Оно надвигалось на него необъятным звездным пространством. А он не пускал его.
Видел белый снег на черном цоколе здания, стеклянную голубую лампаду на столе генерала, женские сапожки, протоптавшие в московском снегопаде тонкую тропку.
Глава третья
В Термезе его встретил молодой дружелюбный узбек, коллега из управления. Показал на карте маршрут, по которому выдвигалась колонна тракторов «Беларусь» – советский подарок кооперативам афганских крестьян. Маршрут пролегал через Амударью, по предгорьям, к перевалу и туннелю Саланг, и дальше вниз, в долину Черикара, к Кабулу. В эту колонну, охраняемую бронегруппой, и будет внедрен Белосельцев под видом журналиста, освещающего путь тракторов. Дружелюбный черноглазый узбек отвел его в чайхану, накормил горячим ароматным шашлыком, плоским круглым хлебом, фиолетовым дымчатым виноградом. Они распивали чай из пиал, узбек подливал зеленоватый прозрачный напиток из большого чайника с алым цветком и бегло рассказывал оперативную обстановку на другом берегу Амударьи. Обстановка была спокойной, грузы по трассе шли беспрепятственно. Агентура с той стороны не тревожила сообщениями о терактах и обстрелах колонн. После московского снежного неба, сырого метельного ветра над головой была яркая азиатская лазурь, в ржавых безлистых деревьях ворковали золотистые горлинки, и через площадь, уклоняясь от машин, семенил сиреневый ослик с восседавшим бородатым наездником в полосатом халате и тюбетейке. На площади уже звучал рокот труб, гудели микрофоны, начинался торжественный митинг. Гостеприимный узбек проводил его к трибуне, украшенной коврами и вазами, представил распорядителю празднества и исчез, чтобы больше никогда не возникнуть.
Далеко за тяжелой амударьинской водой, сквозь краны термезского порта – волнистые, красно-рыжие афганские земли в зимних сожженных травах, в солнечной проседи холмов и предгорий, неведомая, иная земля. А здесь, в Термезе, лязг и скрежет железа, хруст стальной колеи, мазутное движение составов, бруски разноцветных контейнеров. Отрываясь от разлива реки с бегущей вдали самоходкой, Белосельцев снова смотрел на ряды тракторов, синие и стройные, застывшие на паромном причале, на афганцев-водителей, худых и смуглых, в разноцветных шапочках и безрукавках, стоящих у машин. Сооруженная наспех, увитая цветами и флагами, возвышалась трибуна. Тюбетейки, халаты, рабочие робы, русские и узбекские лица. Военные, партийцы, местная узбекская власть и приезжие чины из столицы. Девушки в шелковых платьях, оттанцевав, откружив, тихо смеялись. Музыканты, устав от игры, опустили медно-кованые, с вмятинами солнца, длинные, как хоботы, трубы. Все на виду, возбуждены, готовы к речам и проводам. Озирают шеренги глазастых машин, нацеленных хрусталями фар за реку, в другую землю, где предстоит им движение к неведомым, их поджидающим нивам.
На трибуне, куда по струганым ступеням, мимо зорких строгих охранников, поднялся Белосельцев, было тесно и жарко. Здесь стоял Нил Тимофеевич Скороходов, инженер-мелиоратор из Томска, направлявшийся советником в афганские села. Он волновался, гладил руками перила, повторял про себя слова заученной речи. Его простодушное крестьянское лицо обращалось то к машинам, словно их пересчитывал, то к начальствующим узбекам, плотным и холеным, отправлявшим караван тракторов, то через реку к афганскому берегу, в тревожную и желанную даль. Маленькая зимняя чайка, проскользнув сквозь грохоты порта, долетела до трибуны, мелькнула, как легкий знак, над головой советника.
Здесь был кабульский партиец Сайд Исмаил, прибывший на дружеский митинг встречать машины. Коричневое большеглазое лицо, мягкие сиреневые губы, большой смуглый нос, – он напоминал Бело-сельцеву лося или оленя, травоядного, доброго, но чем-то однажды напуганного, о чем свидетельствовали тревожные фиолетовые глаза. Он взирал на ряды тракторов, которые поведет в бедные кишлаки в провинции Нангархар и Гельмент. Выведет их на нивы, вместе с черными, запряженными в сохи быками, и худые крестьяне с мотыгами и кетменями смогут убедиться воочию, что значит земельная реформа партии.
Тут был старый узбек-ветеран, приведенный под руки на трибуну услужливыми молодыми охранниками, в пиджаке, усыпанном орденами. Его кривые старые ноги были обуты в кожаные сапоги с блестящими резиновыми калошами, глаза под седыми бровями были прикрыты, а тело казалось хрупким, как полое сухое растение. Его жизнь была готова исчезнуть и кануть, держалась на хрупком сухом черенке, готовом вот-вот обломиться. Сквозь дремоту он слушал громкие речи, стук моторов и бубнов, и старая рана, полученная в юности от басмаческой пули, вдруг ожила и заныла.
Среди пестрого люда, шляп, тюбетеек и кепок выделялся своей военной фуражкой подполковник Мартынов, сопровождающий колонну тракторов с конвоем «бэтээров». Он прибыл из Кабула, из штаба армии, лицо его было красным от горного солнца, офицерские усы напоминали два пшеничных колоска, и он терпеливо ждал, когда закончится митинг, тяжелые паромы перевезут трактора через реку, и он выстроит их на трассе и, отдав приказ «бэтээрам», поведет по опасным перевалам.
Его заслонял председатель колхоза, крупный узбек в крохотной тюбетеечке, приклеенной к смоляной голове. Председателя отвлекли на митинг от обширного, лежащего по соседству хозяйства, отдыхавшего после хлопковой жатвы. Чинились на машинном дворе исхлестанные хлопком комбайны. Вода по бетонным желобам бежала из канала, поила изнуренную родами землю. Двукрылый самолет носился над малиновой пашней, рассеивал белый прах удобрений. Громадные насосы гнали в степь желтую амударьинскую воду. Обо всем этом думал и заботился председатель, не слишком представляя себе соседнюю страну, населенную земледельцами, орудующими кетменем и сохой, для которых его колхоз показался бы райским дивом.
Одним из первых говорил советник Нил Тимофеевич. Речь его, неумелая, с поиском нужных слов, с протягиванием рук, была о даре, идущем от сердца. О тех, кто создавал эти советские трактора, добывал из земли железо, плавил сталь, ковал и точил, собирая машины, чтобы афганский крестьянин всколосил ниву новой свободной жизни. Кончил говорить, поклонился неловким поклоном, и белая чаечка, скользнув сквозь железные краны, снова мелькнула над его головой, как бесшумный таинственный знак.
Вторым говорил Сайд Исмаил. Речь его была мегафонно-звенящая, нараспев. Слова, вырывавшиеся из-под черных усов, были о народе, встающем с колен, о начале дороги, на которую вышел его народ за хлебом и правдой, как некогда вышел великий соседний народ. Теперь два народа-брата на едином пути, один впереди, другой лишь ступил на него. И ушедший вперед обернулся, протянул руку брату, и тот пожимает ее, принимает дар тракторов.
Он по-мусульмански прижал руку к сердцу, а потом воздел ее, стиснув в кулак. Белосельцева волновала его напыщенная риторика, цветистое многословье. Он понимал стремление афганца домой, за реку, где ждали его с нетерпением товарищи, неоглядные труды и заботы до старости, до седин. Чувствовал, что вступает с ним в еще неясную, еще безымянную связь, которая будет иметь свое тревожное и грозное продолжение. Сам вместе с ним стоит у начала пути. Не ведает, как его совершит, каким вернется обратно из красноватой заречной страны.
Председатель колхоза произнес короткую напутственную речь. Чуть слышно хлопнул в ладоши. Трубачи, сделав глубокие вздохи, подняли кованые, метнувшие солнце трубы. Ударили барабаны и бубны. Им откликнулись тепловозы и краны. Девушки, воздев руки, поплыли по кругу. И все пошли к тракторам. Открыли капот у переднего и на синей крышке, макая в баночку кисть, выводили красное слово «Дружба», ставили под ним свои подписи. Нил Тимофеевич, и Сайд Исмаил, и военный Мартынов, и водитель, и портовый рабочий. Словно писали письмо тем, кто ждал трактора в далеком безвестном пространстве.
Белосельцев оглядывался радостными, возбужденными обилием зрелищ глазами. Мир вокруг напоминал нарядное восточное блюдо, – покрытое цветами, узорами, блестящей глазурью, – изделие гончаров и художников, выставленное напоказ под синими узбекскими небесами, среди прокаленных красноватых холмов. И в этом студеном струящемся воздухе, среди барабанных и трубных звуков, вдруг что-то сместилось. Остекленел и заморозился воздух, как лед, сохранил в себе остановившееся дуновение ветра. Окаменели и замерли лица, размытые, утратившие живое движение. Мир вокруг потерял свою сочность и блеск, словно с нарядного блюда соскоблили лазурь, потухли и потускнели на нем цветы и орнаменты, в утомленной глине наметились и разбежались темные пыльные трещины. И весь мир, в котором пребывал Белосельцев, состарился и устал, был готов развалиться, превратиться в бесформенные разноцветные крошки.
Это длилось секунду. Вновь растаял и заструился живой синий воздух. Сочно и громогласно зазвучали трубы и бубны. Лица, остановившиеся на мгновение, опять задвигались, задышали. И блюдо, глазированное, в алых и золотых цветах, лежало перед Белосельцевым, предлагая ему великолепные, отекавшие соком плоды. И только если пристально приглядеться, заметишь под стеклянной глазурью, под фиолетовыми виноградными ягодами легчайшую паутинку трещин.
Признак одряхления и ветхости. Контуры будущих черепков и осколков.
Уже далеко за спиной была мутная полноводная Амударья, рыжая, взбаламученная, со множеством несущихся голубых воронок и вихрей. Остался за спиной афганский порт Хайратон, к которому причалили паромы, груженные тракторами. Синие, сверкающие стеклами машины катили одна задругой по бетонной трассе, среди осыпей, холмов, сухих, озаренных холодным солнцем предгорьев. В голове колонны двигался авангард «бэтээров», длинных, плавных, с торчащими пулеметами. Колонну замыкала вторая бронегруппа с командирской машиной, на которой вместе с подполковником Мартыновым поместились Нил Тимофеевич, Сайд Исмаил, Белосельцев, белобрысый, в танковом шлеме механик-водитель и чернявый стрелок, рассматривающий в прицел горбатые, похожие на верблюдов, холмы.
Белосельцев сидел на броне, свесив ноги в глубокий люк. Чувствовал, как ровно давит на грудь встречный ветер, расширяет и высветляет глаза. Перегороженный черным стволом пулемета, двигался вокруг яркий разноцветный мир, удивлявший своими картинами. Белосельцев, упиваясь волей, радуясь зоркости и свежести чувств, выхватывал из этого мира драгоценные впечатления. Не разглядывал их подолгу, а, оставляя на потом, прятал поглубже в память, чтобы после, может быть, вечером, или через день, или в старости, снова их оттуда извлечь. Сладостно и подробно рассматривать, восхищаясь их драгоценной неповторимостью.
По встречной полосе бетонки накатывал грузовик, с хромированным радиатором, зеркальным лобовым стеклом, за которым сидел темнолицый, в белой чалме водитель. Кузов грузовика был надстроен, превращен в высокий деревянный фургон, покрыт множеством разноцветных рисунков – растений, цветов, животных и птиц, мечетей и зданий, корабликов и самолетов. Рука художника, водившая кистью, была веселой, неутомимой на выдумки. Словно ребенок украсил грузовик переводными картинками. Кабина грузового «мерседеса», созданного на современных конвейерах Германии, была украшена восточной бахромой с кистями, стеклянными и металлическими подвесками, напоминавшими елочные игрушки. Над кабиной мигали разноцветные лампочки, машина напоминала новогоднюю елку или цирковую декорацию. Казалось, в фургоне спрятаны акробаты и фокусники. Доберутся до нужного места, раскроют борта фургона, и из него на потеху и забаву людям высыпят жонглеры, канатоходцы, дрессировщики. Замигают огни, заиграет музыка. Под переливы свирели из длинного кувшина покажется, заструится, заколеблет маленькой головкой чешуйчатая змея.
Все это успел разглядеть и пережить Белосельцев, пока нарядный грузовик пролетал мимо, распахивая шумную солнечную волну ветра. И видимо, лицо его было таким восхищенным, наивным, что сидевший рядом Сайд Исмаил заулыбался, понимая его радость, благодарный ему за это радостное восхищение, вызванное встречей с афганским дивом.
– Такой грузовик делает в Пакистан. Там хороший художник, рисует весь грузовик! – сказал он, коверкая слова своими мягкими сиреневыми губами, словно держал в этих губах вкусный и сочный плод. Белосельцев кивнул, оглядываясь вслед исчезавшей машине, за которой тянулся шлейф разноцветного воздуха, как прозрачная бахрома, из Пакистана, сквозь ущелья и перевалы, неся в себе таинственные звуки и краски иных народов и стран.
За обочиной на бугре возникло сооружение, напоминавшее разрушенную глиняную печь или заброшенный, размытый дождями термитник. Рыжий запекшийся купол с круглыми отверстиями, изъеденные ветром, шершавые стены, окаменелая, с изглоданным верхом изгородь. Сооружение казалось мертвым, необитаемым, но из невидимой дыры вяло струился дым, сладко пахнуло горящей сосной, яркой лазурью вспыхнул драгоценный, вмазанный в купол изразец. По краю дороги к жилищу двигалось малое стадо белых коз, подгоняемое мальчиком с хворостиной. Проезжая мимо, Белосельцев успел разглядеть костлявые козьи спины, шитую бисером шапочку на круглой голове мальчика, его блестящие веселые глаза, ветхое рубище на щуплых плечах и босые грязные ноги, семенившие по бетону.
Советник Нил Тимофеевич, уцепившись за выступ брони, одолевая ветер, сказал Белосельцеву:
– Бедность-то какая! Зима, а он, родненький, босиком шлепает! На обувку денег нет. Разве сравнишь с Союзом! – Белосельцеву в этих словах показалось искреннее сочувствие к мальчику и острое любопытство к стране, куда его, томского инженера, забросила судьба. Непонимание этой страны, бессознательное над ней превосходство и невыраженное, невольное самоутверждение этого крепкого, сытого мужчины, делегированного могучей державой в отсталое захолустье, пролетающего сквозь это захолустье на скоростной военной машине.
В стороне от дороги, на склоне холма, стояли боевые машины пехоты, развевался красный флажок. Солдаты в панамах рыли траншеи, таскали бревна и доски. Остановились, оглядываясь на проходившую колонну, и Белосельцев издали старался разглядеть их молодые русские лица, бортовые номера машин, надпись лозунга, укрепленного на дощатом сооружении.
– Застава, – пояснил подполковник Мартынов. – Обустраиваются, утепляются. Сюда дрова и те из Союза забрасываем. Ничего, обживемся. Военные городки построим, пятиэтажки, деревья посадим, жен привезем. Куца Советская Армия приходит, там культура, порядок.
Он по-хозяйски оглядывал проплывавшую мимо заставу, и в его бодром и строгом взгляде Белосельцеву почувствовалось все то же удовлетворение и превосходство сильного, оснащенного человека, оказавшегося, по приказу командования, среди первобытной земли, осчастливливая и очеловечивая эти каменные холмы и отроги.
Все они, сидящие на граненой броне, ухватившись за скобы и выступы, были под покровительством и защитой оставшейся сзади страны, посылавшей им свои силы, направлявшей их, каждого со своими заданием и ролью, в азиатские тревожные дали.
Дорога широкими дугами и поворотами подымалась выше и выше. Склоны по сторонам становились все круче. Небо остывало и леденело. Солнце, опускаясь к вершинам, наливалось краснотой и медью. На синий асфальт ложились фиолетовые тени, солнце на мгновение гасло за кручей, щекам становилось холодно от твердого, летевшего с перевала ветра, а потом из-за горы снова вылетало медно-красное солнце, брызгало негреющими лучами.








