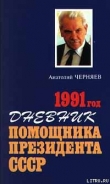Текст книги "Геннадий Зюганов: «Правда» о вожде"
Автор книги: Александр Ильин
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Срочно разыскали меня; я “случайно” сберег и нашел гранки давно рассыпанной статьи; по команде главного их без промедления набрали, вычитали, тиснули “на сухой” и в тот же вечер с курьером переправили Зимянину. Через два дня первая часть статьи “По обе стороны Байкала”была напечатана в “Правде”, окончание – в следующем номере.
Количество откликов было ошеломляющим: оказывается, тысячи и тысячи людей беспокоила судьба “Священного Байкала”, многим известного прежде разве что по старинной застольной песне “Бродяга к Байкалу подходит…”
Все это я рассказываю к тому, что, когда мы впервые познакомились с Валентином Распутиным, у нас уже был взаимный интерес, общая тема – Байкал.
Я позвонил ему в Иркутск; с первого раза связаться не удалось – пришлось обращаться к нашему собкору Володе Ермолаеву, которого Валентин Григорьевич знал и, надеюсь, ценил за святую привязанность теме Байкала. Через Володю я заказал Распутину статью, он обещал привезти ее в Москву и вскоре позвонил мне в редакцию:
– Извините, статью не успел закончить, но обязательно допишу здесь, в Москве. Еду в ФРГ с группой писателей, но статью напишу до поездки. Давайте созвонимся.
Распутин остановился в гостинице “Москва”. В назначенный час на редакционной машине подъезжаю к серому бесформенному зданию в центре Москвы, поднимаюсь на не
помню какой этаж, стучусь в номер Валентина Распутина. Я одет в новое светло-серое зимнее пальто, с каракулевым воротником, в шапке того же светло-серого цвета. Мне открывает дверь добродушный человек шукшинского типа: застенчивый, домашний,
совсем не похожий на прославленного писателя.
– Вот, – поясняет Валентин Григорьевич, – это я успел написать дома, а это -набросал прямо здесь. Может быть, неудачно – я не привык делать что-то наспех. Хотя, как и вы, был газетчиком.
Вы уже выступали в “Правде”?
– Как-то все не получалось. Один раз заказали, не напечатали. В другой раз я не сумел….Вы думаете, “Правда” это напечатает?
Не сомневаюсь. Удивительно, что писатель Распутин до сих пор ни разу не печатался в “Правде”. Давно пора!
– Вы на машине? – спрашивает Валентин Григорьевич. – Извините, но я спешу. Надо еще заехать на улицу Чкалова, поменять валюту.
– Я вас завезу.
Он надевает куртку, слишком легкую не только по сибирским, но и по московским морозам, лыжную шерстяную шапочку:
– Я готов.
В своем буржуйском зимнем пальто, в каракулевой шапке я кажусь себе дешевым пижоном в компании с писателем, европейски известным, который едет в Европу в куртке для подростка из неблагополучной семьи…
Так случилось, что в номере “Правды”, где планировалось напечатать статью Валентина Григорьевича, стихийный поток официоза вытеснил все, кроме самой необходимой информации, в основном тоже обязательной. Но статья Распутина “Что имеем..” была напечатана без сокращения, хотя и занимала большую часть шестой, последней полосы.
Мне чрезвычайно дорого вспоминать, что позднее, когда я тяжело заболел, Валентин Григорьевич, наведавшись в Москву, хотел приехать ко мне в больницу, что он не раз откликался на просьбы редакции “Правды” высказать свои суждения по каким-то, прямо скажем, мелким газетным поводам. Валентин Распутин числился в созданной по выступлениям “Правды” и других газет комиссии ЦК и правительства СССР по Байкалу, но, сколько я помню, едва ли появлялся на ее сборах в здании Госплана по улице Маркса, 1 (ныне – Охотный ряд, Государственная Дума России). И никогда, никогда он не опускался до мелочевки, до политической скабрезности, от чего, к сожалению, не застрахованы даже очень крупные личности и очень громкие имена.
Впрочем, к этому мы еще вернемся.
Можно, конечно, гордиться, что первому из правдистов мне удалось поспособствовать явлению слова Валентина Распутина со страниц нашей газеты. Но я не столько горжусь, сколько грущу. Оттого, что и я, и мои коллеги – в первую голову Виктор Кожемяко – дали так мало реальных возможностей замечательному русскому писателю высказать наболевшее со страниц “Правды”, к которой тогда прислушивались на всех этажах власти…
(Потом Валентин Распутин станет постоянным автором“Правды”, но это будет уже в годы уродливых “реформ”. Здесь же хочу рассказать об одном эпизоде еще советских времен).
Наверно, виной тому не столько наша журналистская небрежность, привычка мерить жизнь текучкой очередного номера газеты, но и суровая проза правдинских будней с ее малопонятными постороннимзигзагами и противоборствами.
Тут нельзя не вспомнить один тягостный эпизод, до сих пор тяжелым камнем оставшийся в моем чувстве-сознании.
Он связан с традиционно обязательным спецномером “Правды” к Дню печати, когда страсти иной раз накалялись до предела. Должен сказать, требования к тематическим подборкам и блокам в той, старой “Правде” бывали фантастическими. Надо было и дать общую картину “свободы печати” в СССР, ее многообразия, с обязательным представлениемместной прессы, едва ли не стенгазет, и в то же время – привлечь известные имена, крупные величины из писателей первой десятки – двадцатки, начинавших блистательное восхождение в большую литературу из неприметной газеты где-нибудь на периферии.
Валентин Распутин идеально подходил на эту роль. Начинал в иркутской газете, быстро приобрел известность, а вскоре и мировое признание. Я заказал нашему собкору Володе Ермолаеву заметки В.Г. Распутина к очередному дню печати. Валентин Григорьевич их написал – страницы 3-4. А дальше…
Дальше начались злоключения. Главный редактор В.Г. Афанасьев был чем-то крайне загружен и первым прочесть заметки Распутина не успел. Вел номер его первый зам Лев Спиридонов, недавно пришедший к нам из Московского горкома, ранее возглавлявший “Московскую правду”. Мысли Распутина вызвали у него бешеный протест.
Не хочу даже для истории повторять набор его гневных реплик типа: кто заказал этому…. материал для “Правды”? Лев Николаевич вычеркнул из заметок Распутина все, что противоречило его представлениям о печати и окружающей действительности. Оставил то, что мог бы сказать любой встречный-поперечный со столичной улицы.
Я рванул к главному, но его первый зам уже успел все согласовать…. Меня это не остановило. В.Г. Афанасьев со свойственной ему флегматичной широтой сказал:
– Знаешь, договаривайся со Спиридоновым. Он на меня… словом, не вмешивай меня в эти споры.
Я вернулся к Спиридонову, выслушал множество колкостей в свой адрес и нехороших слов автору заметок, но все же кое-что удалось отстоять, кое с чем – пришлось смириться. Я позвонил Ермолаеву, передал суть возникшей ситуации. Он пытался дозвониться до Распутина. Не получилось. Я взял грех на душу…. Даже в обстриженном виде заметки писателя произвели неплохое впечатление. Не нами замечено: в капле воды отражается океан….
В 1985-м широко, и, я бы сказал, очень искренне отмечалось сорокалетие Великой Победынад гитлеровским фашизмом. Редакционную творческую группу по освещению памятной даты доверили возглавить мне.
Как и полагалось в подобных случаях, мы тотчас собрались на малую неформальную “летучку”, в дискуссиях и спорах накидали множество тем и адресов, нафантазировали наивозможные повороты газетной кампании. Одной из банальных идей была такая – обратиться к писателям-фронтовикам. Уж кому-кому, а им, прошедшим адские дороги войны и сохранившим искру Божию таланта, само провидение велело рассказать о войне такое, чего нельзя было сказать 40 лет назад, но что и забыть было нельзя спустя четыре десятилетия.
Вот тогда я и получил записку от нашего красноярского собкора Володи Прокушева: есть возможность побеседовать с Виктором Астафьевым, одно условие – беседа не подлежит какой-либо правке и должна быть опубликована без малейшего изъятия, целиком.
Тот, кто когда-либо профессионально работал в газете, знает, как трудно, почти невозможно выполнить это, казалось бы, примитивно простое условие. Знает, насколько заманчиво взять интервью у известного человека, дорожащего своим, жизнью выстраданным мнением. Но оговорка: только ничего не править! – делает это журналистское предприятие фактически немыслимым, потому как без возможной правки в газете не появлялась да и сейчас не появляется, как правило, ни одна строка.
Так было в годы пресловутого тоталитаризма, так осталось и после августовского крушения КПСС и союзного государства. И – забегая вперед – позднее, когда, казалось бы, все в стране сдвинулось, перемешалось и до сих пор не улеглось…. Все дозволено.
Конечно же, наш собкор немедленно получил “добро” на беседу с известным русским писателем, и через две-три недели кассета с записью и ее расшифровка лежали на редакционном столе, в отделе литературы и искусства.
Николай Александрович Потапов, редактор отдела, член редколлегии, вошел ко мне, в кабинет первого заместителя ответственного секретаря, каким-то растерянным:
– Виктор Прокушев прислал беседу с Виктором Астафьевым. Ты возглавляешь группу сорокалетия Победы…. Прочти.Поговорим.
Передо мной оказалась стенографическая запись обширной беседы собкора “Правды” с Виктором Астафьевым. Ее содержание было настолько необычным, что я быстро понял, почему член редколлегии предпочел не сам идти к главному редактору В.Г. Афанасьеву, а просить об этом меня, занимавшего формально куда более скромное место в редакционной иерархии.
Виктор Астафьев писал о том, о чем не было принято писать в русской прозе о войне. Может быть, только Виктор Некрасов в книге “В окопах Сталинграда” в какой-то мере приблизился к степени откровенности астафьевского письма.
Астафьев писал о настоящих героях Великой Отечественной, ставших жертвами не сражений, а клеветы и подлости завистливых сослуживцев. Он писал о крови и грязи военного быта, вызванных опять же не столько низменными свойствами, скажем так, отдельных носителей возвышенной русской души….
Виктор Григорьевич Афанасьев – тоже участник военных действий, летчик – резко отреагировал на рукопись Астафьева: льет грязь; все было не так; зачем ты это принес? Ну Прокушев – он там думает, все можно, одичал в сибирской тайге. Но в редакции должны знать, что к чему….“Правда” это печатать не будет.
Что я мог возразить? На фронте не был, в сражениях не участвовал, военного быта, о коем говорил в своих откровеннейших мемуарах Виктор Петрович, не знал….Пережил, правда, гитлеровскую оккупацию родного края – Псковщины, вошедшей, кстати, в историю Великой Отечественной как знаменитый Партизанский край….Но что может сказать деревенско-питерский несмышленыш о трагедии вселенского масштаба?
– Почему ты ввязался в эту историю? – спросил Афанасьев, несколько обескураженный моим независимым поведением. – С писателями работает отдел литературы. Пусть ко мне зайдет Потапов.
Хорошо.
Я передал суть разговора Н.А. Потапову. Через день-два он снова заглянул ко мне:
– Виктор Григорьевич за публикацию, если убрать все лишнее…. Я предложил ему: давайте дадим Астафьеву целую полосу, объясним, что в последние годы никто не получал целой полосы…. Это – честь. Беседа куда больше полосы….
Надо еще дать фото. Без этого нельзя. Это еще строк триста.
– Объясним, что “Правда” идет на уникальный эксперимент. Целая полоса! А что не войдет – сократим….
Исключительный ценности материал Виктора Астафьева“Там, в окопах” появился в “Правде” весной 1985 года. Он занимал целую, как и обещали писателю, газетную страницу. Ее дополняла изумительная по философскому звучанию фотография Виктора Петровича на фоне сурового сибирского пейзажа. Я думаю, это был один из многих журналистских подвигов журналистов “Правды”, которыми насыщена творческая биография газеты.
…Все было бы хорошо, если бы не было так грустно.
Публикация Виктора Астафьева вызвала шквал откликов. От рассерженных ветеранов, которым прошедшая война вдруг показалась неким приключением флибустьерского толка. От многомудрых историков, присвоивших себе исключительное право толковать “события давно минувших дней”. От номенклатурных “геродотов”, кои любую эпоху готовы размалевать “применительно к подлости”. И т.д., и т.п.
…Виктор Астафьев получил много писем, по-моему, в основном – негативных. Он пытался возразить, прислал в “Правду” резкий по тону обзор откликов на свою откровенную публикацию.
Я в это время болел. Астафьевский обзор был у нас предан забвению. Виктор Петрович отдал его в “Литературку”, где и был опубликован его материал. Но – одно дело “Правда” тех лет, другое – “Литгазета”. Эффект публикации оказался размыт, смазан, если не сказать больше.
Живьем Виктора Петровича я видел всего один раз – во время съемок телевизионной передачи Тани Земсковой о Юрии Бондареве, где-то в библиотеке в центре Москвы. Астафьев скромно сидел в переполненном зале и когда – по сценарию – дошла очередь до него, просто, как-то по-мужицки вышел на сцену и сказал очень тепло и очень мудро о писателе схожей с ним судьбы, о фронтовике. Казалось, поколение фронтовиков, поколение лейтенантов, изведавших полной мерой почем фунт лиха, никогда не распадется – общее в их биографиях будет определяющим навсегда…. Увы, не сбылось, не оправдалось.Год-два спустя Виктор Астафьев резко ушел из когорты “Астафьев – Белов – Распутин”, которую все воспринимали как единое и неделимое целое; над этой троицей глумились многие либеральные тряпичкины, восславлявшие своих хлестаковых, которые захватили все литературное пространство. Астафьев стал одиноким рыцарем, разящим писательским острым словом наше (и его тоже) прошлое, пресловутый тоталитаризм, а конкретно – командиров и комиссаров Великой Отечественной, почему-то обретших в его глазах не ореол мучеников за идею (помните межировское “Коммунисты – вперед!”), а неких шкурников, прикрывавших громким словом ущербную сущность неправедной идеологии….
Что на него повлияло? Личная трагедия в связи с гибелью близких, сверхконцентрация вокруг него мелких сволочей, коих при любом режиме великое множество, либо что-то другое, нам неведомое? Я сомневаюсь, что человек столь высокого нравственного напряжения мог стать тривиальным перевертышем, каких во множестве породило наше смутное перестроечное время. Вот почему, когда мне предлагали “разгромные” статьи по Астафьеву, я всегда отвергал их, не читая. Даже в критический момент, после его интервью Жене Дворникову, очеркисту “Правды”, где Виктор Петрович, тогда еще почти лояльный Советской власти, впервые выразил сомнение: а надо ли было защищать Ленинград ценою сотен тысяч жизней – в Европе, де, просто сдавали города, лишь бы сберечь их жителей…. Сотни, тысячи возмущенных писем получила тогда редакция. И я не знаю, вправе ли мы судить тех, кто по-прежнему яростно и достойно держится принципа: прежде думай о Родине, а потом – о себе?! Думаю, уже в то время что-то сдвинулось, перевернулось в сознании Виктора Астафьева – не верю, что таким он был на войне! Но и его, я считаю, мы не вправе корить и осуждать, а должны лишь стремиться понять логику переосознания солдатом дальнобойной, истребительной артиллерии РГК событий, в которых он был в свое время реальным действующим лицом.
С “Правдой”, которая отказалась печатать его обзор читательских откликов, Виктор Петрович разошелся – по жизни – навсегда.
Замученный болезнями, горестями жизни, он прожил последние годы в своей родной Овсянке, куда к нему приезжали разные люди. Кто отметиться: вот, мол, сам Астафьев меня благословил, и теперь я могу делать что хочу, и писать что хочу – у меня на все это есть астафьевская индульгенция. Кто, из без того всесильных, вроде Ельцина, чтобы показать: вот, де, я, такой простой, демократичный, ценю больших русских писателей….А может,Наина Иосифовна любила читать Астафьева, его “Царь-рыбу” помнила наизусть? Власти всегда любили заигрывать с писателями – особенно грешили этим восточные властелины, у которых, случалось, бывали на побегушках и гениальные поэты…
Виктор Астафьев принял милостыню из барских рук Бориса Ельцина, пожертвовавшего из государевой казны на собрание сочинений талантливого писателя. Но ни минуты не сомневаюсь, что ни одно суждение, ни одна оценка прошлого и настоящего не были подсказаны ему демократическим сюзереном. Хоть и слаб человек, даже самый осиянный талантом, но Астафьев говорил и писал то, что думал, что пережил и переживал.
Несколько цитат наугад:
“К сожалению, мы и сейчас народ отсталый и забитый. Смотришь – опять под знаменами, кровью омытыми, с портретами вождей, уничтожавших нацию. Самое страшное в России это то, что наш народ так ничему и не учится…”
“Я думаю, что половина депутатов в Государственной Думе – это нормальные и порядочные люди, но я никому из них не верю…. Как говорил герой одного из моих рассказов: “Сам в себе начинаешь сумлеваться…” Вот я и “сумлеваюсь”…
“Во многих странах Европы Бог и сейчас все-таки присутствует, он и не уходил никуда, люди его боятся. А наши люди уже не боятся ничего -ни тюрьмы, ни сумы, ни за жизнь свою не боятся” (Интервью Виталия Пырх, “Трибуна”).
И вдруг в тоже газетном интервью, приуроченном к 75-летию Виктора Астафьева, с внутренней радостью прочел: “Я бы ликовал, если бы сербы сбили американские самолеты…”. Значит, не умерло в солдате Великой Отечественной чувство справедливости, во имя чего он и жил и воевал. Слава Богу!
Из записных книжек
Недавно я смотрел (наверное, не в первый раз) фильм о сражении под Сталинградом (по роману Юрия Бондарева).
Командующему фронтом говорят: в этом бою погибнут люди, много людей. Он уточняет: солдат. Ему возражают: людей. Он говорит: солдат. Иначе я не мог бы отдать этот приказ.
Да, наступает момент, когда человек перестает быть просто человеком – он становится солдатом. Солдатом Отечества.
Это значит, он отдает себя, свою жизнь и судьбу в руки тех, кто волен распоряжаться его жизнью от имени Отечества.
Но какую же ношу, какую великую ответственность берет на себя тот, кто выступает от имени Отечества.
Немудрено, что так разительно отличается восприятие войны полководцем рядовым солдатом. Солдат может не знать маршальских замыслов и планов, но он кожей чувствует окопную правду войны.
Я думаю, многим из нас ближе именно это солдатское восприятие и понятно искреннее сожаление Александра Абдулова, когда ирокомасштабно с некоей торжественностью хоронили актера Леонида илатова и все соревновались, кто лучше, красивее скажет об ушедшем в мир иной:
– Что сейчас говорить? Все эти слова надо было сказать ему при жизни. А сейчас что говорить?..
УЛЫБКА КОБРЫ – ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ?
Недавно мне позвонили из
провинции и пожелали, чтобы
я за более низкий гонорар
высказывал более тонкие мысли.
Станислав Ежи Лец
Когда бьют по своим, промахов
не бывает.
Владислав Егоров
Помните, в одном из предыдущих очерков автор корил себя за то, что в свое время морщил лоб над сущими пустяками. Почему, к примеру, съезд КПСС в нормативном порядке, предписанном с самых партийных верхов, писали (простите за тавтологию) со строчной, то есть маленькой буквы, Пленум ЦК – с большой, значит, прописной?
Это было еще в советские годы, когда КПСС стояла так недосягаемо высоко, что нам, нижестоящим гражданам, в числе их и коммунистам, понять было невозможно и множество других, самых обыденных вещей.
Почему например, партию эсдеков, потом – коммунистов, созданную для народа, для политической борьбы за интересы пролетариата, крестьянства и, как говорили в былое время, трудовой интеллигенции, так легко в послереволюционной стихии поразил вирус исключительности, сделав её практически закрытой для всех слоев народа? Не все, к примеру, знают, что в последние годы бытования КПСС в ней приобрела исключительное значение пресловутая вертикаль, ныне реанимированная частично и Х съездом КПРФ, а прежде олицетворенная в двух-трех известных органах: Секретариате ЦК КПСС и Общем отделе, в КПК – Комитете партийного контроля и в ЧК – КГБ, вооруженном, боевом отряде партии.
Мой старый автор Леон Аршакович Оников, тбилисский армянин, долгожитель аппарата ЦК, начиная с времен позднего Сталина и до крушения Горбачева, был до конца своих дней фанатично уверен, что корень всех партийных бед – в искоренении при Сталине массовых, общественных начал в работе ВКП(б) – КПСС. Такие начала, по его мнению (он сумел убедить в этом и меня, тогда заместителя редактора идеологического отдела “Правды”), определяли характер деятельности парторганизаций, включая и сам ЦК. Действовали, говорил он в нашей беседе, опубликованной на страницах “Правды” в середине 80-х, десятки разного рода общественных комиссий, которые контролировали работу партийного аппарата…
Бедный Леон Аршакович! Прослужив в ЦК, в его аппарате, больше полувека, он по чистоте душевной, до конца дней своих, верил, что этот аппарат можно демократизировать. О чем не раз писал докладные записки М.С. Горбачеву, обращался к партийным массам и верхам через В.Г. Афанасьева, через “Правду”. У нас с ним бывали и размолвки: за отказ, не помню уж чем мотивированный, напечатать одно из многочисленных его писем он резко критиковал меня, заместителя главного редактора и одновременно руководителя отдела партжизни. Причем критиковалв “Независимой газете”, созданной не без поддержки “черного кардинала” из ЦК КПСС, в которой едва ли не в том же номере или чуть раньше-позже была воспроизведена из эмигрантского парижского издания мракобесная статья Д. Мережковского. Мрачный литератор, заклейменный за это выступление даже значительной частью русской эмиграции, тоже пострадавшей после Октября 1917-го, поведал в своем опусе о безмерном восторге перед неистовым Адольфом, бросившем свои фашистские армады на Советскую Россию. Статья Мережковского была направлена, конечно, и против Сталина, но также и против всего русского народа, сделавшего в Октябре свой исторический выбор.
Это и стало причиной нашего, едва ли не последнего, разговора на отнюдь не миролюбивых нотах. О чем я, конечно, сожалею. Но за правду истории посражаться готов. Жаль, уже нет с нами Леона Оникова (сам он любил называть себя Лева).
Кто из нас был прав? Думаю, ответа на этот вопрос в чистом виде не существует.
Мы оба были и правы, и неправы.
Наше тогдашнее согласье – это наша вера в то, что только демократия в партии могла спасти положение в стране, где, по Л. Толстому и В. Ленину, все переворошилось и еще только укладывается. В те прежние времена всё “уложилось” в революции 1917 года, гораздо более радикальной, чем первая русская, российская 1905-1907 годов, современником которой был великий писатель. Мы с Леоном Аршаковичем еще не знали, к чему, к какому перевороту, приведут общие усилия мирным путем, сверху вниз, демократизировать компартию. Не знали мы и не ведали, что на самом деле затеяли реформаторы-перестройщики и мог ли быть у начатого ими “переворошения” какой-либо иной исход.
…Хочу напомнить читателям: я пишу о событиях середины 80-х – начала 90-х годов через призму своего, чисто личного участия в них, своего субъективного восприятия. Кто-то может заподозрить, что я преувеличиваю нашу роль, – роль “Правды” – в историческом исходе происходящих общественных процессов. Нет, это не так. История идет по своей стезе, и стезя эта бывает очень трудна, непредсказуема и тяжка, о чем очень мудро и точно написал поэт Ярослав Смеляков:
История не терпит суесловья.
Трудна ее народная стезя.
Ее страницы, политые кровью,
Нельзя любить бездумною любовью
И не любить без памяти нельзя.
“Правда” – частица именно такой, именно этой истории.
Нашу газету называют ленинской, и это в общем-то справедливо. Идея “Правды” была выстрадана, когда еще не было ни большевиков, ни меньшевиков, ни даже самой партии. Она нашла свое реальное воплощение в “Искре”, первый номер которой вышел за границей, в Лейпциге. Затем – в газетах “Вперед”, “Пролетарий”, “Новая жизнь”, “Социал-демократ”, “Рабочая газета”…Непосредственной предтечей “Правды” была легальная большевистская газета “Звезда”.
Многие думают, что с созданием “Правды” завершились противоречия между печатным органом партии и партийным аппаратом, которые обнажились чуть ли не с первого номера “Искры”. Тогда, если помните, было два руководящих органа партии – ЦО (центральный печатный орган) и ЦК (Центральный комитет), из их представителей состоял Совет партии. Кто числился главным – никто по сути не знал. ЦО был, пожалуй, авторитетнее: в нем работали основатели партии, ее теоретики – в том числе Плеханов, Ленин, Мартов. Раскол между Лениным и другими членами редакции ЦО положил начало решающему расколу партии.
Когда вышел первый номер “Правды”, раскол был уже настолько глубок, что “за интересы” пролетариата и беднейшего крестьянства боролись (в основном друг с другом) уже несколько партий, и каждая из них имела свою газету: “Луч” (Л. Мартов), “Единство” (Г. Плеханов) и т.д.
Не моя забота – выставить им какие-то оценки, но очень жаль, что нас, студентов ведущих журфаков знаменитых столичных университетов, учили не по реальным подшивкам разнообразных газет того времени, а лишь по учебникам Портянкина, Веревкина и других авторов, тоже почти не знакомых с газетными публикациями этих изданий.
Не удивительно, что те хваткие активисты, которые в последние годы азартно берутся руководить прессой, уверены, как в свое время Н.С. Хрущев был прав, считая, будто сотрудникам редакций не нужны ни талант, ни знания, а лишь партийная дисциплина и другие близкие качества, которыми, как выяснилось, можно и поторговать.
Я специально не касался этой, “торговой” темы, и видимо, зря.
Приведу несколько эпизодов.
Еще вступая в ряды правдистов, я обратил внимание на бескорыстность отношений в редакции. Ни зарплата, ни гонорар не были и не могли быть предметом серьезных раздоров. Многие приходили в “Правду”, теряя в зарплате. Но все же когда какой-нибудь редактор или член редколлегии принимался “валить лес” за весь отдел, по делу и не по делу проталкивая себя в авторы передовиц, это воспринималось с холодком.
Или спецкор, близкий к ответсеку, не успевал еще промокнуть чернила, а писал он перьевой школьной ручкой, – и тут же его текст стоял в полосе, раздвигая “нетленки” товарищей по перу.
И все же это были мелочи быта: крупные деньги вокруг газеты не ходили.
Иное дело – с началом перестройки.
Откровенно переманивая журналистов ведущих газет, издатели пестрой продукции на злобу дня за эту злобу весьма прилично платили.
Приходил, скажем, в редакцию “Правды”, в свой бывший отдел Владимир С., спрашивал своего собеседника, листая подшивку:
Сколько тебе за это заплатили?
Тот называл сумму.
И за такой гонорар ты на них работаешь? Чудак!
Нет ничего страшнее сомнения. Недаром говорят: червь сомнения. Он не знает других преград, кроме совести.
У В. Шекспира в “Гамлете” есть такое сравнение: “Так трусами нас делает сомненье”. Оно же источник нравственных исканий, мук, своего рода посох в дальнем пути. Но оно же легко поддается самовнушению: я поступил так, потому не мог поступить иначе. Или: меня бес попутал. Или, наконец: я ушел из “Правды”, так меня угнетала царящая там атмосфера (на самом-то деле перевесила вдвое-втрое большая зарплата, не говоря о других житейских костылях…)
Стремление за более низкий гонорар получать от журналиста более тонкие, а значит и более гладкие мысли многие десятилетия было преобладающим в партийной печати.
Вот такой эпизод – во время одной из предвыборных кампаний. На вопрос, почему ЦК не финансирует публикации в “Правде” “кампанейских” материалов, последовал ответ:
А мы своим журналистам не платим.
Почему?
Они и так будут работать на нас.
Потом, когда надо было оформлять счета, выяснилось, что много средств избирательного фонда не потрачено – пришлось их срочно распихивать разным изданиям.
С этим связано было и множество курьезов. Вечная нищая газета не могла питаться одними обещаниями. А поскольку“свои” не платили, приходилось заключать договора с “чужими”, часто совсем неугодными нашим экономным лидерам. Это вызывало визгливое раздражение кандидатов, продвигаемых с верхов, а также аппаратчиков, опекающих желаемых и даже утвержденных по-старинке номенклатурных выдвиженцев.
Так было, скажем, в одном из районов Подмосковья. Даже письмо о рядовой активистке, опубликованное в “Правде” без всякой задней мысли, вызвало гневный звонок в редакцию:
– Как вы посмели это напечатать? Вы разве не знаете, что в Мытищенском округе баллотируюсь я, а эта женщина – она агитирует за другого кандидата?
“Другой” кандидат пошел другим путем, абсолютно законным: оплатил по счету, через банк, статью о себе и заказал дополнительно десять тысяч экземпляров тиража.
Потерпевшая “наша” с тех пор стала для нас чуть ли не врагом, грозно пообещав “Правду” никогда больше не выписывать и не читать…
К слову сказать, именно выборы в Госдуму начали расшатывать прежде вполне боевую, политически стойкую организацию. Появилось немало охотников на вечное сидение в Охотном ряду, зависимых от благорасположения руководства. Пустил ростки сначала скрытный, а потом и откровенный подхалимаж. Из ничего возродилась номенклатура. Ну а номенклатура – это самовоспроизводящийся клон, причем его размножение идет без оглядки на государственные законы, мнение науки и общества. Она проникает всюду, захватывая плацдарм за плацдармом, становясь все более властной структурой. Ей присуще стремление к закрытости, секретности своих действий, когда тайной покрывается все, что вершится в номенклатурной верхушке. Под этим предлогом можно опрокинуть любые решения, принятые любым высшим органом, или придать им совершенно противоположное содержание.
Мы в “Правде” – и журналисты, и читатели – часто удивлялись, почему вдруг вскоре после пленума ЦК в соседней с нами газете появляется статья, где выработанное коллективное решение разбивается в пух и прах. Был даже скандал, когда со страниц “Советской России” была преподнесена как нечто директивное статья члена президиума ЦК Белова Юрия Павловича, абсолютно не стыкуемая с общим мнением. Коммунисты считали, что идти на выборы, как парламентские так и президентские, надо широким фронтом вместе ссоюзниками из левопатриотических сил. Автор же утверждал: все союзники ненадежны, они размывают позицию КПРФ, стремятся за ее счет утвердиться на политической арене. Это произвело шок. Как впоследствии оказалось, это была продуманная позиция группы людей, провозгласивших себя непримиримыми борцами с российским капиталом. В ряде изданий, в том числе в журнале “Искра” появились резкие возражения. Некоторые наиболее активные сторонники идеи Союзадаже предлагали исключить автора, а с ннм и главного редактора из состава руководящих органов партии.