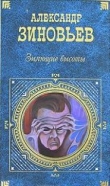Текст книги "Нашей юности полет"
Автор книги: Александр Зиновьев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Культурная революция
Одной из величайших заслуг сталинизма и одним из условий, подготовивших его уничтожение, является культурная революция.
Я уже говорил, что человеческий материал не соответствовал потребностям нового общества, – оно нуждалось в миллионах образованных и профессионально подготовленных людей. И оно получило возможность эту потребность удовлетворить в первую очередь. Тут мы видим другой в высшей степени интересный парадокс истории: самым доступным для нового общества оказалось то, что было самым труднодоступным для прошлой истории, образование и культура. Оказалось, что гораздо легче дать людям хорошее образование и открыть им доступ к вершинам культуры, чем дать им приличное жилье, одежду, пищу. Доступ к образованию и культуре был самой мощной компенсацией за бытовое убожество. Люди переносили такие бытовые трудности, о которых теперь страшно вспоминать (и в реальность которых теперь уже не верят), лишь бы получить образование и приобщиться к культуре. Тяга миллионов людей к этому была настолько сильной, что ее не могла остановить никакая сила в мире. Всякая попытка вернуть страну в дореволюционное состояние воспринималась как страшная угроза этому завоеванию революции. Быт играл при этом роль второстепенную. И казалось, что образование и культура автоматически принесут бытовые улучшения. И это происходило на самом деле для многих, что вселяло надежды на будущее.
Коллективизм
Назову еще один важнейший результат революции, привлекший на сторону нового общества широкие народные массы: образование коллективов, благодаря которым люди приобщились к публичной социальной жизни и ощутили заботу общества. Условия жизни и работы людей внутри советских коллективов предмет особого разговора. Я определенно узнал тогда одно: люди познали достоинства такой жизни, и вернуть их в прошлое было уже невозможно. Я тогда много бродил по стране. Как бы плохо ни было в колхозах, большинство крестьян уже не хотело от них отказываться. Тяга людей к коллективной жизни (причем без хозяев, с активным участием в этой жизни) была неслыханной ранее нигде и никогда. Демонстрации и бесчисленные собрания всякого рода были делом добровольным. На демонстрации ходили целыми семьями, порою – даже с младенцами и инвалидами. Несмотря ни на что, иллюзия того, что власть в стране принадлежит «народу», была всеподавляющей иллюзией тех лет. И явления коллективистской жизни, которые были внове для подавляющего большинства людей, воспринимались тогда как показатель народовластия. Они и были таковыми на самом деле. Народные массы заняли нижние этажи социальной сцены и приняли участие в социальном спектакле не только в качестве зрителей, но и в качестве актеров. Но и актеры на верхних этажах сцены и на более заметных и важных ролях тогда тоже выходили из народа. На нижних уровнях сцены разыгрывались в миниатюре все те же спектакли, какие разыгрывались в масштабах всей страны.
Сейчас я говорю обо всем этом как о прошлом, т. е. спокойно и даже с некоторой симпатией. Тогда я наблюдал этот процесс формирования власти, оргию власти, буйство народовластия со страхом, с безнадежным отчаянием. Я сам постоянно ощущал на самом себе тираническую власть людей, как будто бы лишенных всякой власти, – власть коллектива на самом низу социальной иерархии. Функции мои были самые примитивные: мальчик на побегушках, уборка мусора, чистка машин начальства. Зарплата – мизер. Койка в общежитии. В нашей комнате жило двадцать человек. Койки были двухэтажные. Моя койка – у самой двери, рядом – уборная. И холод. Я стремился приспособиться к коллективу. Научился ругаться матом, пить самогон и денатурат, играть в карты, драться. Но мое образование и культура так или иначе давали себя знать. Я получил кличку Студент. Коллектив следил за каждым моим шагом. Я чувствовал недоверие к себе. Стукачи вызывали меня на откровенность. Комсорг питал ко мне антипатию: я однажды неосторожно посмеялся над ним. Комсорг высказал парторгу подозрения насчет меня. Парторг посоветовал покопаться в моем прошлом. Мне еще не было восемнадцати, а я, оказывается, уже имел прошлое. И коллектив должен был его разоблачить.
Но комсорг не успел разоблачить меня: потребовалось выделить от учреждения несколько «добровольцев» на отдаленную сибирскую стройку. Меня, естественно, включили в их число. В первую же ночь я сбежал из эшелона.
Любовь
В те времена еще встречалось явление, называемое в старой литературе словами «первая любовь». Это сейчас люди втягиваются в жизнь так, что как-то незаметно минуют это мучительное и вместе с тем сладостное состояние. Я жил в ту страшную эпоху и испытывал первую любовь.
После того бегства из эшелона я устроился работать на маленьком полустанке вдали от населенных пунктов. На полустанке было два домика и сарай. В сарае жили мы – рабочие. Рабочие все, кроме меня, были женщинами. Мне они казались старухами, хотя самой старшей из них не было и сорока. Я спал, разумеется, отдельно – в углу, где сваливали орудия труда. Спали на соломе, покрытой тряпьем. У меня и тряпья своего не было. Бабы одолжили мне какую-то вонючую вшивую рвань. В одном из домиков жил командовавший нами бригадир с семьей. В другом – начальник полустанка с семьей. У начальника была старая, измученная заботами жена и пятеро детей. Старшая дочь была моего возраста. Она и стала моей первой любовью.
Не могу сказать, была она красива или нет. Для меня такой проблемы тогда вообще не было. Было чистое и неодолимое чувство, отодвигающее в сторону все прочие критерии. Это тоже было характерно для той эпохи. Мы сначала влюблялись, причем раз – и навсегда, и лишь потом разглядывали, в кого именно мы влюблялись. А я свою первую любовь даже разглядеть не успел: пришлось снова убегать.
Наша любовь была любовью в самом высшем и чистом смысле. Мы сидели на бревнах или гуляли по окрестностям до рассвета, не прикасаясь друг к другу даже руками. Для меня было достаточно одного только того, что она рядом со мной. Это – тоже черта той эпохи.
Мы телами обнаженными
Не касалися друг друга.
Даже с собственными женами
Говорили: «друг», «подруга».
Мы говорили о будущем, но не о нашем лично, а о будущем всей страны, всего народа. Оно нам представлялось сказочно прекрасным.
Все люди будут иметь свою отдельную койку с чистыми простынями, фантазировали мы. Все будут получать трехразовое питание. Одежда будет чистая и без заплат. Каждую неделю будут показывать кинофильм… Короче говоря, мы мечтали как о сказочном богатстве о том, что потом стало будничным явлением убогой советской жизни. Поразительно, обретя некоторый минимум житейских благ, который нам казался верхом мечтаний, советские люди утратили надежды на райское будущее. Лишь много лет спустя я понял, что это есть общее правило общественной психологии: рост благополучия порождает рост недовольства своим положением и неверие в будущее общество изобилия. Именно улучшение жизни в послевоенное время убило идеологическую сказку коммунизма, а не чудовищная бедность тех лет.
Наша взаимная любовь казалась настолько сильной, что я решил полностью довериться своей невесте и рассказать ей о своих злоключениях. Я так и сделал. Она ничего не сказала. Мы посидели еще немного и разошлись. А утром чуть свет явились пьяный бригадир и пьяный же начальник. Они избили меня. Сунули в подпол, где хранилась зимой картошка. Начальник сообщил обо мне на ближайшую станцию. Там обещали прислать человека за мной. Но мне повезло: жена начальника выпустила меня, сунула краюху хлеба, сказала: «Беги!» Я вскочил на товарный поезд, замедливший ход, и покинул свою первую любовь, так и не коснувшись ее рукою. Где она теперь? Что с ней стало?
Безысходность
Во время своих скитаний я встречал десятки людей, вступавших в конфликт с обществом и законом. Они ухитрялись годами жить припеваючи. Но во мне было что-то такое, что сразу настораживало окружающих, – во мне сразу замечали чужого. Однажды я устроился работать в артель, которая была прикрытием для шайки жуликов и бандитов. Работал я вполне добросовестно. Через неделю меня позвал глава банды (заведующий артелью), дал немного денег и велел убираться подальше. «Тебя все равно найдут, – сказал он, – а заодно и нам пришьют политику». А ведь я ни словом не обмолвился о «политике».
Отчаявшись уйти от преследования, я вернулся домой – туда, где жил и учился ранее и где был «прописан». Это был инстинктивно правильный шаг: именно там меня не искали. Вскоре я ушел добровольцем в армию. Ушел не от преследования – я решил больше не скрываться, – а от голода и грязи. И от одиночества.
Мне и на сей раз повезло. Сразу же после подписания договора о ненападении с Германией страна стала готовиться к войне с Германией. В армию призвали выпускников средних школ и техникумов, студентов первых курсов институтов, выпускников институтов, не служивших ранее в армии, уголовников, осужденных на малые сроки или находившихся под судом. В военкомате, куда я обратился с просьбой взять в армию, все документы заполнили с моих слов, а паспорт сочли потерянным.
В воинские части нас везли в товарных вагонах. Спали мы на голых досках. Кормились непропеченным хлебом и кашей. И это длилось чуть ли не целый месяц. На какой-то станции на Урале уголовники нашего вагона обчистили винно-водочный магазин и устроили попойку, в которую «по доброте душевной» (т. е. за хлеб и кашу) вовлекли всех остальных. Мы упились, конечно, и потеряли контроль над собой. После похабных разговоров перешли на «политику». Один парень, обливаясь горючими слезами, признался, что он был стукачом в техникуме и что дал согласие быть стукачом здесь, в эшелоне. Он просил побить его и выбросить из вагона. Наступило гнетущее молчание. При дележе каши и хлеба (этим занимались, конечно, уголовники) признавшийся стукач получил удвоенную порцию. В конце пути стукач под большим секретом признался кому-то, что он наврал насчет своего стукачества, так как очень страдал от голода. Уголовники, узнав об этом, избили его до полусмерти и ночью выбросили из вагона на полном ходу. Начальству доложили, что он дезертировал. Мы помалкивали. Впереди была полная беспросветность.
Эпитафия стукачу
При жизни он на всех стучал
И мир покинул, не раскаясь.
Что делать, коли жизнь такая:
Донос – начало всех начал.
И вот в могиле он лежит.
Ведь и стукач подвластен смерти.
Хотите – нет, хотите – верьте:
Он каждой клеточкой дрожит.
Доступна всем наука та.
А вдруг ему какой чистюля
Вдогонку преподнес пилюлю:
Донос на Небо накатал?!
Память
Однажды Он не пришел на условленную встречу. После этого я Его уже никогда не встречал. Наступило одиночество. Я метался по городу в поисках людей. Но они все куда-то исчезли. Им было не до меня, у них были свои заботы. «Вернись, – взывал я к прошлому, – я пойду на любые муки, приму любую несправедливость, только вернись! Люди! Остановитесь! Опомнитесь! Неужели вы не видите, что вы теряете, от чего отрекаетесь и что получаете взамен?! Неужели вы сменяете всеразрушающий и всесозидающий ураган истории на унылую трясину благополучия и безопасности?!» Но никто не слушал меня. Все спешили бежать назад. Им казалось, что они смело рвутся вперед, в атаку. А они в панике бежали назад. Если бы я мог грудью броситься на сеющий панику и смерть пулемет времени, дать опомниться бегущим, заставить их остановиться и снова ринуться вперед!..
Чтобы как-то одолеть одиночество, я решил описать мою ничтожную и великую, безобразную и прекрасную эпоху. И обнаружил, что сделать это невозможно. Вспоминались только отдельные детали и эпизоды, а целое расплывалось в неопределенные эмоции. Ладно, решил я, начну с отдельных эпизодов и постепенно опишу целое. Другого же пути все равно нет?! Так я написал повесть об одном эпизоде из своей жизни – повесть о предательстве. Но она меня почему-то не удовлетворила, и я ее уничтожил. Теперь, много лет спустя, я вижу, что правильно сделал. Целое никогда не складывается из отдельных эпизодов. Оно лишь распадается на эпизоды, оставаясь при этом единым и неповторимым. Оно исчезает, оставив после себя, как развалины, отдельные эпизоды. И если хочешь его описать, бери его сразу и целиком, а не постепенно и по кусочкам. А как это сделать? Очень просто. Мне показалось, что это сказал Он. Я, обрадованный, оглянулся. Никого. Конечно, просто, согласился я. Забыть!
Но попробуй забудь хотя бы этот день! Мороз под тридцать. На нас ботинки с обмотками, бывшие в употреблении, вытертые шинельки. Шапки. Но уши опускать нам запретили: надо закаляться. Мы учимся преодолевать штурмовую полосу. Это – цепь препятствий, которые вроде бы должны быть на пути нашей наступающей армии в будущей войне, – проволочные заграждения, ров, забор, бревно… Мы должны научиться преодолевать эту полосу за несколько минут. Сейчас мы тратим времени раз в пять больше. Нас гоняют снова и снова. Мы выбиваемся из сил. И преодолеваем полосу еще медленнее. Сержанты и старшина сердятся. Грозятся гонять нас целые сутки без перерыва, пока…
– Пока мы не протянем ноги, – говорю я своему соседу по нарам, с которым мы сдружились еще в эшелоне. – Бессмысленное выматывание сил. Какой идиот это все выдумал?!
– Потише, – говорит мой друг, – а то услышит кто-нибудь, беды не оберешься. Знаешь новый лозунг: тяжело в ученье – легко в бою? Вот они и стараются. Как говорится, заставь дурака Богу молиться, он рад лоб расшибить.
– Надо технику изучать, – шепчу я, – новые виды оружия. Новая война будет войной самолетов, танков, пушек, автоматов, а не штыков и шашек.
– Тише, – шепчет Друг. – Видишь, тот тип к нам приглядывается и прислушивается? Будь поосторожнее с ним. Не нравится он мне. Похоже, стукач.
– Плевать на стукачей, – шепчу я. – Сколько можно терпеть?! Мы же не враги. Мы же хотим как лучше! Мы же тоже о будущем завоеваний революции заботимся!
– Не наше дело знать, что лучше и что хуже, – шепчет он. – Замри! Видишь, к нам начальство направляется? Вон тот маленький с красной толстой мордой – особняк. Не советую попадаться ему на пути. Тут все перед ним трясутся, включая самого командира полка.
Раздается команда сержанта. Мы снова один за другим бросаемся преодолевать штурмовую полосу. Теперь мы стараемся: на нас смотрит высокое начальство. И мы преодолеваем ее за время, только вдвое больше положенного. Потом нас построили. Командир роты сказал, что мы – молодцы и что он благодарит нас за службу. «Служим Советскому Союзу!» – рявкнули мы не очень громко и стройно.
Командиры ушли. «Ничего, постепенно втянутся, – донеслись до нас обрывки из разговора. – Через полгода настоящими бойцами будут». А после отбоя меня поднял дневальный. «Живо в штаб! – шепнул он испуганно. – В Особый отдел!»
Но лучше я припомню кое-что из той самой повести. Я, конечно, не могу ее восстановить в том виде, как я ее тогда писал, – все живые краски того времени исчезли навсегда, осталась лишь серая, однообразная схема.
Период
В этот период, как и во все предыдущие и последующие, страна жила напряженной и содержательной жизнью. Был совершен еще один рекордный перелет. Правда, перелет не удался и самолет упал в тайге, не долетев до цели тысячу километров. Но он упал дальше всех в мире, вписав тем самым новую славную страницу в героическую историю страны и покрыв себя неувядаемой славой. Был прорыт еще один километр канала. Была разоблачена еще одна группа врагов народа. Вождь внес очередной вклад в сокровищницу идей марксизма-ленинизма.
Место
Сибирь. Маленький поселок в трехстах километрах от ближайшего маленького городка. Не ищите этот городок на географических картах. Он возник совсем недавно и еще не достиг размеров, позволяющих быть отмеченным точкой на карте местного значения. Энский Краснознаменный Туркестанский полк Энской дважды Краснознаменной Тамбовской дивизии. Орден Красного Знамени полк получил за участие в подавлении восстания тамбовских крестьян, а звание «Туркестанский» – за участие в подавлении восстания туркестанских крестьян.
Главный герой
Главное действующее лицо описываемых событий – старший лейтенант Егоров. Почему, спросите, какой-то ничтожный старший лейтенант удостоен такого внимания, что ему посвящается целая повесть? Да потому, что старший лейтенант Егоров есть не рядовой старший лейтенант, каких полно в полку, а начальник Особого отдела полка, короче – особняк. Ясно?! А полковой особняк Егоров заслуживает не какой-то коротенькой повестушки, а, может быть, целого полновесного романа. Сомневаюсь, что кто-то рискнет оспаривать это утверждение.
Старшему лейтенанту Егорову, вообще-то говоря, по возрасту, по срокам службы, по заслугам и по опыту давно следовало бы быть особняком дивизии. Но произошло чрезвычайное происшествие (чепе): из полка дезертировал солдат. Солдат пропал бесследно. Скорее всего, его засосало в трясину или волки сожрали. Но дело не в этом, а в том, что хорошо налаженная система осведомителей не смогла вовремя распознать намерения дезертира и предупредить чепе. Потом произошло другое чепе, которое, с одной стороны, ухудшило положение особняка Егорова, а с другой – немного улучшило. Происшествие вот какое. Солдат первого года службы пускал себе в глаза крошки грифеля химического карандаша, от чего зрение ухудшилось, и солдата уже собрались демобилизовать. Но Егорову пришла в голову идея исследовать поры кожи вокруг глаз. В порах обнаружили следы химического карандаша. Солдата осудили на десять лет. Егорову сделали замечание за то, что опять-таки не предупредил чепе. Но объявили благодарность за то, что разоблачил преступника. И теперь Егорову во что бы то ни стало нужно было такое чепе, в котором он одновременно проявил бы себя в роли разоблачителя и профилактика. Только такое заранее предупрежденное и вместе с тем разоблаченное чепе могло позволить Егорову получить очередной чин капитана государственной безопасности и возвыситься до особняка дивизии. И вот уже несколько месяцев Егоров ломал голову над этой проблемой. Он чувствовал, что ожидаемое новое пополнение полка, полностью состоящее из ребят со средним образованием и даже с незаконченным высшим, даст ему этот шанс. Но сам этот шанс не придет. Его надо организовать. А это с «академиками» (как презрительно заранее называли новичков малограмотные сержанты, старшины и младшие офицеры) не так-то просто. Тут надо мозгами шевелить!
Система Егорова
Старший лейтенант Егоров имел свою собственную систему осведомительства, которую он со временем собирался изложить в особой докладной записке вышестоящему начальству. Он рассчитывал заслужить за это поощрение и перебраться если не в самую Москву, то, во всяком случае, поближе к цивилизации. Вся его прошлая служба проходила на Дальнем Востоке, в Средней Азии, в Сибири. Хотя он ко всякой глуши уже давно привык, он все-таки мечтал вырваться из нее к свету, к культуре, к более сытной и комфортабельной жизни.
Вот некоторые постулаты системы Егорова. Осведомители разделяются на явных и скрываемых в пропорции один к пяти. Это значит, что на одного осведомителя, относительно которого все знают, что он – стукач, приходится пять осведомителей, которых не так-то просто распознать. Тайных осведомителей целесообразно отбирать из военнослужащих, которые могут ходить на свидание с особняком, незаметно для окружающих или не вызывая у них подозрений. Таковы, например, участники самодеятельности, спортсмены, почтальоны. Роль явных осведомителей – отвлекать внимание от тайных и участвовать в нужных провокационных операциях. Сделать осведомителя явным очень просто. Для этого достаточно, например, пару раз вызвать его в Особый отдел прямо с занятий, а после его вызова вызвать того, на кого он принес донос. Явных осведомителей целесообразно выбирать среди глупых военнослужащих, а тайных – среди наиболее умных и образованных. Среди тайных осведомителей следует иметь таких, которые пользуются уважением товарищей и считаются критически настроенными. Это – наиболее ценные кадры. Приобрести их труднее всего. Зато если удалось заиметь такого осведомителя, можешь спать спокойно. Он работает за десятерых и сам предвидит все возможные чепе. Правда, он склонен обычно к фантазии. Но этот недостаток легко исправим. Те два неприятных чепе произошли потому, что такой осведомитель (он был единственным в роте) демобилизовался, отслужив свой срок, а нового на его место не удалось найти до сих пор. Егоров в этом отношении возлагал большие надежды на ожидаемое пополнение из «академиков».
Егоров по опыту знал, что ни в коем случае нельзя обычного тайного стукача превращать в такого критически настроенного индивида. Критическая настроенность должна быть естественной. Ее нельзя сыграть. Товарищи сразу замечают подделку, и агент превращается в явного стукача. Он не раз проделывал этот эксперимент. И каждый раз терпел фиаско.