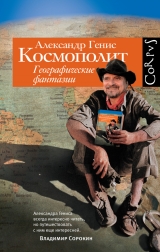
Текст книги "Космополит. Географические фантазии"
Автор книги: Александр Генис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Люди дождя
Будучи холериком от природы и по профессии, я всегда жалел, что не родился англичанином, ибо, поверив Жюлю Верну, всегда считал их флегматиками. Завидуя не столько государственной истории, сколько национальному темпераменту, я не соблазнялся паллиативами вроде эмиграции. Мне хотелось быть англичанином, а не стать им.
Конечно, и эта мечта не обошлась без истории. Лучше всего Англии удался ХIХ век, который она назвала – и сделала – викторианским. С тех пор этот умеренный идеал, заменив собой героическую античность, у всех породил ностальгию по чужому прошлому. Эта – приснившаяся – Англия напоминает маскарадную викторианскую готику, удачно проявившую себя лишь в курортной архитектуре. В такую Англию хочется играть. Не случайно, думаю я, сюда тянутся разбогатевшие, как в сказке, новые русские – в детстве мы все читали одни и те же книжки.
Раньше, однако, я ни с кем не делился британской фантазией, считая ее интимной. Теперь мне уже все равно. Прожив треть века за границей, я разменял чувство принадлежности на мириады разнообразных привязанностей. Из родного у меня остался язык – и смутная география: дома я себя чувствую там, где моросит. Англичане, как-то пришло мне в голову, люди дождя. Окруженные водой, они потребляют ее в жидком, туманном и твердом состоянии – в коктейлях.
Дело еще и в том, что в юности британцев я встречал только на парадных портретах, где у них были одутловатые лица, блеклая кожа и водянистые глаза цвета нашего – Балтийского – моря. Долговязая английская красота проявляется лучше в лошадях, чем в женщинах, но удачнее всего – в собаках. Британские художники, считавшие бестактным приукрашивать модель, брали свое щенками.
«Любой картине, – сказал Сэмюэль Джонсон, – я предпочту портрет знакомой собаки».
Что и неудивительно: псам идет поджарость, чего не скажешь о дамах: бледные, как спаржа, они, кажется, с трудом несут легкий груз своих прелестей.
«Все здесь, – вычитал я у Тацита про островитян, – медленно созревает, но быстро растет по причине чрезмерной влажности». Видимой ее делает туман. Это осевшее на земле облако служит нематериальным и бесспорным свидетельством небесных процессов, чем напоминает религию. Англичане туманом гордятся, иностранцы – любят за то, что он упраздняет достижения первой индустриальной державы, успешно скрывая их.
Но дождь я люблю еще больше. Во время каникул он означал свободу: можно было не ехать на пляж, а сидеть дома наедине с собакой Баскервилей (у нее был мой темперамент). Только с годами я понял, чем меня соблазняет скверная погода: дождь остраняет крышу, даже если она – зонтик. Когда по его складному потолку барабанят капли, мы слышим музыку цивилизации.
Климат, однако, меняется, теперь и Англия страдает летом от такого зноя, что нежные свиньи-беркширки прячутся в тени специально построенных для них навесов. Другие, впрочем, довольны: в Шотландии растет клубника, а в лондонских парках загорают без лифчиков.
– Шведки, – наврали мне старожилы.
Несмотря на жару, я натянул парадную пару, ибо мне не каждый день удается пообедать на Пэлл-Мэлл. Русская версия самой популярной в Англии Букеровской премии тогда была еще внове, и членов нашего жюри принимали как посланцев бывшей литературной сверхдержавы. В память об этом, как выяснилось чуть позже, для торжественной трапезы хозяева выбрали «Реформ-клуб».
Стоя у входа в этот сдержанный дворец, мы степенно толпились, не предвидя назревающего конфликта. Между тем он был неизбежен: Окуджава явился без галстука. Приятно улыбаясь, швейцар указал на недочет в костюме джентльмена и предложил его тут же исправить с помощью клубного галстука демонстративно невзрачной расцветки.
– Видите ли, сэр, до тех пор пока в наш либеральный клуб не приняли дам, в эту дверь никто не входил без галстука.
Улыбаясь не менее приятно, Окуджава объяснил, что он тоже ценит традиции, особенно – свои:
– Я не надевал галстука даже на съезд КПСС, – сказал он и предложил подождать нас в стыдливо спрятавшемся неподалеку от клуба «Макдональдсе».
Лорды смешались. Похоже, заметил я не без злорадства, что они тоже не знали, как унять швейцаров. Надеясь избежать интернационального конфуза, сэр Рёдрик, знавший русский не хуже нас, открыл карты:
– Мы пригласили вас сюда потому, что за клубным столом обедал Тургенев. Мистер Окуджава, – торжественно сказал дипломат, – вы будете сидеть на его стуле.
– Иван Сергеевич? – задумчиво переспросил классик.
– Вот именно. Вы помните «Записки охотника»?
– Более-менее, – не протянув руку к галстуку, холодно ответил Окуджава.
Решив, что великий бард скорее романтик, чем реалист, я врезался в образовавшуюся паузу:
– В этих стенах Филеас Фог заключил пари, пообещав совершить кругосветное путешествие за восемьдесят дней. Надеюсь, этим все сказано?
Жюль Верн оказал свое обычное действие. Окуджава с отвращением натянул галстук, взяв с нас обещание молчать, пока он будет жив.
Торопливо поклявшись, мы вступили в чертог британской эксцентрики. С испугу мне почудилось, что эти рослые седовласые люди похожи на пожилых и приветливых львов. Представляясь, самый потрепанный подал левую руку.
«Инвалид», – подумал я, пожимая ладонь ветерана.
Оказалось – родовой обет.
– Шотландцы – все сумасшедшие, – легкомысленно объяснил нам провожатый. – Скотта читали?
На этот раз Окуджава закивал энергичнее.
Вопреки моим ожиданиям, атмосфера в клубе царила непритязательная: у буфета выросла очередь. Мне даже показалось, что в ней толкались, но я все равно пришел первым.
– Bloody Mary, – громко объявил я бармену и тут же обмер, вспомнив, откуда взялось название коктейля.
– Так ей и надо, – заголосили добрые хозяева, стараясь скрыть мой промах.
«Шотландцы все-таки скоты», – некстати вылезала цитата из Бродского, но на этот раз я прикусил язык.
Сидя за обеденным столом между двумя лордами, я молча ел их глазами, стараясь игнорировать затесавшегося в нашу компанию развязного субъекта с грязными ногтями. Но когда он начал стрелять сигареты у соседей, я, подумав, что он не догадывается, с кем имеет дело, шепотом объяснил ситуацию. И зря. Он был не шофером, как я сперва подумал, а летчиком, и часто летал на собственном самолете в Москву, особенно – зимнюю. Сын самого знаменитого английского писателя (обедали мы, кстати сказать, за его счет) любил русскую литературу, водку и женщин, особенно – одну, жившую, как он мне тут же рассказал, на улице имени Восьмого Марта.
Оправившись от потрясения, я решился завести беседу с моими лордами.
– Позволю себе заметить, – начал я, притворяясь Башмачкиным, – что больше других вашей премии в этом году заслуживает господин Галковский.
Левый лорд со мной согласился, а правый стал энергично возражать. Заслушавшись, я потерял нить разговора и перестал понимать слова. На таком английском в Британии говорят с королевой, а в Америке – никогда. Многосложному красноречию отнюдь не мешало то обстоятельство, что участники прений понятия не имели, о ком они спорят. Без империи гениально отлаженная машина аристократического образования работала вхолостую. Лорды занимались филантропией, оставив политику своим женам. Это выяснилось, когда, не дожидаясь ликеров, леди отправились в Вестминстер голосовать за «красно-коричневых».
– В Англии, – объяснили мне, – это цвета консерваторов.
– В России – тоже, – опять не удержался я.
– Вы бы лучше закусывали, – вздохнул Окуджава.
Я не виноват в том, что у России с Англией немало общего: первая завидовала второй, хотя обе жили сбоку от Европы и считали только свою империю правильной. «И это верно, – как объяснял Аверинцев, – ибо настоящая империя только одна: Римская, как бы она ни называлась».
Всякая империя живет лишь до тех пор, пока она в себя верит. Когда ее закон важнее корней, шире религии и больше объединенных им народов, империя расширяется как газ – легко и случайно. Британскую империю, например, составляли две сотни колоний и зависимых территорий. И все они держались на честном слове. В Дели английских чиновников было меньше, чем австрийских – в Праге. После Наполеона Британия так редко воевала, что медали и впрямь ценились на вес золота.
Тайна имперского могущества (как сегодня выяснили американцы) заключалась в том, что им не пользовались. Обеспечив дипломатию бумажной валютой, власть разумно хранила нетронутым золотой запас войны.
За благоразумие Англию ненавидели соперники. Немцы, например, соглашаясь и русских считать народом духа, напрочь отказывали в этом британцам. «Человек вовсе не хочет быть счастливым, – утверждал за нас, людей, Ницше, – если, конечно, он не англичанин».
Не соглашаясь с этим мнением, Россия импортировала («за лес и сало») британский сплин, чтобы перемножить его на отечественную меланхолию. Результатом стало сентиментальное отношение к пейзажу. С тех пор любовь к дачам у нас в крови. В России их называли усадьбами, в Англии – Англией. Отдав города самым бедным и самым богатым, средний англичанин позолотил деревню и создал декоративное сельское хозяйство, главным продуктом которого, по-моему, являются розы. Непроходимые, как колючая проволока, и морозоустойчивые, как частокол, они опутали лучшую часть острова.
Надо сказать, что и у нас, в Латвии, роза – как ромашка у русских: народный цветок. Без нее не обходится ни огород, ни частушка. Но английская роза – дело другое. Сгибаясь под тяжестью исторических ассоциаций, она украшает страну и старость. Розы, как мудрость, не растут у молодых – им нужна неразделенная любовь пенсионеров.
Одного такого я встретил в Стрэдфорде, стоило мне свернуть с проторенной Шекспиром дорожки. Похожий, как все счастливые старики Англии, на отставного майора, он сидел у калитки, зазывая редких прохожих взглянуть на свой неглубокий садик. Я, конечно, зашел, чтобы полюбоваться камерными джунглями. Алые и белые розы, сцепившись намертво, словно Средневековье еще не кончилось, бешено клубились вдоль старинной кладки. На мой восторженный взгляд, куст воплощал идею порядочного хаоса: он знал свое место, но уж на нем делал что хотел. Собственно, искусство ограниченного вмешательства и превратило регулярный французский сад в свободный английский.
Один из чудаковатых современников Ньютона доказывал, что Бог создал Землю бескомпромиссно круглой. Идеальную форму планета утратила после грехопадения, с которого, однако, и началась наша история. Отсюда – общенациональное недоверие к излишкам всякой геометрии, начиная, конечно, с эстетики.
Британцы, как и мы, считают свой роман лучшим в мире. Как и мы, они любят его за то, что он вырос в английском саду, поделившемся с ним прихотливостью. Будучи самой большой в мире портретной галереей, британская словесность выбрала себе единицей не слово, не поступок, а чудака, сделав его предметом изображения и подражания. Этим английская литература похожа на Гоголя, без которого я бы никогда не понял Диккенса. Однако славная британская эксцентричность возможна только потому, что в Англии все знали, где центр мира, причем – всего. Дальний и Ближний Восток называются так потому, что считали всегда от Уайтхолла.
Без империи Англия – маленький остров с непомерной историей. По-моему, нигде в мире нет столько частных музеев, где можно поглазеть на шомпол неизвестной войны и кость незнакомой породы.
При ближайшем рассмотрении Питер Акройд оказался английским почвенником.
– Что значит United Kingdom? – закричал он на меня, едва мы успели познакомиться.
– Вы правы, – сказал я, – это как СССР: скорее пропаганда, чем название.
– Англичанами, – кипел знаменитый автор культурологических бестселлеров, – нас звать политически некорректно, британцами – глупо. Разве мы похожи на бритов, этих раскрашенных синим дикарей с пучками волос на макушке?
– Ну, если посмотреть на английского панка с татуировкой…
– Смотрите лучше футбол! Сегодня англичане остаются собой только на стадионе.
И то правда: на чемпионате мира английские болельщики, хотя им это и не помогло, размахивали своим флагом – белое полотнище с красным крестом. Последними включившись в борьбу за передел общего наследства, англичане лихорадочно, как русские, ищут, чем они отличаются от покоренных соседей. Когда Ирландия ненадолго стала «кельтским тигром», а шотландские фильмы даже в Америке смотрят с титрами, британские интеллектуалы вроде Акройда сузили перспективу, чтобы найти суть чисто английского духа и выразить его, не став по пути фашистами.
– В самой модной английской истории Нормана Дэвиса…
– Его книга намного толще моей, – обиженно перебил Акройд.
– Бесспорно. Но я читал ее с конца, надеясь понять, что будет с вашей страной в двадцать первом веке. Дэвис утверждает, что ничего: ее не будет.
– Это напоминает мне, – ворчливо согласился Акройд, – исторический анекдот. В последние дни Первой мировой войны в штабе тевтонских союзников состоялся примечательный разговор. «Положение трагично, – сказал немецкий генерал, – но не безнадежно». «Нет, – возразил ему генерал австрийский, – положение безнадежно, но не трагично». Так и с нами, – закончил классик, – англичанам нечего терять, кроме своих цепей. И зачем нам империя, когда весь мир и так говорит по-нашему?
Короли и капуста
Наслаждаясь вниманием, маляр позировал веренице туристов, снимавших его по пути к Трафальгарской площади. Измазанный и веселый, он гримасничал в камеру, успевая крыть свежим слоем краски телефонную будку. К бриллиантовому юбилею Елизаветы – 60 лет на троне – Лондон наводил блеск, украшая себя по нашему вкусу. Будка выходила нарядной и старомодной, как елочная игрушка. Она напоминала все, что я люблю в Англии: Диккенса, Холмса, чай и империю, которая на старых картах была окрашена примерно тем же цветом. Не выдержав, я пристал к маляру.
– Скажите, сэр, у этого оттенка есть особое название?
– Бесспорно.
– Как же называется эта краска?
– Красной, – ответил он на радость угодливо рассмеявшимся окружающим.
Но и это меня не отучило задавать вопросы. Тем же вечером, сидя за типичной для этого острова бараниной, я допрашивал хозяев, объединивших браком две антагонистические культуры. Полагая свою империю антиподом российской, британцы считали себя архипелагом закона и порядка в океане самовластия и анархии. «Вы, – говорили местные еще Герцену, – так привыкли путать царя с правом, что не умеете отличить раболепия от законопослушания».
Помня об этом, в Лондоне я переходил улицу на красный свет только тогда, когда никто не видел, кроме своих, разумеется.
– Наша любимая европейская столица, – сказал мне за обедом соотечественник и тут же себя вычел: – их тут уже четыреста тысяч.
Но меня больше интересовали местные, и я объяснился в любви его английской жене:
– Британцы – нация моей мечты.
– И зря, – срезала она, – ибо таких нет вовсе. Британский народ – такая же выдумка, как советский. У англичан столь мало общего с остальными, что к северу от Эдинбурга я не понимаю ни слова. Шотландцы и на вид другие: dour.
– С кислой рожей, – с готовностью перевел муж.
– А валлийцы?
– Эти – загадка, всегда поют, как ирландцы, только те еще и пьют. Англичане хотя бы вменяемые.
– Не на футболе.
– Но это святое.
– Что же вас сплотило в империю?
– История: королей без счета.
– А где короли, – вновь перевел муж, – там и капуста.
Монархия приносит прибыль, Лондон переполняют туристы, и каждый находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которыми он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард Третий, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих Восьмой, который любил женщин и казнил их. С королевами англичанам везло еще больше: две Елизаветы плюс Виктория. Английская монархия стала первой достопримечательностью Европы. Обойдясь (после Кромвеля) без революций, уничтоживших конкурентов и родственников, Англия сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они творили историю, теперь ее хранят – на зависть тем, кто не сумел распорядиться прошлым с умом и выгодой.
С тех пор как Великобритания перестала быть такой уж великой, она сосредоточилась на экспорте наиболее привлекательных ценностей – традиций и футбола. Болельщиков английских клубов в десять раз больше, чем самих англичан. Остальной мир следит за королевскими свадьбами, не говоря уже о разводах. Расшитая золотом и украшенная мундирами Англия сдает напрокат средневековую легенду Старого Света, ставшую в Новом сказкой и Диснейлендом.
В Тауэре, однако, играют всерьез, и никто не видит в церемонии маскарада. Рассматривая священные атрибуты коронации – от тысячелетней ложки для помазания до потертой мантии, – я заметил, что корона почти новая, 1937 года.
– А что случилось со старой? – спросил я у охранника.
– Сносилась, – ответил он с таким лаконичным высокомерием, что я сразу понял: революции не предвидится.
Даже с учетом британской нефти монархия остается самым полезным ископаемым. К тому же содержать Букингемский дворец несравненно дешевле, чем Белый дом. Другое дело, что королей было больше, чем президентов. Чтобы зря не мучить школьников, монархов им отпускают в нагрузку к анекдоту.
– Кто была женой Генриха Седьмого? – спрашивает экскурсантов викарий, показавшийся мне цитатой из английского детектива.
Дождавшись унылого молчания, он сам ответил:
– Елизавета Йоркская. Запомните, что в карточной колоде именно ее изображает дама червей.
История оживилась, подростки тоже, и я позавидовал их школе, ибо моя обходилась цепью исторической необходимости, сковавшей Ленина со Стенькой Разиным.
Несмотря на веселую науку, лучше английских школьников островную хронику знают американские пенсионеры. Во всяком случае, те старушки с голубыми буклями, что сравнивали надгробия Вестминстерского аббатства с привезенным из дома генеалогическим деревом. В Америке это бывает: недостаток своей истории компенсируют избытком чужой, что позволяет процветать геральдическому рэкету. От него я узнал, что принадлежу к славному роду ирландских пивоваров, но Гиннесс, не признав во мне родича, отказал в скидке, и я перешел на светлый эль.
Английский паб – аристократ народа. Обходя родословную нынешней династии, он не выносит нуворишей и гордится прошлым, навязывая его прохожим. Вывески пабов – самая живописная деталь лондонской улицы, которая, в отличие от парижской, часто бывает безликой. Зато паб не бывает скучным.
Честертон говорил, что экзотическим может быть только заурядное: английский собор не слишком отличается от континентального, но неповторим абрис лондонского кэба. Сегодня кэбы превратились в такси, сохранив ту же горбатость, а пабы не изменились с тех пор, когда король приказал хозяевам заменить универсальную зеленую ветку индивидуальной вывеской. Поскольку тогда почти никто не умел читать, названия придумали такие, которые мог изобразить столяр и художник. Нарядные, как «Белый лев», фантастические, как «Единорог», или нелепые, как упомянутый Джеромом «Свинья и свиток», все пабы хороши. Неудивительно, что в Лондоне пьют пиво, как в Риме – кофе: не когда хочется, а когда можно.
Лучшая часть британского меню, английское пиво (теплое, без пузырьков, накаченное ручным насосом), отличается от европейского тем, что его пьют стоя. Поэтому не так просто вклиниться в веселую толпу, клубящуюся вдоль стойки. В сущности, это особое искусство, требующее особой смеси интуиции и такта. Англичане с ней рождаются, нам надо учиться. Как обмасленная игла на воде, ты протискиваешься, никого не задев локтем и взглядом. Но и достигнув цели, не торопись ею завладеть, окликнув бармена. Это как у Булгакова: не просите, сами дадут и сами нальют, когда подойдет невидимая чужеземцу, но бесспорная для своих очередь, без которой в Англии вообще ничего не происходит. В сущности, паб – недорогой урок цивилизации, и я практиковался, начиная с завтрака, радуясь, что Англия предпочитает некрепкий эль безжалостному, как я знаю по старому опыту, виски Шотландии.
После пивных и королей мне больше всего понравились в Лондоне дети, особенно те, которых я встретил в окопах Военного музея империи. Сюда привозят молодежь Евросоюза, надеясь превратить его в одну страну, чтобы навсегда покончить с мировыми, а в сущности междоусобными, войнами. О Первой рассказывают мемориальные окопы. Тесные, с восковыми трупами и кислой вонью пороха. Славой здесь не пахло, подвигами тоже. Зато героизма хватало в бомбоубежище эпохи блица. Как только я уселся рядом с примолкшими ребятами, свет погас, и начались взрывы. В темноте звучали голоса военных лет. Подбадривающие и ворчащие, они смогли заглушить бомбежку лишь тогда, когда все запели хором. Тогда так делали всюду, кроме метро. По ночам в подземке хранили тишину, чтобы люди выспались перед работой. Ведь и в блиц затемненный Лондон жил хоть и на ощупь, но как всегда – в пабах, театрах, даже в нетопленой Национальной галерее, где среди пустых рам (картины спрятали в шахту) лучшая пианистка Англии давала концерты, не снимая пальто. В 1940-м, встречая Рождество среди взрывов, в столицу завезли карликовые, чтобы влезли в бомбоубежища, елки.
В Лондоне любят вспоминать о блице, хотя он и уничтожил изрядную часть города. Героем его сделала даже не война, а ее будни. Король делил их со всей столицей.
– Теперь, – сказал он после налета, разрушившего часть дворца, – я могу смотреть в глаза жителям разбомбленного Ист-Энда.
Всю войну в Букингемском парке выращивали капусту.








