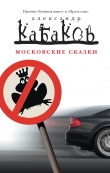Текст книги "Бульварный роман и другие московские сказки"
Автор книги: Александр Кабаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
И замолчал окончательно. Реанимированная малая механизация наконец взвыла и истерически загрохотала, Игнатьев вытер черные ладони травой и продолжил косьбу. Прохожие воротили носы от его бензинового помощника, и потому он, как правило, не видел их лиц. Но если бы он мог в них вглядеться, да если б к тому же он обладал даром угадывать по этим лицам внутреннее состояние, а он этим даром нисколько не обладал, кстати, и, кроме того, если бы он мог точно определить собственные чувства и сопоставить их с чувствами окружающего человечества – а он этого совершенно не мог, честно говоря, и если бы все открывшееся он мог выразить в словах!.. Странная прозвучала бы фраза.
Вот такая примерно: "Чудеса! Во дает народ… Одна любовь в голове, а вкалывать кто же будет? Там человеку покурить некогда, а тут давай им любовь – и все дела…"
Правда, для справедливости скажем, что это сетование он полностью отнес бы и к себе, хотя физическое его воплощение продолжало управляться с косилкой.
9
Сейчас нам, испытанный читатель, предстоит дело утомительное – описание грез. Хотя… Все зависит от того, какие грезы и чьи. Вот один человек как-то высказал соображение: мы потому так любим романы о путешествиях, что обязательно там имеется перечень взятых с собой припасов либо описание счастливо выброшенного на берег набора необходимейших вещей. Ну астролябия, конечно, серные спички, Библия в кожаном переплете, форма для отливания дроби…
Нечто подобное сейчас и последует, так что, может, и не разочаруетесь.
Виталий Николаевич Пирогов, нам уже неплохо знакомый, томился без сна. Супруга его Людмила, по женскому обыкновению, умаявшись за световой день, сладчайшим образом заснула, а к мужчине сон не шел.
Он лежал на ставшей вдруг жесткой простыне, ощущая каждую складку спиной, смотрел прямо вверх, в потолок, угадывавшийся в сизом воздухе ночной комнаты, и мечтал. Ну почему, думал он, все это так трудно, почти недостижимо? Разве чего-то сверхъестественного он жаждет? Нет, вполне обычного, даже стандартного. Виденного не только в дивном полиграфическом исполнении, но и в обольстительной натуре – например, во время последнего выезда был он по служебному делу в одном доме…
Значит, прежде всего холл. Плетеная корзина для зонтов… Может, слоновья нога? Нет, архаично, лучше корзинка. Итак, корзинка для зонтов, рядом зеркало в бамбуковой колониальной оправе. На вешалке ничего – лишь одинокая твидовая панама да рядом на полу косо прислонившиеся друг к другу охотничьи боты… Затем гостиная. Золотистая дымка гардин, за которыми просматривается близкий сад… Откуда садто взялся на девятом этаже? Не до этого Пирогову, грезит Пирогов. Видит он лампу на высокой резной – точнее, точеной – ножке, и абажур на лампе в мелкий цветок, и полужесткое кресло вблизи лампы, отливающее вишневой полировкой, и обширный диван с подушками, славно разбросанными по его рифленой поверхности, и репродукцию Поллака над диваном, и надкаминное зеркало, и удивительный золоченый столик, отдающий римской колесницей из неудачного фильма, и сплошной шерсти покрытие пола, и горшки с цветами аспарагус, и в дальнем углу помещения крутая с разворотом лестница…
Доходит до этой лестницы Пирогов, и тут начинается в его уме неприятная и отталкивающая суета, с которой не то что заснуть – жить невозможно. Куда лестница-то? Известно, на второй этаж, секонд, так сказать, фло. Там спальни, оттуда – если обратиться к традициям кинодурмана – тихо стекает загадочная струйка крови, там проводят ночные часы хозяева и гости порядочной жизни. Ах! Не помешал бы второй этаж жилью Виталия Пирогова! А где его взять? Конечно, если купить кооператив где-нибудь, да в этот кооператив тех самых… как их… Игнатьевых, что ли, да пробиться здесь через перекрытия, да воздвигнуть упомянутую лестницу с перилами на точеных столбиках… Эх, жизнь!
Кровать с обтянутой кожей спинкой. Низкая подсветка. В левом углу фотографии приоткрытая в ванную дверь, а там и он сам, в кимоно, совершающий вечерний туалет, а под одеялом, натянув его хитро до подбородка… Конечно, лучше бы… Ну а хотя бы и Людмила! А что? Зато интерьер…
Вот лежит спиной на мнущихся простынях наш Пирогов. Вот упирается его взгляд в потолок со швом посередине, между двумя плитами. Вот мечтает он о двухуровневом житье-бытье – много повидавший в разъездах товарищ. Был он, кстати, и там, где сосед его, Игнатьев, встретил человека в белом комбинезоне, не курившего за работой и тем произведшего неизгладимое впечатление на простодушного служителя зеленых легких города. Бывал там Пирогов, как же, и неоднократно! И собор колючий видел, и человека в комбинезоне, не исключено, мог встречать…
А запомнился все же лишь интерьер жилища делового партнера.
Осудим ли мы его? Кто знает… Разве мы против двухэтажных квартир? Не против, хорошая вещь. Не против мы также и каминов вместе с надкаминными зеркалами, и корзины для зонтов не вызывают у нас отвращения – правда, читатель?
У нас только одно но: насчет жизни и смерти. То есть если помирать настанет время, то как? Там ведь без этажей… Тогда зачем же все это? Временно, значит? Стоит ли? А? Как вы считаете, Виталий Николаевич?..
Не спит Пирогов. Поднимается по лакированной лестнице, целует на ночь чайлдов в детской, входит в вожделенную спальню, откидывает крайне неудобную, но общепринятую перину… Эк его разбирает! Никак не заснет.
А и вы бы не заснули, если б приехали в свое время поступать в труднодоступный институт из эдакой тьмутаракани, где все местные власти в одном доме помещаются, и поступили бы, и закончили, и отъездили бы свое, и насмотрелись бы всякого, и получили бы, что положено, соответственно рангу, а жить продолжали бы в двухкомнатной, заурядной, полезной площадью тридцать два и шесть десятых. Посмотрел бы я на вас…
Плохо Пирогову Сгинул бы в сей миг этот Игнатьев, не имеющий, по сути, и вкуса к правильной жизни, сгинул бы… Так нет, продолжает занимать верхнюю жилплощадь, по праву воображения принадлежащую Пирогову. А тот лежит без сна и мечтает. Такая, друзья мои, жизнь…
Короче, все ясно.
Он столько шел, и все вверх, и неотступно, и не сдаваясь, и платя по всем счетам, и тратя себя из расчета нынешнего курса жизни год за два – или сколько там? – и ничего не жалея, и в полном, хотя и нелегком, взаимопонимании с супругой Людмилой, и держа себя в руках, и опять не жалея ничего… Неужто не заслужил? Паршивенького, обычненького двухэтажного жилья? По ширпотребовскому журнальчику? Кто это – Игнатьев? Что это? Да ведь он троечник вечный, да ведь он здесь ни при чем!.. Не на улицу, конечно, в другую приличненькую квартирку, но эта-то ему зачем?!
Плохо Пирогову Может, и не так, как мы здесь изображаем, но примерно в этом роде. А точней и глубже в мысли Пирогова не проникнешь. Никому это не под силу. Потому что Пирогов о своих мыслях не пишет. А те, кто пишет, – они на Пирогова не похожи. Принципиально. Иначе писать бы не могли.
В общем, пусть теперь Пирогов встанет, примет что-нибудь успокоительное, да и заснет – пора.
Однако Виталий Николаевич нашим советам не внимает, а решает по-своему: смотрит на часы и, обнаружив, что до запретного времени еще тридцать две минуты, решает задобрить нервы гармонией – музыкой успокоиться. Людмилу-то теперь и пушкой не добудишься…
10
Более всего, как известно, Игнатьев любит сидеть вечером в июне на балконе и молча отдыхать после рабочего дня.
Разные у людей бывают пристрастия. Некоторые год за годом ездят в отпуск на юг, и именно в одно и то же полюбившееся им место под названием Лазаревское; иные предпочитают дивную природу средней полосы, обозреваемую с байдарки, быстро несущейся в светлых струях лесной речки; третьи превыше всего ценят комфорт и сдержанность гостиниц на балтийском берегу… Игнатьеву же символом заслуженного очередного отдыха представляется только такое вот сидение на балконе, плывущем в теплом и темном воздухе, словно небесный корабль, приписанный к семнадцатому микрорайону. Зной, накопленный в стенах и асфальте, в людях и небе того огромного города, в котором Игнатьев прожил всю свою жизнь, не торопясь, смешивается с прохладным вечерним ветром и, облагороженный запахами разнообразной зелени, деликатно напоминает Игнатьеву о дневных трудах на солнцепеке. И, глядя перед собой в темноту, мягкую и слегка пыльную, как старая бархатная скатерть, Борис Семёнович Игнатьев испытывает счастье.
Он думает и о неизбежно приближающейся поре очередной обрезки веток, и о необходимости завтра же укрыть под навесом затаренные в бумажные мешки и давно нуждающиеся в укрытии удобрения, и о том, что у газонокосилки к вечеру опять засорился карбюратор. Но эти служебные мысли не омрачают его духа, напротив, представляют приятный противовес теперешнему занятию Игнатьева, известному с давних времен под именем "дольче фар ниенте". Именно благодаря незначительному мысленному эху любимого труда Игнатьев и чувствует полноту отдыха.
Впрочем, это мы только так описываем – что он там чувствовал и о чем думал. А на самом деле он чувствовал вот что: "Нормально сижу… так жить можно… тепло, и мухи не кусают… косилка накрылась… а так всё путем… холодок и не пыльно…" И не надо спешить с иронией по поводу его не совсем складных, как обычно, формулировок. Ведь и вы тоже – вот читаете сейчас это сочинение, много вроде бы чего думаете, а если точно записать, получится: "Нормальное сочинение… в смысле, повесть… то есть рассказ… или роман?., не очень, конечно… но ничего… только непонятно, о чем… а вообще, ничего…" Так что не будем удивляться мыслям Игнатьева.
В общем, сидит себе Игнатьев, значит, на балконе и наслаждается погодой. Вспоминает о разных смешных – в основном уже вам известных – эпизодах своей жизни. Вспоминает, конечно, как он жил еще на старом месте, в центре, и думал по окончании десяти классов получать высшее образование, как служил в строительных войсках, а потом огорчил родителей ранней женитьбой без профессии, как работал в различных организациях на небольших должностях, нередко связанных с переноской тяжестей… В общем, много всего было в его жизни до того, как он сел эдак на своем балконе, закурил сигарету "Ява" явского же изготовления и приступил к наслаждению.
Однако многообразие жизни проявляется и в этот краткий момент: в то время как Игнатьев сидит на балконе и наслаждается, в квартире этажом ниже сидит его сосед и страдает. Не на балконе, правда, но при распахнутой балконной двери. Соседа, конечно, фамилия Пирогов, и страдания его нам также известны. Такое уж, видно, это время – лето, что всех страсти терзают, распускаются в тепле махровым цветом неутоленные желания.
Ведь и Игнатьев тоже не в нирване находится, а, наоборот, несмотря на чудесную расслабленность, смутно жаждет. Не то возвращения в детство ищет его душа, не то сопереживания в желто-зеленых глазах. Да и глаза-то неясно чьи: то ли соседской жены, то ли вовсе незнакомой курящей дамочки… В общем, страждет душа, хотя страдания эти почему-то не мешают Игнатьеву наслаждаться вечерней природой. Как говорится, печаль моя светла.
Иное дело сосед его снизу. Вот, казалось бы, чего не хватает человеку? Поступил, как мы докладывали давеча читателю, в институт хороших отношений, закончил полный курс этого института, в аспирантуре обучился, диссертацию защитил, поездил туда-сюда, получил должность достойную и квартиру под Игнатьевым, жену – союзницу всех начинаний, привез в квартиру разные бытовые предметы, научился к темно-синему пиджаку носить только светло-серые брюки и вишневый галстук, купил музыкальный центр высокого качества воспроизведения звука… А терзается человек, горячей слюной наполняется рот, и не идет сон. Неподходящий вроде бы поздний вечерний час, но просит мятущийся дух красоты, и Пирогов ставит на мягко вращающийся диск пластинку. Может, рассеются видения двухэтажного пэрадайза, уйдет горечь…
На пластинке написано название произведения, автор и исполнители. Пирогов эту надпись отлично понимает, поскольку у него как раз немецкий язык был основной. Фамилия автора знакомая, у Пушкина еще о нем написано, Виталий Николаевич хорошо помнит, отравил его приятель, этого автора. Пирогов автору сочувствует, поскольку по своей работе хорошо знает, каково таких друзей иметь. Имя дирижера напоминает имя одного знакомого товарища. Дирижер, небось, тоже с Кавказа откуда-нибудь, только вот "фон" при чем?.. Название же произведения Пирогову кажется странным. Кляйне… все ясно. Нахт… Так, понятно. А вот все вместе никак не сочетается. Что значит – маленькая ночная музыка? Как это – маленькая музыка?.. Но пластинка записана на хорошей фирме, значит, стоящая вещь. И Пирогов опускает тонарм.
На верхнем балконе Игнатьев слушает музыку, и кажется ему, что все дальше летит его балкон, улетает из семнадцатого микрорайона неведомо куда, и вспоминает Игнатьев еще и еще раз тот старый двор в центре и себя в черных сатиновых трусах, белой тенниске из вискозы, в тапочках со шнурками, обернутыми вокруг щиколоток, и в тюбетейке, вспоминает мать в креп-жоржетовом платье и отца в костюме из трико "Ударник", и вспоминает почему-то стихи, которые читал, наверное, тогда же: "По небу полуночи…" А дальше не помнит точно. Дальше почему-то вспоминается засорившийся карбюратор косилки. И Игнатьев снова закуривает погасшую сигарету "Ява" и удивляется, что явская ведь сигарета, а сырая. "Откуда сырость?" – думает Игнатьев, чувствуя, как капли удивительной этой влаги текут по щекам. Желто-зеленые глаза появляются вдруг перед ним во тьме, а может, это просто цветные круги плавают – так бывает, когда плачешь в темноте… Он вытирает щеки и, слушая музыку, доносящуюся снизу, думает: "Ну я даю…"
Пирогов же поднимает с помощью микролифта тонарм и снимает пластинку. Скучная оказалась, хоть и фирма.
Будем ли мы удивляться, что, слушая одно, слышат разное наши соседи? Не будем, наверное. Они ведь и думают о разном, и, оказавшись в одних и тех же по случаю краях, видят и запоминают разное. У них только и есть общего – межэтажное перекрытие: как уже было сказано, потолок Пирогова для Игнатьева пол. Вот и все. Все ясно.
Мучающийся бессонницей Пирогов врубает, теперь уже через наушники, кассетник. Хоть побалдеть…
А Игнатьев идет спать.
11
Никто, в том числе и герой повествования, Борис Семёнович Игнатьев, и даже сам автор не смог бы дать удовлетворительного и в достаточной степени логического объяснения многим маловероятным событиям из жизни упомянутого героя. Правда, впоследствии, когда само это сочинение благополучно придет к концу и минует еще какое-то время, в течение которого Игнатьев совершит целый ряд неожиданных и опрометчивых поступков, доказывающих в совокупности бесспорную жизненную силу и естественность человеческой сущности Б. С. Игнатьева, – впоследствии одна неглупая женщина выскажет интересное соображение относительно природы чудес, происходящих с ее Борей. Женщина эта, задумчиво наблюдая суету своего пса, тычущегося в каждое дерево на бульваре, скажет следующее (дословно): «Он, то есть Боря… может, он самый добрый человек… ну, предположим, в мире… а что для меня мир?., те, кого я знаю… он не зависит от внешних событий, и в этом смысле… в общем, с кем же еще и происходить чудесам, как не с ним?..»
И, поднося огонь к ее сигарете, автор задумался: может, действительно, в этом все и дело? Вот мы говорим о человеке – добрый, мол, и даже просто чудесный. Чудесный… Чудеса… Может, это уже теперь действительно связано между собой: редкие качества характера и сверхъестественные события, происходящие с тем, кто таким характером обладает?
Может быть.
Во всяком случае, еще об одном таком событии из жизни Игнатьева, видимо, стоит рассказать, прервав ради этого даже основную лирическую линию.
В предпраздничный день прошедшей зимы Игнатьевы всей семьей пошли гулять.
Влажный ветер, возвещавший раннюю оттепель, деликатно остужал измученную тщательным бритьем кожу игнатьевских щек. Жена Тамара шагала ровно и непреклонно, дочь шла хмуро, сам же Игнатьев давал волю мужским наклонностям, то есть хватанул вовсе не нужного по погоде пива, причем семейство смиренно ожидало на расстоянии прямой видимости, пока он пребывал в специальном загончике, в подробностях рассмотрел несколько иностранных и одну отечественную новую автомобильную марку, положительно оценив дизайн последней и без комментариев пожимая плечами возле первых, некоторое время наблюдал тихий экстаз тех, кто увязывал счастливо добытые елки, – в общем, отдыхал.
Тем временем жена и дочь негромко и непрерывно делились впечатлениями по поводу встречающихся в толпе экстравагантностей, решительно не одобряя неумение некоторых находить соответствие между собственными внешними данными и предложениями моды. Особенно отрицательно отзывались они о модном покрое дамских брюк, уродующем даже и очень хорошую фигуру. Себе таких брюк они согласились не заводить ни под каким видом.
Таким образом, вся фамилия вышла на площадь.
По площади гуляли хозяева и гости города, а также зарубежные друзья, переговаривавшиеся между собой слишком громко – впрочем, все равно довольно неразборчиво.
А на самой середине площади работал среди штативов и стендов с образцами своего искусства фотограф. И в фотографе этом Игнатьев немедленно и с большим удивлением – хотя, казалось бы, чему тут особенно удивляться? – признал своего одноклассника и даже друга детства Сережку Балована. Черт возьми, совершенно не изменился Сережка, хотя здорово облысел, отпустил загнутые книзу усы и стал носить несвойственные ему в те давние небогатые времена фасонистые вещи – замшевую тужурку и молодежные истертые штаны…
После долгих и искренних приветствий, после того, как познакомил Игнатьев старинного приятеля со своими домочадцами, после того, как тот убрал в кожаный сундучок на длинном ремне все принадлежности профессии, свернув таким образом ранее обычного свой рабочий день, друзья отошли к металлическому барьерчику и закурили. Чтобы не мешать сентиментальным речам, женщины отправились на осмотр близлежащих витрин.
– Ну, – сказал Борька Игнатьев, – а ты как?! Как вообще, Серьга? Семья есть? Жизнь как, а? Пиво пьешь?
Они сильно затягивались, поэтому сигареты быстро догорали, и товарищи немедленно прикуривали новые, умело прикрывая огонь, пока собеседник осторожно тыкался сигаретой в сложенные ладони.
Говорить им было совершенно не о чем, потому что двадцать лет миновали и дела у каждого шли всё так же, как и все эти двадцать лет, что они не виделись. И, прикуривая, а затем и затягиваясь, они только качали головами и вздыхали: "Да-а… подумать надо… идем, а он на площади, щелкает себе… ну, и как оно, вообще-то? Жизнь?"
– Ты кем пашешь? – спросил фотограф. – Чего, говорю, ваяешь? Ты ведь в сталь и сплавы поступал, правильно я помню? Видал, память?!
– По озеленению я, – сказал рабочий цеха озеленения. – По подрезке деревьев и всякому уходу за зелеными легкими нашего города. Понял? Двести выходит, понял? И полный порядок. А ты, значит, щелкаешь? Исторический-то окончил или так?
– Щелкаю, – ответил фотограф. – Не кончил я исторический.
И друзья замолчали уже надолго, поняв, что обижаться друг на друга за эти вопросы им не стоит. Что ж тут поделаешь…
Тем временем прекрасная часть рода Игнатьевых завершила осмотр и присоединилась к беседующим.
А вот сейчас я вас всех, Игната моего родню, и запечатлею, – радостно сообразил фотограф и засуетился, распаковывая снова все камеры, штативы и объективы.
– Что ж вы беспокоитесь, – сказала было жена Тамара, но Игнатьев неожиданно для самого себя перебил супругу.
– Правильно решаешь вопрос, Серьга, – сказал он, сам даже удивляясь своим словам, поскольку совсем не собирался фотографироваться минуту назад. – Правильно, щелкни нас на память, чтобы остался сувенир от такой приятной встречи.
Сергей Балован уже все приготовил, взгляд его стал острым и даже неприятным, как у охотника. Этим взглядом он окинул группу, которую представляли собой Игнатьевы, быстро и грубовато переместил их в соответствии с каким-то своим внутренним планом и прижался на мгновение лицом к камере. "Так… левее… подбородок выше и на меня, на меня…" Он бормотал, и щелкал, и снова перемещал объекты съемки, и опять щелкал… Наконец он выпрямился, и Игнатьевы свободно задышали. Через минуту они уже прощались.
И тут только Игнатьев рассмотрел по-настоящему образцы, выставленные на вновь развернутом складном стенде, – видно, фотограф решил все же еще немного поработать после ухода друга. Игнатьев рассматривал эти фотографии и удивлялся все больше и больше. Кого только он там не увидел! Здесь был весь их с Сережкой класс, и сосед Игнатьева с нижнего этажа Пирогов, ответственный товарищ, и жена Пирогова Людмила, исключительной привлекательности женщина, и множество других знакомых Игнатьеву людей, например, посетители ряда пивных загонов, постоянные троллейбусные спутники, товарищи по труду в коммунальном хозяйстве и еще, еще, еще – соседи, знакомые, земляки и соотечественники – все, все, все!
И все они улыбались. И не успел Игнатьев и слова сказать, как появилась тут же еще одна фотография – улыбающееся изо всех сил его собственное семейство.
– Чего это все у тебя улыбаются? – спросил Игнатьев старого товарища. – Я, может, не хочу улыбаться. Мне, может, и так хорошо.
Но ничего не отвечал фотограф, укладывая уже невесть каким образом проявленные, отпечатанные и отглянцованные снимки в конвертик из черной бумаги, вручая этот конверт Игнатьеву, – молчал, робко почему-то глядя другу своему в глаза.
А спустя некоторое время, уже возвращаясь в метро с прогулки, достал Игнатьев подарок приятеля, взглянул на улыбающееся лицо жены, на хмуро улыбающуюся дочь, перевел взгляд на них натуральных, дремлющих, и вдруг почувствовал, что не будет ему плохо житься на этом свете, коли есть, живут старые друзья, склонные снабжать улыбками человечество. И он сам улыбнулся ничуть не хуже, чем на неправдивой фотографии.
В то же время фотограф С. Балован, возвращаясь в свою пустоватую квартиру по другой линии, полез в сильно потертый кофр и достал свежую фотографию. Насупленно глядел с нее Игнатьев, сурово и устало смотрела жена Тамара, хмурилась еще более обычного дочь. Он мелко изорвал контрольный отпечаток и сунул клочки в глубину кофра, где уже скопилось немало такой рваной бумаги.
До самой своей конечной станции он мирно спал, и лицо у него было грустное и горькое. За окнами идущего по открытому участку вагона проносились прекрасно подстриженные Игнатьевым, голо-черные сейчас деревья, и в щели дверей влетал уже очень прохладный ветер. Кофр стоял на полу, и на его дне перекатывался рулончик еще не бывшей в работе пленки, на котором рукой мастера было написано: "Для улыбок детских. Чувст. 65 ед."…
Вот какие случаи время от времени происходили в жизни Игнатьева, подтверждая высказанную выше женскую мысль о чудесах, следующих за добрыми людьми. Может, поэтому в прежние времена, обращаясь с просьбой, так и начинали: "Люди добрые…" Постучат у порога – откройте, мол, люди добрые. Попросят материально помочь – то же самое обращение. Хорошая была манера. Сейчас не принято как-то.
12
Между тем жизнь себе шла, и к Игнатьеву, как положено, приехали родственники жены из Калужской области. Погостить, посмотреть большой город, приобрести кое-что. Без телеграммы приехали, по-родственному.
Приезжали они, правда, не особенно часто, да хоть бы и часто – Игнатьев ничего против не имел. Всякий их визит напоминал ему историю его женитьбы, в которой было много бурных страстей, особенно со стороны родителей Игнатьева, и много решимости с его собственной стороны. Вспоминать все это ему почему-то было приятно, хотя за минувшие с той уже неблизкой поры годы жена Игнатьева Тамара давала ему несколько поводов если не для сожаления о былой принципиальности, то для размышлений. Да и он ей… Впрочем, о прописке жены на жилплощадь родителей, а впоследствии на собственную он и до сих пор не жалел.
Однако сантименты сами по себе, а на работу идти надо. Так что Игнатьев надел любимую кепку в давно ушедшем футбольном стиле "эй, вратарь, готовься к бою" и отправился на очередные мероприятия по плану подготовки зеленых насаждений к зиме. Жена Тамара также убыла в свой пищеблок детского комбината. Поговорила с родней кратко, но содержательно – и бегом, только духами запахло. Дочь пожала плечами и ушла в свой восьмой класс.
А родственники – тетка Зинаида и племянник Виктор – позавтракали на кухне взятыми в дорогу помидорами и крутым яйцом, купленным на вокзале в составе специального дорожного набора, да и также двинулись по своим приезжим делам. У Виктора имелся маленький план метро, удобно складывающийся в гармошку, тетка же более полагалась на помощь ближних.
Да, едва не забыл вам их официально представить и портреты обрисовать. Зинаида Ивановна с этого года находилась на заслуженном в сельхозартели отдыхе, однако продолжала трудиться в животноводстве. Глаза у нее голубые, лицо коричневое, куртка на ней нейлоновая, финская, зеленого цвета, на ногах байковые тапочки в клетку. Ну сумки, конечно. А Виктор, будучи допризывного возраста, только что закончил курсы водителей и в ожидании судьбы так просто живет. Волосы у него светлые и длинные, как у звезды эпохи расцвета хард-рока, на руке уже имеется по глупости сделанная надпись "Витя", брюки он носит типа "техас", только цвета очень синего и подбитые внизу "молниями" – так что несведущему наблюдателю может показаться, что под штанами у Вити еще одни, бронзовые.
Вот такие у Тамары Игнатьевой родственники – в общем, симпатичные. А теперь, познакомив читателя с ними подробно, мог бы автор так же подробно описать и день, который они провели, начав его завтраком в игнатьевской квартире. Но делать этого не станет за недостатком места и времени. Потому что иначе пришлось бы описывать и целый ряд чрезвычайно удачных приобретений, сделанных Зинаидой Ивановной, включая и купленный в Даниловском универмаге электрический фен, заказанный соседской дочкой Нинкой. Пришлось бы вспомнить и многих приятных людей, с которыми Зинаида Ивановна познакомилась, совершая покупки, и провела немало приятных минут у прилавков, на лестницах, ведущих с этажа на этаж огромных предприятий торговли, между металлическими барьерами, установленными вежливыми земляками Зинаиды Ивановны, носящими аккуратную форму, и так далее. Пришлось бы также упомянуть о поездке Виктора, целью которой были зеркало и ветровое оргстекло для мотоцикла "Ява", поездке на дальнюю окраину города, не увенчавшейся, к сожалению, успехом. О его пребывании на выставке, где он не пропустил ни одного интересного павильона и даже пива выпил на свежем воздухе – и неплохого, надо сказать, пива…
Но опустим всё это. Тем более что сейчас это уже все позади и гости города отдыхают.
Зинаида Ивановна сидит на скамейке. Скамейка стоит вблизи выбрасывающего кристальную струю фонтана, в отдалении виден большой памятник, а вокруг тетки Зины ходят люди разных цветов кожи. Один из них – вполне, кстати, белый, немолодой и с фотоаппаратами поверх несолидного жакетика – присаживается рядом и заводит с Зинаидой Ивановной разговор. "Комфортабль!" – говорит он радостно, показывая на тетки-Зинины тапки. Она бы и поддержала беседу из вежливости, да сил нет. Зинаида Ивановна придвигает поближе сумки и продолжает отдых.
Виктор тем временем присел на каменную ограду у подземного перехода. Рядом сменяются молодые люди, дожидающиеся здесь своих избранниц, и девушки, беседующие между собой на разные тайные темы. Одна из них Виктору даже понравилась – худенькая, правда, но красивая. Хотел было Виктор с ней познакомиться, и вопрос для начала выбрал – насчет спортивной обуви, на ней надетой. Такое Виктор и сам бы охотно купил, если бы знал где. Но постеснялся спросить – может, они в городе про это не говорят?.. А девушка покурила и пошла себе.
…Вечером, проделав немалый путь в метро и на автобусе, гости возвращаются домой, к Игнатьеву. Семья в сборе. На кухне происходит ужин. По поводу приезда родственников Игнатьев выпивает с женой, теткой Зиной и племянником Виктором. Дочка ужинает быстро и идет в комнату смотреть передачу с популярной певицей. Игнатьев тем временем расспрашивает тетку и племянника о впечатлениях. Виктор рассказывает об успехах космической и транспортной техники, Зинаида Ивановна параллельно обсуждает с Тамарой проблемы, касающиеся товаров повышенного спроса.
– А скафандры ихние видел? – спрашивает Игнатьев.
– Видел, – говорит племянник, – сильные скафандры.
– А пиво возле пруда пил? – продолжает интересоваться Игнатьев.
– Пил, – говорит Виктор, – сильное пиво. А в пруду колос стоит. Во! И золотого цвета!
– Да, – соглашается хозяин, – сильный колос.
Жена Тамара уже стелет гостям в маленькой комнате. Игнатьев выходит на балкон покурить.
Вокруг балкона темно, а напротив светятся окна длинного девятиэтажного дома. Дом этот похож на входящий в порт богатый корабль – не хватает только несущейся с палуб романтической музыки, пальм на набережной да белеющих одежд приморской публики. Но Игнатьев никогда не бывал в портах, и это сравнение ему в голову не приходит. Он почему-то вспоминает свой старый дом в центре, зеленый двор, глухие удары – футбол в сумерках, запах скорого ужина, призыв матери из резко распахивающегося окна: "Боря! Борис! Отец пришел…" Эй, вспоминает он, вратарь, готовься к бою… Я тоскую, вспоминает он, по соседству и на расстоянии… Барон, вспоминает Игнатьев, фон дер Пшик… Новый год, вспоминает он, затягиваясь, порядки новые…
– Виктор, – окликает он, – а ты по центру гулял?
– Гулял, – говорит Виктор, выходя на балкон и завистливо косясь на сигарету, при тетке курить он стесняется. – Сильный центр. Проспект там есть – вообще.
– Я там жил раньше, – говорит Игнатьев. – Маленький такой был дом. Представительство там теперь. А у нас вода во дворе была…
Виктор молчит. Ему не верится, что где-то там, рядом с невероятным проспектом, был дом с водой во дворе. Не особенно ему понятно и насчет представительства.
Постепенно все засыпают. Перед самым сном Игнатьеву чудится, что во дворе раздаются глухие удары самодельного мяча и кто-то окликает его по имени. И он не может понять, почему он засыпает со странной досадой на гостей. Хотя одно понимает хорошо – обидно: едут, и едут, и едут, и не знают, что это за город, в котором жил и живет Игнатьев. Город, который Игнатьев любил всю жизнь так, что в конце концов добился взаимности и стал любим – от имени, наверное, и по поручению всего этого дивного города – одной его гражданкой… Но об этом не здесь…