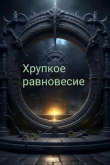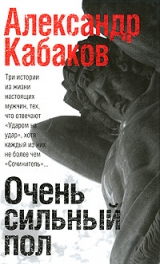
Текст книги "Очень сильный пол (сборник)"
Автор книги: Александр Кабаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Страшно очень, Володя, сказал Юра. А то не страшно, согласился Олейник. Уж если Сережку до слез достало…
Желтый слабый свет пыльного ночника, найденного в хламе, падал из двери на снег. Пошли, сказал Олейник, надо лампу гасить, а то засекут соседи.
Сергей все сидел на корточках, но плечи его уже не дергались.
…Наконец звук прорвался.
С путепровода ударил, настигая машины, гранатомет. Юра стоял в рост рядом с угнанным час назад «жигулем», труба лежала на его плече.
От угла глухого бетонного забора лупил безостановочно, нескончаемо пулемет. Сергей лежал у забора, в снежном окопчике, окопчик был вытянут в длину и уходил лазом под забор, на пустую по воскресному времени производственную территорию.
Олейник уже несся навстречу машинам на «КрАЗе». Шофер «КрАЗа», в надвинутой на лицо до подбородка черной вязаной шапке, перетянутой через рот бинтовым жгутом, с вывернутыми назад руками в наручниках и спутанными ремнем ногами, корчился на сиденье рядом. Угнувшись ниже руля, Олейник ударил в бок начавшей разворачиваться поперек дороги гаишной BMW, отшвырнул ее метра на четыре в сторону и одновременно развернулся сам, задними колесами, кузовом сбрасывая с дороги уже издырявленную до металлических клочьев Сережкиным пулеметом – первую машину сопровождения. И тут же съехал с полотна, пошел по целине. Гигантский грузовик прыгал и взлетал, словно малолитражка.
Тяжким снарядом, но успев чуть вильнуть, пронесся мимо первый «ЗИЛ».
Второй горел, развороченный гранатой. Вверх колесами скользила по дороге замыкающая «Волга». Третий «ЗИЛ» пытался объехать дымный костер, но в это время вторая граната пробила точно центр его крыши. Внутри бронированного гроба полыхнуло, из распахнувшейся двери вывалился горящий человек.
А первый уже набрал скорость и уходил к городу. Глядя прямо перед собой в едва заметную мелкую сетку трещин на стекле, словно что-то пытаясь рассмотреть со своего места через это переднее стекло, сидел в уцелевшем «ЗИЛе» человек в ровно надвинутой на лоб короткошерстной меховой шапке, в сером, из толстой и мягкой, с поблескивающим ворсом ткани, пальто, из-под которого чуть выбился сине-вишневый шарф. Его губы были крепко сжаты в обычной презрительной гримасе, и только кровь, вытекшая из нижней, прокушенной, была странна на этом лице.
Он достал из кармана платок и вытер подбородок, потом, не глянув на платок, сунул его в карман. Так же, не глядя, нажал кнопку.
Сказал в радиотелефон негромко: «Вы будете лично отвечать, если информация об инциденте просочится. Лично с вас спрошу».
Тот, к кому был обращен приказ, изумился: человек из «ЗИЛа» говорил спокойно, твердо, голос его был совершенно обычным.
Ночью ему стало плохо. Рядом с врачами сидела жена, врачи неотрывно следили за тихо гудящими, разноцветно мигающими приборами, ползли на пол бумажные ленты, а она смотрела на него и видела отчаяние, бессмысленно-испуганный взгляд и по-стариковски бедно торчащие волосы, среди которых уже нельзя было найти ни одного не седого.
2В очередной ссоре уже через десять минут нельзя было припомнить начало. Заводились всегда из-за прошлого. Он чувствовал, что по лицу бродит злобная, непримиримая усмешка, но ничего не мог поделать с собой – и ее прошедшая, и длящаяся сейчас, отдельная от него жизнь вызывала ненависть: чужда, неприемлема. Вокруг нее были люди, с которыми у него не могло быть ничего общего, а она существовала среди этих людей, понимала их, иногда сочувствовала, и он впадал в бешенство, желая смерти… Видел вчера твоего Дегтярева. Красив, небрежен, мудр и полон по поводу происходящего такой же принципиальной преданности, как и десять лет назад. Обожает прогрессистов, ненавидит ретроградов и в полном восхищении от себя самого. Как был шутом при хозяевах, так и остался. А ты, я уверен, с ним все никак не распрощаешься, старое поклонение так просто не проходит. Изумительная по пошлости ситуация, полностью описываемая песней «Маэстро». Ты, наверное, любишь эту песню? И он любит? А? Ну что же ты молчишь?
И ее лицо искажалось нелюбовью. Твердое, с простоватыми чертами и невыразительно-серьезным в обычное время взглядом, лицо провинциальной функционерши из скромных – она знала, что выглядит сейчас отвратительно, и ненавидела его прежде всего за это. Ты судишь всех, а почему, собственно? Просто хочешь выжечь землю вокруг меня, уничтожить даже всякую мысль о том, что я могу жить самостоятельно, отдельно. Хорошо, допустим, меня это устроит, я откажусь от своей жизни, от своих друзей, от своей семьи. А ты ведь даже не спросил, как зовут мою дочь, за все это время ты ни разу не поинтересовался ею… Ладно, я готова. Но разве ты зовешь меня в твою жизнь? Только в постели твердишь – я хочу быть с тобой, я хочу быть вместе, давай надеяться… Ты повторяешь эти слова с такой безответственностью, от которой я иногда перестаю верить в твою любовь! Ты говоришь – уедем, спрячемся, как-нибудь устроимся, – и я начинаю жить по-другому, я начинаю все разрушать вокруг себя, я прямолинейный, серьезный человек, у меня нет чувства юмора, я слышу слова так, как они слышатся… А на следующий день я узнаю, что вы с Ольгой берете собаку, ты так и говоришь – мы решили, нам тоскливо, мы, мы… Как же я должна понимать свою жизнь? Я не могу так – из огня на лед, от этого камень трескается!
Он одумывался быстро – ее странно появлявшиеся слезы, от которых лицо не меняло сухого, твердого выражения, только становилось мокрым, как будто после умывания, – ее слезы сразу растворяли его непримиримость, злобу, сердце щемило от жалости, сочувствия к ее обиде, от стыда… И самое главное во всем было то, что она была права: его фантазии были просто разрядкой, которую он позволял себе, расслаблялся, бредил сладко вслух, а она действительно все принимала всерьез, и, конечно, не из-за того, что юмора не было, при чем тут юмор, – кстати, сама иногда демонстрировала иронию блестящую и едкую, – просто не была настроена на принятое в его кругу постоянное ерничанье, а серьезна была потому, что намучилась еще больше, чем он. И мучения были настоящие, не его страдания с постоянным наблюдением за собой со стороны, не игра в сюжет…
И он плакал тоже – с возрастом вообще стал непозволительно для мужика слезлив, а с нею особенно. Да и без нее… Вдруг вспоминал о том, что ничего уже не будет. Стоял в ванной, бреясь, кривя рот, бессмысленно глядя в зеркало, дочищая щетину в углубляющихся день ото дня складках у рта, – вдруг начинал реветь, жутко и отвратительно гримасничая, бросив бритву в раковину…
Они сидели в очередной мерзкой обжорке, которую он открыл в бесконечных поисках пристанища посреди рушащейся, умирающей Москвы.
Ну, все, все, миримся, хватит друг друга терзать, все. Ты же понимаешь, это просто ревность, я не могу примириться, что ты раньше была с ним, вообще – с кем-то. Я не знал раньше, что это такое, как можно мучиться из-за прошлого, это Бог наказал за то, что я никогда не мог понять, какая это мука – ревность… Ну ладно, хорошо, мальчик мой, успокойся, ничего нет, ты даже не понимаешь, насколько уже ничего нет, кроме тебя. Перестань… Я-то знаю, из-за чего бешусь. Из-за того, что давно не были вдвоем, вот из-за чего. Надоели эти забегаловки. Едим и пьем, ты меня все кормишь, и я стала толстая, да? И злюсь, потому что соскучилась, не могу больше, кошмары мучают… А Андрей? Что Андрей?! Ничего ты не понимаешь. Хочу к тебе… Ноги сводит.
Пристанища действительно не было уже давно. После той грохочущей ночи в гостинице опомнились не сразу, а когда опомнились – места не находилось, хоть убейся.
Наконец Андрей уехал на несколько дней в Италию. Ничего не видел, не понимал и, собираясь, лихорадочно рассовывая в карманы и сумку паспорт, бумаги, рубашки, говорил только об одном – контракты, переговоры… Оказался удивительно толковым бизнесменом, вовсе бросил чистую науку и торговал по всему миру и своими собственными разработками, и приятельскими. Она страшилась, что заметит сияние в глазах, а он смотрел, не видя, и с восторгом рассказывал о конкурентоспособности. Представляешь, по идее наши технологии на их уровне проходят!..
Она осталась одна, но только на третий день сказала ему об этом: боялась, что вспомнит гостиничную ночь и ничего не сможет.
Он приехал под вечер – невесть чего наплел дома, выдумал небрежно – и остался на сутки. Ника была у бабушки, ее неожиданное возвращение было заблокировано гололедом, поскольку старуха, наученная опытом многих подруг, панически боялась упасть. Тем не менее несколько раз туда звонили – для гарантии.
Было так, как даже у них никогда до этого не было.
Прикрывая рот рукой, вцепляясь зубами в тыльную сторону ладони, она закидывала голову, тихо, задушенно – днем в пустом доме все звуки слышны из квартиры в квартиру – выла, тянула тонкую, нечеловеческую ноту. Его обливало снизу огнем, и рычание его перекрывало ее визг, он вцеплялся в нее зубами и тут же отпускал, напуганный. Сосок распрямлялся, сбоку он видел вырастающий розовый купол, он закрывал все поле зрения, потом вдруг отодвигался, делался маленьким, горестно-жалким, подушечка указательного пальца перекрывала его, а он рвался наружу, распрямляясь…
Она действительно поправилась, и, глядя на нее снизу, он замечал, что над животом появились складки и грудь лежит тяжелее. Наклонялась, лицо придвигала близко. Я тебе не нравлюсь, толстая? Ты специально раскормил меня, чтобы бросить… Ну и пожалуйста, останусь на память о тебе жирная, хватит запасов на первое время, когда голод начнется.
Откидывалась, сильно прогнувшись.
Он открывал глаза, смотрел неотрывно – это было как небо, если глядеть в него, лежа на земле. Притягивало глубокой, бесконечной, ненаполняемой пустотой.
Их волосы спутывались.
И, подброшенный силой, которой в нем не было, да и не могло быть, он яростно исходил любовью и чувствовал, как она возвращает ему любовь.
Потом ели лежа, пили привезенный ею специально для него тамошний виски, «Сантори». Не одеваясь, она бегала на кухню, он смотрел на нее и, как всегда, изумлялся сходству тела с камнем, с большой галькой. Она сидела рядом по-турецки, на брошенной поверх тахты простыне, ела с детской жадностью. Он протянул руку и погладил. Такое получается, если вода долго гладит камень, сказал он. Или если ты гладишь меня, сказала она.
Вдруг опять отчаянно поссорились. Она почему-то вспомнила, как долго и тяжело изживала южный акцент, хороша была бы из нее дикторша с мягким «г» и английским «дабл-ю» вместо «в»… Сразу полезли ассоциации, он взбесился. Осталась навеки благодарна учителю? Сколько можно рассказывать о своих романах, своих отношениях… Ну конечно, ты же привык сам быть центром мироздания, только твоя жизнь представляет интерес. Да, ты знаешь, я действительно так привык, а с тобой я все время чувствую себя средством. Что?! Да-да, средством! Мы поменялись ролями! Мне все время кажется, что ты меня прервешь на полуслове, как грубый мужик прерывает глупую девчонку, и скажешь – раздевайся, дура! Мне кажется, что ты действительно интересуешься мною только лежа… Ты усвоила все худшее в мужском поведении…
От сказанного самого окатило ужасом. Но помирились удивительно быстро, и, счастливо глядя в его лицо снизу, она повторяла – ну что, разве это плохо? Раздевайся, дура, раздевайся, я так и буду действительно говорить сразу, и тогда мы никогда не будем ссориться. Ты права, мы не можем поссориться, если не одеты. Родная… Вытянись, вытянись, лежи ровно и спокойно и смотри на меня. А-а, да что же это?! Все.
…Ноги сводит, воровато оглядываясь на соседние столики, повторила она, так хочу, что сводит ноги. А мы все шляемся по всяким забегаловкам, все едим – сколько можно? Придумай что-нибудь.
Кафе было еще пару лет назад обычной столовкой, с макаронами и компотом. Теперь окна затянули темными тряпками, стены обшили панелями под дерево, свет приглушили, в углу появилась стойка, украшенная бутылками и коробками от нездешних напитков и сигарет, непрерывно орала музыка и мигал экран телевизора. Тина Тернер и – ламбада, ламбада, ламбада…
Что ни пишешь, получается пошлость, сказал он. На самом деле то, что происходит с нами, гораздо проще и хуже, и нет этих подразумеваемых глубин, и в жизни чувство не выделяется абзацем, и нет ритма красиво неоконченных фраз… Страсти наши – страсти пустых людей. Но живых! Пустых, но живых. И не пошлых, потому что живые люди не бывают пошлыми… Но я не добираю до упора, не доскребаю до дна, до жизни. Наверное, подсознательно боюсь – слишком страшно быть живым и писать о живых.
Я не представляю, сказала она, как будут снимать нашу линию. Все эти твои погони, стрельба и ужасы – это они снимут, но как будут снимать нас? Получится обычная порнуха или мелодрама, приторная, как индийское кино. И потом – мне не нравится эта, которая меня играет. Я видела в журналах. И в одном фильме, не помню название. Она была ничего, но слишком страдала. А я, вообще-то, не люблю страдать, ты меня неправильно представляешь. Вот достань ключик, и не будет никаких страданий… И у тебя наверняка с нею шашни, да? Ты не пропустишь… Только не убивай нас, ладно? Не убивай и не мучай меня, я не выдержу. Она будет играть героиню, стойкую и несгибаемую, а я не выдержу.
Милая моя дурочка, сказал он и положил руку на ее колено под столом. Тепло пробилось через брезент джинсов, рука – словно перышко «86», притянутое на школьной переменке магнитом через тетрадный листок, прилипла и поползла. Любимый… Девочка…
В кафе что-то происходило, он заметил это – будто сдвинулись немного стены, будто стала немного фальшивить, подплывать музыка из сломавшегося магнитофона, будто люди – нечисто бритые разбойники с ближайшего рынка и здоровые амбалы в кожаных куртках, ожидающие сигнала ехать куда-нибудь на разборку, – замолчали все разом, будто тень наползла на эту паршивую помойку. Ну настоящее «Лебединое озеро» – сейчас ударят в оркестре литавры, и появятся силы зла, подумал он.
Ламбада кончилась, и длинным соло загрохотали барабаны во вступлении следующего клипа.
Тут же к столику подошел какой-то седой – в моднейшем двубортном костюме, прекрасном галстуке под туго стянутым воротом рубашки. Настоящий крестный отец из этих новых бандитов – только причесочка, аккуратная седина чуть на уши да одутловатое лицо старой бабы выдавали комсомольского секретаря благословенных семидесятых.
Сел за столик, улыбнулся открыто, по-молодежному.
– Узнаете?
– Вроде бы, – неуверенно ответил Сочинитель. И ужаснулся. Все! Он уже назвал мысленно свое имя, и теперь не скрыться! Не исчезнуть из Сюжета…
Изнутри уже поднималась неуемная дрожь, памятная по юным временам. Перед дракой всегда было невообразимо страшно, особенно боялся бить в лицо, но знал, что бить надо именно в лицо, и страшно было нестерпимо, и невозможно было обнаружить страх при ребятах, и дрожь колотила все сильнее, а с дрожью драться нельзя.
– Вроде бы… Игорь Леонидович?
– Он самый. – Седой улыбнулся уже совсем широко, радостно. – Узнали! Вот что значит – хорошо пишете, люди как живые… С первого взгляда узнаются… Ну, тогда и объяснять ничего не надо, правильно? Сразу поедем. А вы, – он поклонился, не приподнявшись, в ее сторону, – уважаемая Любовь…
И она, и ее имя, молча закричал Сочинитель. Но ведь я не называл ее, я вообще не давал ей имени! Ни на бумаге, ни даже в мыслях, откуда же он знает? Неужели имя просто получается из Сюжета? Значит, и ей не спрятаться… Будь я проклят, подумал Сочинитель. Я виноват во всем и еще не знаю, сумею ли выпутаться…
– Любовь, простите, отчества не знаю, да, собственно, и имя-то ваш друг не удосужился толком придумать… Вы, Любочка, в общем, сразу идите, вас уже ждут в машине. А мы следом, правильно?
Она шла к двери, задев только столик в проходе, не оглядываясь, не торопясь, – спокойно, не слишком быстро, но и не мешкая.
– Ну, поедем? – Седой закурил, протянул пачку Сочинителю. – По сигаретке – и двинули? Не станете ж вы сопротивляться собственному сюжету? Тем более, что вы его с прописной пишете… Сами виноваты – не надо было ребят так настраивать, что с ними работать невозможно. Делали триллер с политической окраской – ну и делали бы нормально, без всяких этих изысков и усложнений. Они его устраняют, мы берем власть, наступает железная пята – вполне в духе времени, книжку из рук бы рвали, кино получилось бы – класс! А теперь чего добились? Нас-то и так устраивает, такой исход тоже на нас работает, и еще, может, эффективнее и проще, вот увидите… Но ребят-то искать надо! Это ж убийцы, их разве можно на воле оставлять? Так что придется привлечь и вас к необходимому для общества делу… Поехали, поехали.
Когда они вышли, от тротуара немедленно отошла одна черная «Волга», на ее место стала другая, шофер, перегнувшись через спинку сиденья, распахнул заднюю дверцу.
Выглядело все это откровенней некуда: шофер – в форме.
Но Сочинитель уже ни на что не обращал внимания. Он смотрел вслед удалявшейся машине. Там, в поблескивающем заднем стекле, еще можно было разглядеть два силуэта, две женские головы.
Ольга сидела слева.
Скандинавия. Февраль
Слева стояли тоскливые, предвоенной постройки, четырех-пятиэтажные дома. Их ровные, без балконов, будто грубо обструганные фасады темно-красного кирпича и черные квадратные окна глядели тюрьмой. За кварталом этих домов, выстроенных для рабочих на заре здешнего унылого социализма и занятых теперь изысканными студиями разбогатевших авангардных дизайнеров, элитарными издательствами и компьютерными фирмами, за скалистой горой собора начинался квартал совсем сомнительный. Там, на территории, действительно принадлежавшей давно закрытой старой тюрьме, обосновались любители травки и ширяльщики, бродяги, приторговывающие оружием из идейных соображений, однополые семьи, восточные революционеры, состарившиеся американские шестидесятники, дезертиры, беспощадные борцы за чистоту природы. К старым тюремным корпусам жались хибары из кривых досок и жести, а брандмауэры самих корпусов были расписаны кляксообразными литерами лозунгов и птиценосыми фигурами из комиксов в устаревшем стиле «Желтой субмарины». Среди хибар и фресок бродили огромные белые собаки, здесь на них была мода, и грязные дети. На дорожках гнили старые листья, чавкала грязь. Торжество левых идей здесь, в небольшом районе, выглядело точно так же, как торжество левых идей где бы то ни было. Правда, в баре свободно продавалось пиво, и хотя полы в баре были, вероятно, самыми грязными в западном мире, пиво, как и всюду, было нормальное. А если присмотреться к посетителям бара, можно было и в них обнаружить – под цветным рваньем, кожей, молниями, черными майками, серьгами, выбритыми затылками и косичками – старательных и аккуратных школьников на каникулах и умелых мастеровых, костюмированных для рекламы. Настоящих чокнутых было процентов десять. Они и выглядели по-настоящему: довольно аккуратно, но старомодно и потерто, хотя и стильно одетая пьянь. Розовые набрякшие лица, плывущие глаза и тонкие ноги женщин – одинаковые у пьющих баб от Трех Вокзалов до, вероятно, Патагонии.
Справа черной засвеченной кинопленкой тек канал. Тяжелое инопланетное тело баржи возникало гигантской тенью, небольшие катера поблескивали легкомысленными разводами декоративных росписей, яхты светились будуарными окошками кают. Вечная контрабанда жизни шла вполголоса на палубах. Вода была беззвучна и лежала тяжело, ровно.
В медленно движущемся по набережной одиноком «мерседесе» сидели двое – водитель и еще один человек на заднем сиденье, напряженно глядящий вперед. Шляпу он снял и держал на коленях, и, когда в глубь машины проникал случайный свет редкого уличного фонаря, мертвенно белела лысая голова и желто-красным звериным огнем вспыхивали неподвижно, внимательно глядящие глаза.
Из боковой улицы вышли трое. Два обычных здешних парня – в высоких ботинках «Доктор Мартинс», в узких, высоко подвернутых джинсах и старых, обвисших драповых пальто с блошиного рынка – вели под руки невысокого, полного и очень элегантного господина в длинном светлом плаще. Господин шагал неуверенно. Машина остановилась. Трое подошли, шофер открыл правую переднюю дверцу, и маленький господин тут же оказался на сиденье рядом с ним. Дверца захлопнулась, парни остались снаружи – один прямо возле машины, другой отошел чуть вперед, закурил.
– Скажи ему, – хрипловато произнес человек с заднего сиденья, и маленький живо обернулся на звук его речи, обнаружив темную повязку, закрывающую почти все его лицо, от поросшей редкими черными кудрями неаккуратной плеши до скошенного подбородка в редкой же черной бороде, – скажи ему, что у нас все идет по известному плану. Поворот произойдет. Он уже произошел, но мы на этом не остановимся. Теперь человек, о котором мы говорили в прошлый раз, будет всегда действовать по нашему плану. Повтори это ему, он должен понять. Поэтому и дальше все должно идти по нашему общему плану. Скажи ему, что они начали неплохо, но если они остановятся на половине дороги, ни им, ни нам не удастся ничего. Объясни ему, что на этот раз ни мы, ни они не можем отступать – надо показать всем, что идея жива. Скажи ему…
Шофер быстро, слитным кашлем, выплюнул десяток арабских фраз. Повернув теперь уже к нему перетянутое черным лицо, маленький внимательно слушал. Когда переводчик закончил, в машине зазвучал тонкий, детский голос, придыхания восточной речи плохо сочетались с таким тембром.
– Он говорит, что ваша информация только подтвердила их оценку происшедшего, – перевел шофер. – Они не придают значения неудаче…
– А откуда они знают, что вообще неудача произошла? – перебил лысый. – У нас утечки не было, он блефует…
Шофер бормотнул вопрос, выслушал сладкоголосый ответ, и, когда переводил его, в его собственном голосе был едва уловимый оттенок усмешки.
– Он говорит, что утечки информации действительно не было, информация шла только по нормальным каналам: вам и им. Он говорит, что они не могут получить только ту информацию, которой не существует.
Дождавшись, когда переводчик замолчал, тонкий голос снова наполнил машину клекотом.
– Он говорит, что они в целом удовлетворены ходом дела. Они рады, что сатанинскому духу индивидуализма бедные страны снова противопоставляют единую силу народов, которые не променяют на дьявольский соблазн благополучия великое счастье умереть за общее равенство. Он говорит, что вся история есть история противостояния человеческого моря Востока западным жрецам горделивой личности. И они счастливы, говорит он, что великая евразийская держава, сбившаяся на несколько лет со своего исторического пути, возвращается в сообщество покорных единому Аллаху.
Дверца распахнулась, маленький господин вылез. Тут же парни взяли его под руки. Раздался едва слышный стук мотора, по каналу – темное на темном – скользнул катер и пристал точно в том месте, где остановились трое.
Хлопнула дверь, машина рванула с места и помчалась – мимо биржи, мимо старого дворца, мимо быстро сменившихся окраинными коттеджами деловых небоскребов черного стекла – на шоссе, к аэропорту. Лысый надел шляпу, откинулся, прикрыл погасшие желтые огоньки тонкими, как у птицы, веками – задремал. Шофер смотрел на дорогу, выражение лица у него было устало-брезгливое. За три года службы в резидентуре ему осточертели эти визитеры, не знающие ни одного языка и обращающиеся к нему не то что без имени-отчества – просто «ты», без имени. Этот еще оказался приличней других: прилетел, сделал дело – и назад. Не шастал днем по магазинам, не поручал поиски всякого дерьма на распродажах по бабьему списку. Видно, действительно – с самого верха. Впрочем, все равно сволочь…
Маленький господин ступил на палубу катера. Палуба была пуста, никто не вышел из каюты, в ее освещенных окнах вообще не было видно людей. И то, что катер тихо скользил, что тихонько бормотал под палубой двигатель, наводило на мысль о призраках, таких уместных среди черных домов, черной воды, черных шпилей на черном небе и черных человеческих фигур, неподвижно стоявших на палубе.
Переведя маленького господина по короткому трапу на палубу, парни отпустили его и отошли в сторону. Господин, вытянув короткие ручки, пытался нащупать перед собой и по сторонам какую-нибудь опору, но ничего не находил. Черную повязку он снять не пытался – видимо, соблюдая достаточно серьезный уговор. Тем временем один из парней на цыпочках, беззвучно, шагнул ему за спину и вынул из кармана чуть блеснувшую тонкую цепочку. Это была обычная, сантиметров в тридцать пять цепочка для ключей, и на одном ее конце действительно звякнули нанизанные на кольцо ключи, а на другом болтался брелок – маленькое, но тяжелое каменное яйцо. В случае необходимости, хорошо раскрутив цепочку, этой штукой можно было проломить висок.
Парень накинул цепочку сзади и, резко дернув, прервал уже почти вышедший из глотки маленького человека крик. Тут же убийца стянул концы цепочки под затылком – они едва сошлись на толстой и короткой шее – и, еще раз резко дернув, разведя руки в стороны, задушил человека. Потом он снял с его шеи цепочку и сунул в карман.
Второй уже вытащил из-под светлого плаща маленький магнитофон и положил его в свое пальто.
Тело осталось лежать на палубе, возвышаясь не опознаваемым с набережной мешком. Катер быстро шел к мосту, парни, наклонившись, трудились над трупом.
Под мостом они спихнули его в воду. Когда тело опустилось на дно, заложенные во все карманы плаща, пиджака, брюк небольшие взрывные устройства разнесли его на куски. Взрыв из-под воды был почти не слышен. Куски не должны были всплыть – к рукам и ногам, голове и груди стальной проволокой были примотаны грузила от больших сетей.
– Everything o’key, I think, – сказал тот, который душил. Покачиваясь, распахнув пальто, он мочился с борта. – Life is life, eh? We don’t need this kid more. He has made his last connection – our bosses can have their fucking caviar at their fucking dachas… Well. I hope, his blackassholes, his friends won’t find him for reconstruction. I don’t wish such bad thing to them, to our dear friends from the East…
– Shut up, you! – Второй прикуривал, и ответ его был неразборчив. – You are so brave here… But I wonna see you in Lebanon… With your fucken chain…