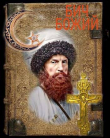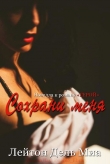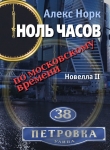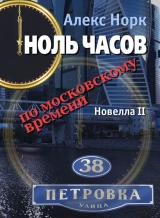
Текст книги "Ноль часов по московскому времени. Новелла I"
Автор книги: Алекс Норк
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Так, блин, резонно… что же делать?
– Пусть Лешка извинится и скажет: пропал из соседнего дома мальчик, обыскиваем всё вокруг.
– Молодец, Митя, фу-у, блин! Налей-ка еще.
Я исполнил и порадовался «непеньковому» своему начальнику.
Должен сказать наперед, что распространенную среди коллег «лексику» я тут смягчаю эвфемизмами или не привожу вовсе. А насчет «по чуть-чуть»: в рабочее время это считалось почти за норму у всех от уровня моей должности и выше, а младших строго-отцовски предупреждали: «смотрите вы там – чтоб не очень!»
Однако признать надо – «очень» случалось не часто, люди были в основном тренированные, а новички к ним быстро подтягивались. И этим милиция положительно отличалась от армии, вот там… про там, рассказывали откровенно страшные вещи. Например, один приятель Михалыча – военный авиаинженер – регулярно ездил в составе инспекторских групп и недавно поведал ему с содроганием вот такое.
Аэродром бомбардировочной авиации. Во главе инспекции генерал уже нелетающий, и как все – не дурак выпить. Отдает приказ поднять в воздух эскадрилью с полным боевым оснащением. Бомбы подвесили и эскадрилья поднялась в установленное лимитом время – всё хорошо. Летчики скоро вернулись и сели, а до того, как сели, генерал с командиром полка и другими нормально жахнул. Потом добавили. Генерала местные потаскушки повели под руки в баньку, а тот малопьющий инженер отправился прогуляться на свежий воздух и скоро оказался у одного из отлетавших бомбардировщиков. Неподалеку курили датый командир полка и несколько его подчиненных – тоже уже хороших. Инженер брякнул, больше для разговора: «разгружать бомбы сегодня, значит, не будете» – естественная мысль, когда вокруг ни одного трезвого офицера. «Что?!» – залихватски вскричал командир. – «А ну, Коля, давай!». Один из группы бросил сигарету и полез в кабину. Еще через тридцать секунд… у инженера всё сжалось внутри – вот она смерть! бомбы, сброшенные на бетон, покачивались, но… не взорвались. Конечно, заряды стоят на предохранителях, только про детонацию от сильного механического удара знает давно каждый школьник.
А представьте себе такой сюжет: гендиректор германской авиакомпании решил гульнут со своими подчиненными в Юго-Восточной Азии; полетели своим самолетом; согрелись как следует уже в первые полчаса, и гендиректор пошел с десятилетним сыном в пилотскую кабину; сказал – хочет сынок порулить; командир лайнера без звука уступил ему свое кресло; были ли сам командир и его помощник трезвыми или тоже не очень, установить не удалось, зато по звукозаписи стало ясно, что за штурвалом и им рулившим мальчонкой никто не следил; хватились только, когда самолет стал валиться на нос; а вытащить тяжелую пассажирскую дылду из этого состояния практически невозможно, то есть дальше – свободный полет до земли. Вот такие странные немцы. А если кто-то не верит… правильно! это наша история, в те самые начальные 90-е.Мы с подполковником отправились обедать, по дороге кто-то примкнул, в столовой еще кто-то, и я только успел узнать фамилию того «всемогущего» мужа, которая мне ровным счетом ничего не сказала. Узнать весьма интересное удалось только вечером в разговоре с отцом.
Вернувшись в Отдел, обнаружили там приехавшего две минуты назад Алексея, который сразу и доложил:
– Подружился с собакой, очень культурный пес.
Подполковник этим не впечатлился и показал рукой пройти в кабинет.
– Извинился, как приказывали, хозяева остались довольны, – не успев сесть, сообщил Алексей.
– Давай сначала и по порядку.
– По порядку получается так. Пошли с собакой по переулку, те соседские въездные ворота почти напротив наших, ну, чуть наискосок. Псу дали понюхать майку мальчика, он сначала ни бэ ни мэ, водит по земле носом и фыркает. Вроде уже и мимо ворот проходим, я говорю сержанту: «ну-ка сдвинь его немного в ту сторону». Бац, пес морду поднял, воздух понюхал, и к воротам, и грудью на них!
– Ну-ну?
– Я, как положено по инструкции капитана, вызвал местный наряд – приехали через две минуты. Звоню в калитку. Открывает хозяин. Охранника никакого нет, а сам участок у них значительно меньше. Дом, правда, с подземным гаражом.
– Собака на хозяина отреагировала?
– Нет, стала метаться. Еще раз дали ей майку понюхать, пошли в дом. Там только еще хозяйка, так, среднего возраста, а сами они дагестанцы.
– Но паспортные данные ты в местном отделении взял?
– Конечно. Как вошли я первый раз и позвонил. Короче, обнюхал пес комнаты, чердак, подвальный гараж – ничего. Надо понимать, мальчика сразу почти посадили в машину и увезли… а может, позже, когда увидели, что нянька очухалась и побежала в дом.
– Значит, что именно ими интересуемся, хозяева не заподозрили?
– Сто процентов.– Та-ак, пойду Мокову докладывать, – шеф полувопросительно посмотрел на нас, и мы оба кивнули. – Пойду, только не вижу причин что-то менять в завтрашних планах.
Менять, как мы тоже предполагали, ничего не пришлось. С личностями дагестанцев разобрались: он – бывший профсоюзный руководитель республики, она – замминистра образования, тоже бывшая. В общем, много хапавшая, особенно в последние советские годы, номенклатура.
Здесь важно кое-что сказать на национальную тему, которой еще не раз придется касаться.
Ни я, ни отец с братом уже несколько лет не навещали Россию, хотя регулярно собираемся, но каждый раз почему-то намерение не доходит до окончательного решения. А по «тарелке» смотрим Родину почти каждый день. И если символически выразить видимое-слышимое за последние годы – цвет будет серый, а звук – минорный с траурным даже оттенком. Очень много речи сейчас о национальном, причем в двух разных проблематических планах: конфликтности между русской частью страны и Кавказом (плюс Азия) и самоидентификацией, а соответственно – поиском «своего пути», и с сильной разноголосицей: быть или стать непонятно какой и зачем империей; что где-то скрыта национальная идея, способная потянуть нас как паровоз – вот только б ее найти; с упованием (или не) на религию; с наличием (или не) международных против России заговоров.
По этому поводу сейчас скажем лишь, что только очень неразвитый, дефективный народ можно охарактеризовать одной единственною чертой или исторической функцией. Хотя, скорее всего, таких народов не бывает вообще, а дефективная узость взгляда есть черта авторов подобных подходов. Впрочем, совсем в «дураки» подобных людей записывать не стоит. На примере классиков знаем, что некое единственное и окончательное решение, по-другому еще – панацею, искали и, казалось им, что нашли: Достоевский – «красота спасет мир»; Толстой – «опрощаться», превратить всё общество в гражданский трудящийся на земле монастырь; социальные утописты от западноевропейских до наших Кропоткина и Бакунин. Причина у них, в общем-то, уважительная – найти рецепт полного счастья для человечества, а толк от всех получился только один: указать потомкам исторические и социальные тупики. Не бывает одной грани у пирамиды. И никогда с одной точки вы не увидите ее всю, даже маленькую в своих руках. Вот это бестолковое «невидение» стало государственной российской политикой и последствиями, которые откровенно пугает. Ситуация эта не только российская, но отчасти и западноевропейская, связанная с арабами, турками и прочими «понаехавшими», однако! эти-вот-самые местную полицию, суды и другие органы не подкупают – не могут, а коренные жители понемногу смещаются от примитивного толеразма к более глубокому пониманию надвинувшихся на них угроз. Именно угроз, и вот почему.
Я уже говорил, что мне повезло с одноклассниками и друзьями, многие из которых, увы, как и я, не в России. Вот лучший у нас мальчик по математике, судьба которого была предсказана учителем еще в седьмом классе, действительно стал крупным ученом, и в звании полного профессора возглавляет сейчас одну из кафедр Факультета математики и компьютерных технологий Страсбургского университета. Мы обязательно встречаемся при моих нередких наездах в Париж, общаемся на разные темы, а не так давно обсуждали эту самую интеграцию всяких «пришлых» в европейское общество. В арабских предместьях как раз проходили очередные волнения и многие французы реагировали на них уже со словами «ну, сколько можно!»
Я и начал разговор с того, что эти же люди еще лет шесть-семь назад подобных реплик не допускали, а наоборот, заявляли улыбчиво, что интегрировать в европейскую цивилизацию чужие охлосы надо и осталось еще немного постараться и потерпеть.
– Сосредоточься на несколько минут, – попросил приятель, – и ты поймешь всю фундаментальную глупость этого, так сказать, исторического проекта.
Я, приготавливаясь, напрягся.
– Начала высшей математики, которые в школе давали, ты помнишь – интеграл, производная?
– Дельта функции к дельта аргументу при стремлении последнего к нулю, – выпалил я, будто стоял у доски. – А интеграл – как сумма произведений приращений…
– Верно, да, – он почему-то поморщился. – Только это частный случай куда более общей теории, которую правильнее всего назвать методологией интегрирования. В своем окончательном виде это совершенно абстрактная теория и абсолютно завершенная.
– То есть внутри нет нерешенных проблем?
– Именно так. А главное, данная теория универсальна, то есть верна всюду, включая высшие цивилизации в любых созвездиях и галактиках. И охватывает она не только математические, а любые системы вообще.
После таких слов я слегка даже струсил – вдруг не сумею врубиться и осрамлюсь.
Но оказалось, что зря.
– Итак. Сама теория называется тремя словами: «Мера-Интеграл-Производная». И строится именно в этой последовательности. Прежде всего, мы устанавливаем, что именно измеряем, затем, измеряя, видим, где больше – где меньше, и насколько.
– Определяется мера вещей?
– Умница. И только затем можно определить суммарное значение – интеграл по системе в целом.
– А производная?
– Локальность. Значение того или иного частного в общей массе событий. Только умея оценивать общее, можно правильно оценивать единичное и понять какое оно – хорошее, вредное?.
– Всего-то? Да это на уровне простого здравого смысла.
– Вся математика на уровне здравого смысла, но не всегда простого. И эта теория в развернутом виде занимает около ста страниц текста. Теперь давай ее применим к социуму, правильнее – к европейской цивилизации. Что мы вообще имеем в виду под цивилизацией, ведь не материально-технические накопления?
– Нет, безусловно, – в этой теме я чувствовал себя очень уверенно. – Само слово происходит от латинского – гражданский, подразумевает определенную историческую стадию сознания людей: о нормах общественного поведения, о необходимом государственном устройстве, о значении науки, культуры, образования. Цивилизация выступает в течение длительного времени константой, а технический прогресс при ней – переменная, определяющая удобства, а не ценности жизни.
– Что и требовалось. Сознание здесь, следовательно, слово центральное, а его содержанием является система ценностей, так?
– Верно.
– О’кей. Тогда ответь, что значит интегрировать в цивилизацию какое-то иное сообщество?.. Нет, сам отвечу: подчинить его имеющейся системе ценностей, с отчетливым у неофитов пониманием, насколько то или иное более или менее важно.
– Ты хочешь сказать – у них должна быть та же мера вещам?
– Почти. В теории интегрирования это называется «подчиненная» мера.
– То есть?
– То есть она должна давать оценку всему, чему оценку дает мера главная, и не просто давать: там, где у нас А больше Б, у них обязано выполняться такое же соотношение. Ну и, соответственно, положительное должно быть положительным, отрицательное – отрицательным. Хотя сами величины могут быть и другими.
– А… ну и в чем здесь для «пришлых» препятствие?
– Препятствие не для них, а для нас. И в том, дорогой, что даже цыганский табор имеет свой собственный интеграл, свою меру вещам и представление о значимом и незначимом.
Вслед за мелькнувшей пушкинской строчкой «Цыгане шумною толпою…» я вдруг на секунду увидел эту подвижную пеструю массу, и мысли о схожих мерах не было места на этом фоне… И разумеется, так обстоит не только с цыганами.
Однако мой друг не поставил еще последнюю точку.
– Включить эту публику в нашу цивилизацию не только не выйдет, но обернется, в конце концов, гибельным результатом. Простое прочнее сложного, их примитивные интегралы, количественно нарастая, непременно разрушат наш. Ты ведь знаешь, что раковая клетка отличается именно своей выносливостью, плодовитостью и простотой.
Страшноватое и слишком похожее на правду сравнение, отчего еще более страшноватое.
– Выходит, в обозримом будущем проблему с ними вообще не решить?
– Да ни в каком будущем. Зато государства некоторые, и в первую очередь наша Россия, развалиться могут в будущем вполне обозримом. И исторические примеры на эту тему ты знаешь лучше меня.
Действительно, по этой части знаний у меня вполне хватало, и вот почему.
У каждого своя натура, моя имеет свойство терять интерес к тому, что хорошо понято и изученного. Вот после восьми лет службы в уголовном розыске я, неожиданно для себя, потерял всякий к ней интерес. Понял не умом, а внутренними ощущениями – больше этого не хочу. Потому что уже почти всё знаю. Но это про современное, про в нем плохое, и как его раскрывать. А про хорошее знаю совсем чуть-чуть, откуда вообще берется хорошее и плохое, из чего исторически складывался и как меняется человек, что он, усвоив из пройденного, сделает завтра, и, конечно, чего нам русским от себя самих ждать.Образование к началу 2000-х вернуло практику XIX века, когда в университет позволялось записываться вольным слушателем, то есть ходить на лекции, подбирая самому себе нужные курсы. Дипломы таким не выдавались, но и экзамены сдавать не требовалось. Понятно, что основа такого вольного пребывания была платной, но с деньгами в нашей семье, скромно скажем, проблем вообще уже не было. Вот так два с половиной года проучился я в одном из гуманитарныъ вузов страны, сочетая учебу с работой у бати, а теперь продолжаю на той же вольной основе дальше себя образовывать уже в столичном университете Сардинии в Кальяри. Сознаться должен, вопросы за все эти учебные годы прибавлялись заметно быстрее, чем ответы на них, но всё-таки иногда и ответы являлись, особенно приятно – когда сами из головы. И еще одно интересное обстоятельство: история воспринимается большинством исследователей и просто людей как нечто личное, поэтому одни и те же факты интерпретируются порой в совершенно противоположных смыслах. И еще: каждый народ боится отмечать в истории о себе критическое, и там, где это особенно развито, приобретенный в какое-то время недуг не изживается, а превращается в неизлечимо хронический.
Отвалекся, и теперь возвращаюсь.
Ничего такого умного и культурного я еще не знал в том 92-м году.
Мы с Алексеем сидели и перебирали все дополнительные розыскные мероприятия.
Установили, в том числе, номера двух автомобилей тех дагестанцев и дали команду местному отделению фиксировать время выезда этих номеров на шоссе – там путь к Москве только один, на выезде у них стационарный пост.
А потом часа полтора помечали купюры, которые мы до завтрашнего приезда на кладбище забрали к себе. Дензнаки от этого не портятся – маленькая синяя полоска при подсветке заметна, коротенькая совсем. Конечно, мелкие обменники заставить проверять на эту полоску нельзя, а банки в случае обмена или помещения на вклад крупных долларовых сумм, мы таким указанием охватим. Шансов на будущий какой-то успех тут мало, но надо делать – что можно сделать.
Леша, поругиваясь, рассказал об обстановке в коттедже у бывших советско-дагестанских служащих.
Еще поговорили о чем-то.
Потом Алексей вспомнил:
– Да, знаешь, где у этой пары сожительство началось?
– Блондинки и богатого мужика?
– Ага, в Германии. Мужик этот генеральский чин имеет, среди главных там командиров. А она работала в нашей школе, учительницей русского языка и литературы.
– Бли-ин, вот откуда у него бабки немерянные!
– Ну! Я сразу хотел рассказать, да чего-то забыл.
– А как узнал?
– От нее. Спросил – муж этот, наверно, успешный предприниматель?
– Нет, говорит, он крупный военный… и коротко всю историю.
Германия… Западная группа войск (ЗГВ) – о воровстве там ходили легенды.
Наши войска, с послевоенного времени, стояли в социалистических странах Восточной Европы, с особенно большой концентрацией в Германии и Чехословакии.
Как раз в то самое время, когда мы с Лёхой метили долларовые купюры, Главный государственный инспектор Ю.Ю. Болдырев готовил свой доклад Президенту Ельцину о конкретных крупномасштабных криминальных – попросту воровских – действиях поименно указанных в докладе высоких чинов ЗГВ. Последствия оказались скоро крайне незначительными: несколько вполне почетных отставок и один условный срок. Судили немногих средних чинов – тоже без жестких по ним приговоров. А самого Ю.Ю. Болдырева через три с половиной месяца сняли с работы под предлогом ликвидации его должности. Позже он был назначен зам. председателя Счетной палаты и снова был снят, но уже при Путине. Очень редкий для России тип личности этот Болдырев – понимал, что ничего хорошего его бескомпромиссное поведение не сулит, что просто могли убить, – понимал, но не способен был вести себя по-другому. Однако в 2000-х на разных выборах народ за него почти не голосовал – не нужны ему такие. А какие нужны? Или тут что-то вроде природной нелюбви к честности?.. Темы этой – тяжелой и страшной – придется еще касаться.
Вернемся, однако, к крупным деньгам.
Самые крупные криминальные деньги обращались тогда именно в ЗГВ, а лидировала Германская Демократическая Республика, объединявшаяся с 1990 г. с Федеративной Германией. Процесс не был мгновенным, следовало образовать единое правительство и местные органы управления в бывшей уже социалистической зоне, ввести общую валюту на основе западногерманской марки и много еще чего прочего. Вместе с тем, граница между двумя Германиями исчезла с ноября 1989 г. и это было очень правильно понято нашими генералами, а от них, без прямого озвучивания, всеми ниже: социализму пришел конец и его гибель – дело скорого времени. Отдать военно-политический форпост противнику, значит – отказаться от противостояния социалистической и капиталистической систем. А отказаться можно только одним способом – уступив капитализму, еще проще: социально и политически капитулировав перед ним.
В личном плане против такой новой жизни никто не был против, потому что о той, которую мы имели, вполне говорил такой анекдот: приходит бабушка в райком партии и спрашивает: «Милые, а социализм кто придумал – коммунисты или ученые?» – «Коммунисты, бабушка, – отвечают ей, – коммунисты». – «Вот и я думала, что коммунисты, ученые они сначала бы на собаках проверили».
И генералитет начал грабить: продавали запасенную на несколько лет бытовую матчасть; оружие, в том числе совершенно секретные виды; заключали договора на продовольственные и вещевые поставки от западных фирм по сверх завышенным ценам.Деталь сюда любопытная: согласно свидетельству командующего ЗГВ генерала-полковника М.П. Бурлакова, некоторые зарегистрированные на Западе продовольственные фирмы принадлежали певцу И.Д. Кобзону.
Работа с купюрами закончена, и до завтрашнего дня делать нечего.
Заходим к Михалычу попрощаться.
Оказывается, он не терял времени даром и сварганил дополнительный операционный план.
– Мокова ведь еще раз замминистра вызывал, хвост накручивал.
– А чего конкретно хотел?
– В своей обычной манере: «Если не все меры примите, если что-то где-то упустите…»
– Ценные указания, – съязвил Алексей, – а Моков то же самое вам спустил?
– Ты погоди, Моков тут правильно предложил – проконтролировать перемещения кавказцев, если те выедут в Москву.
Это меня напрягло:
– Заметят наружку, дадут всему делу отбой.
– Не заметят. С выезда на шоссе нам местные сообщат. Дадим сигнал по рации первой машине – она совсем у Москвы у развязки будет стоять. И недалеко вторая. После развязки они либо прямо дадут, там на Профсоюзной еще третья машина будет дожидаться, либо налево поедут по окружной – значит, как раз в район Востриковского кладбища. Это недалеко, двумя машинами вполне контролировать можно.
Меня сюжет успокоил:
– И кто нам такой оперативный ресурс выделил?
Шеф показал пальцем наверх.
– Задача у них только наблюдать?
– Да. Но если увидят мальчонку, пойдут на захват.
– Дельно, – согласились мы оба.
И пошли напротив, в сад Эрмитаж, пиво пить.
Закончились там приятные посиделки на воздухе с плющом вокруг деревянного навеса и цветочными вазонами у столиков, чириканьем птичьим в кронах деревьев, ушло и недавнее теплое бабье лето, конец октября – Москва готовится к снегу и слякоти.
– Бр-р, холодно, – поежился Алексей.
И мы поспешили быстрей оказаться внутри помещений.
Вот в этот момент у меня в первый раз за день возникло ощущение, которое, полагаю, известно каждому небездарному сыскарю.
Попробую его объяснить.
Появляется своеобразное беспокойство, этакий нервный неуют, сравнимый, пожалуй, больше всего, с ощущением непонятно куда подевавшейся вещи, нужной сейчас… вот она где-то здесь… вещь хотя и не очень важная, но всё же… где же она?.. «Найдется потом», – говорите вы сами себе, нервный неуют уходит, но ненадолго.
Я уже знаю, такое «явившееся» – рефлексия от недавних событий, а значит: либо я что-то не понял, не переспросил у Михалыча или Лёши, и эта мелочь, желая сказать о себе, шершавит сейчас сознание; либо что-то в событиях сегодняшнего дня было не так, правильнее: какие-то факты не хотят уживаться друг с другом – там, у меня в голове, между ними конфликт.
Лёшка чего-то ехидно рассказывает из наших служебных сплетен, я рассеянно слушаю, киваю и… Оно не оно?!
– Послушай, ты говорил: собака рванула к воротам.
– Ну-да.
– Не к калитке, а к воротам?
– До калитки там пару метров мы не дошли. – Он вдруг поднимает указательный палец: – Ха… а это тоже улика.
– Какая улика, в чем?
– Калитка у них металлическая, когда закрывается – довольно громкий звук издает, и когда открывается, тоже слышно. Если б те двое мужчин выходили через калитку, нянька услышала бы. Или, как им казалось, могла бы услышать. А ворота деревянные.
Я вспомнил – красивые, отлакированные.
– Из таких ворот легко тихо выскользнуть. Ты что, Дим?
– Не исключено.
Я понял уже – мысль не та, беспокоит непонятное мне другое.
Алексею собственная его идея понравилась и укрепила в подозрениях:
– Дима, а что если эти гады, ну, мальчика…
– Перестань! Зачем?
В голосе моем прозвучала, кажется, чрезмерная уверенность, и от того, как раз, что очень стараюсь не пускать к себе эту мысль.
Алексей не очень любил Кавказ.
Да впрочем, Россия к нему вообще любовью никогда не пылала.
В советское время к людям из Среднеазиатских республик относились спокойно и даже сочувственно-снисходительно, их воспринимали как младших в общей семье народов, и из-за этого психологического барьера не возникало. А Кавказ – Северный, Закавказье – одинаково напрягал. Здесь вполне подходила теория моего приятеля, потому что «меры вещам» действительно слишком не совпадали.
Стоит отвлечься и указать на одну общую черту исторических школ, изучающих развитие отдельных народов, – таковой чертой являются природно-климатические условия. Наряду с внешними обстоятельствами проживания, они формируют тот или иной архетип, во всяком случае, в рамках того, что мы вообще о человеке знаем (возникновение рас и прочее – другая история).
Исторически русский человек аскетичен, так как подавляющему большинству жизнь у нас ничего хорошего, ни в социальном, ни в природно-естественном плане, не предлагала, и, кроме облегчения от ее тягот на том свете, рассчитывать простому человеку было не на что. Церковь, обслуживая социальные интересы «верхних слоев», всячески содействовала потустороннему настроению простолюдинов – из поколения в поколение формировался ментальный тип аскета и идеалиста.
Мало кто знает, как, например, питалась русская деревня на рубеже ХХ века. Из-за огромной вилки сельскохозяйственных и промышленных цен бóльшая и самая калорийная продукция нашей деревни сдавалась перекупщикам. Крестьяне в малом количестве употребляли яйца, сливочное масло, сметану, редко ели курятину; сахар был слишком дорог для свободного употребления, основная масса обходилась без белого хлеба – из белой муки пекли только что-нибудь к праздникам. Овощи и ржаной хлеб составляли основу питания русского человека. Помогали, конечно, заготовка грибов-ягод и рыба, если недалеко находились достаточные с ней водоемы.
Кавказ, в сравнительном отношении, являл собой просто райское место. Там не только не знали многомесячной лютой зимы, но вообще минусовых устойчивых холодов. Кроме каменистой (но очень теплой) Армении, про прочие территории говаривали: вырастет и воткнутая в землю палка. На Кавказе, при замечательном там плодородии, человек никогда не был задавлен нуждою до степени – а что ему завтра есть. Практически не существовало проблемы, чем обогреть себя и скотину. Жилье, хлев не требовали толстых стен, незначительная потребность в теплой одежде легко решалась обилием овечьей шерсти. И хотя гнет местной аристократии был ничуть не меньшим, а по жестокости наказаний еще худшим, чем в России, материальная составляющая содействовала развитию гедонистических настроений, то есть поиску удовольствий от каждого дня, а сама «материальность» всё более фетишизировалась. Такая тенденция укрепилась при советская власти, так как кавказские коммунистические лидеры – прежде всего, Сталин – гораздо бережнее относились к родным местам при коллективизации и раскулачивании, чем к другим национальным частям страны; снабжение сельхозтехникой осуществлялось более высокими темпами, активно развивалась удобная для местной рабочей силы курортно-санаторная база, никогда не сдерживалась местная рыночная торговля сельскими продуктами, одеждой из кожи, шерсти и меха, а легкие виноградные вина способствовали хорошему физическому и эмоциональному тонусу.
В историческом результате на территории СССР определились три типа: азиатский тип (куда можно причислить и малые народы Российской Федерации) – до времени малоактивный; кавказский – крайне активный и материально нацеленный; и русский – аскетичный и идеалистически ориентированный. Вот этот его заложенный предыдущими столетиями менталитет не только не изменился, но очень укреплялся большевиками под новыми идеалами и лозунгами. Царство Божие заменили будущим коммунистическим раем, где жизнь пойдет по закону «От каждого по способностям, каждому по потребностям», по любым потребностям (!), поскольку вместе с коммунизмом придет и полное материальное изобилие. Никакого сколько-нибудь точного описания коммунизм не имел, но в точности соответствовал подсознательному у каждого русского запредельному, но желанному, Благу. И ставил его, также подсознательно, в жертвенное отношение к этому коммунистическому после-после завтра.
Однако время шло, а коммунизм оставался всё там же – на горизонте, и откровенная, уже понятная массам, дурь советских маразматических лидеров лишала последних надежд реально его увидеть.
Социальная модель, существовавшая в голове каждого человека, сильней и сильней шатаясь, в конце концов, развалилась. Потом только развалилось партийно-коммунистическое руководство и, вслед за ним, Советский Союз – сначала всё происходит у людей в головах. Но не развалилась психическая основа человека – вера, сформированная столетиями, теперь эту веру пытаются использовать в тех же целях: для собственных карманных интересов. Недавно по ящику видели, как очередная бесстыжая рожа опять толковала, что русский человек, он не как в Европе, там, дескать, закон, а у нас благодать. И, дескать, мы такой исторический путь сами выбрали, теперь извольте идти. А кто эту благодать видел? И какая она вообще? То, что в Европе (и не только) правит закон, – всем очевидный факт. И что на Руси закон никогда не правил, – факт очевидный, но когда это там замечена была благодать? Пальчиком покажите. А вот аскетизм все всегда видели и видят сейчас: мрёт русский народ, и кто чем может этот процесс ускоряет: посчастливее – водкой, а прочие – стеклоочистителем. И еще Америке-Европе кулаком грозят – не свалитесь, когда его поднимаете.
Про исторический аскетизм и идеализм мы еще вспомним, и это не единственные архетипические черты русского человека – тут опять образ пирамидки уместен, у которой не одна грань. А пока вернемся к милым русскому сердцу кавказским братьям.Материально ориентированный тип чрезвычайно предприимчивый, и в этом качестве почти не знает предела своим насыщениям. Ему надо делать всё новые и новые приобретательские шаги, причем не только от примитивной жадности, а от того, что материальное жизнеполагание диктует представление о правильной жизни. Однако жизненный критерий – главный ее позитив – есть ни что иное как базовая этическая категория; другими словами: нравственность материального типа тяготеет выражать себя в денежных единицах. Отсюда и отношение к закону, который соблюдают лишь там, где иначе нельзя. Русский человек тоже легко нарушает закон, но не от небрежения к нему, а от исторически очень убогой жизни, от генетически записанной угрозы «не выжить» – поэтому пройти мимо того «что плохо лежит», ему психологически очень непросто. Тем не менее, старая ментальная запись отходит на второй план, если ей противопоставляют новую, обладающую – правдивым или нет – но сильным соблазном; именно на этой основе и происходят социальные революции. Либо не происходит, точнее, жизнь остается в собственном тупичке. Причины таких явлений не до конца понятны, наука вообще ничего не знает о возможностях человеческого развития и о непреодолимых для него барьерах. В каких именно качествах и как далеко человечество способно продвинуться? Какими именно национально-этническими и религиозными составляющими? Ведь не секрет, например, что австралийские аборигены не слишком стремятся в университеты, хотя для них там открыты все двери. Весьма специфичны и американские индейцы, и кстати: что помешало этой расе развиваться аналогично европейским народам? ссылки на природные условия тут сработать не могут – от Аляски на Севере до Огненной земли на Юге более, чем где-либо, представлены все климатические пояса и всё природное разнообразие. Так почему же не «их Колумб» приплыл к нам в Европу? И сейчас они в массе своей выбирают автономные поселения, культивируют свои традиции и обряды, почти отстраняясь от цивилизации по-прежнему нелюбимых ими белых. А о фактическом провале европейской интеграционной программы мы уже говорили.