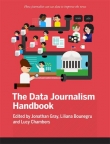Текст книги "Я признан был самим собой"
Автор книги: Алехан Миталиер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
«Смысл жизни прост: её надо прожить»

Интервью с автором
Литературное досье
Алехан Миталиер (настоящее имя – Алихан Муталиев) родился в Казахстане в семье ингушских спецпереселенцев.
После реабилитации репрессированных народов вернулся с семьей в Грозный. По образованию филолог, учился в аспирантуре МГУ у Н. И. Толстого. Научные интересы связаны с проблемой внутренней речи и древними религиозными воззрениями и обрядами чеченцев и ингушей. Параллельно занимался литературной деятельностью.
Его рассказы, эссе, лирические произведения публиковались в периодических изданиях и альманахах, удостаивались литературных премий.
В 1992 году покинул Россию. Жил и работал в Германии, Румынии, Украине, Молдове, странах Ближнего Востока. Последние годы живет в Венгрии, продолжает заниматься литературным творчеством, проявляет интерес к исследованиям истории, языка и культуры венгерского народа.
В 2015 году вышла изданная за рубежом книга «О!», получившая признание читателей и критиков.
В эти дни Алихан Муталиев отмечает свой день рождения. В сборник, который вы держите в руках, вошли новые произведения Алехана Миталиера, отзывы и рецензии на его творчество, воспоминания друзей и коллег, а также размышления самого писателя о своей жизни, творчестве, литературе.
В преддверии юбилея писателя с ним встретилась журналист Марина Комогорцева.
М. К.: Я сижу в плетеном кресле на уютной летней веранде дома в маленьком венгерском городке с удивительным названием Тата в ожидании хозяина – Алихана Муталиева (Алехана Миталиера).
Стремительная походка, дымящаяся сигарета, открытая, располагающая к общению улыбка – и я сразу попадаю в ауру его энергетики.
Мы долго беседуем, потом наш разговор продолжается по дороге (Алихан показывает мне город, знаменитое озеро, которое я видела на его фотографиях), по пути останавливаемся, когда находится интересный ракурс для съемки, иногда присаживаемся выпить кофе во дворике кафе. Мы давно знакомы, поэтому разговор складывается легко и непринужденно.
М. К.: С какого возраста ты себя помнишь? Твои самые сильные детские впечатления?
А. М.: Примерно с того времени, как мы вернулись домой, на Кавказ, после высылки, т. е. примерно с 4–5 лет. Первые детские воспоминания связаны с 1960-ми годами – появление дома телевизора, поездки в горы (нас даже с детским садом туда возили). А горы я считал своим достоянием. Я не думал об их труднодоступности – они были моей собственностью и моей жизнью. Еще всегда испытывал какое-то потрясение от общения с животными, у меня была своя собака, свой баран, своя «коняшка» – мои верные слушатели и собеседники.
Сохранилась в памяти школа (ее тогда только построили). Меня очень удивляло, что наши учителя были не похожи на чеченцев и ингушей, они были совершенно другими, и я понял, что, оказывается, есть и такие… Меня удивляло, что они преподают на русском языке, и мне это нравилось.
Еще помню, что в доме было много книг, которые я не успевал читать; меня злило, что их так много, а я еще плохо читаю. И особенно этот огромный книжный шкаф, который почему-то запирали на ключ…
Я не понимал, почему от меня не прячут, например, яблоки или конфеты, а книжный шкаф был закрыт, как будто хранил какую-то тайну. А всякая тайна, как известно, притягивает. Вот и меня притянуло…
М. К.: Да, детское сознание хранит генетическую память, память рода… Ты можешь назвать себя носителем этой памяти?
А. М.: С этой памятью получился какой-то казус… единственную родословную, список её, почему-то вручили мне… хотя в семьях нашего рода было много детей. И я был поражен, что там столько имен, столько людей и что я там где-то 12-й или 13-й по счету от предка. Тогда я поразился тому, что у меня не короткая история, как у обычных людей, а очень длинная, и даже сверхдлинная, которая вовсе не привязана к тому месту, где я жил и где жили мои последние предки… И с каждым из этих имен были связаны свои истории и, что особенно важно, – отнюдь не только героические, но и весьма неприглядные…
И, только повзрослев, я понял, что на Кавказе все истории преподносят только как героические, а у меня было очень много не героических… Тогда же я сделал открытие, которое меня потрясло: я просто случайно оказался на Кавказе, потому что мой прапрадед ушел с Кавказа в Турцию, участвовал в войне против России, был участником восстания 1859 года, а потом уже мой прадед вернулся на Кавказ… Получается, что если бы прадед не вернулся, то у меня была бы совсем другая история… Эти уходы и возвращения были частью жизни нашего рода. Вот и у меня то же самое – Казахстан, Чечено-Ингушетия, Венгрия…
Но я знаю, что если не я, то мой сын или внуки, или правнуки когда-нибудь вернутся на Кавказ.
М. К.: А ты интересовался истоками своего рода?
А. М.: По последним данным, которые появились благодаря развитию генетики (хотя я отношусь к этим исследованиям с недоверием), я являюсь представителем загадочной гаплогруппы L3. Эта древнеиранская группа очень древняя, но немногочисленная, и, если следовать современной науке, это индоевропейская группа, распространенная не только среди чеченцев и ингушей, но и на территории Грузии. Эта группа состоит в основном из так называемых орстхоевцев, с которыми связан один из величайших эпосов мира – нарт-орстхойский эпос. А мы знаем, что наличие эпоса у народа определяет очень многое в его историческом и духовном развитии. И когда я упоминал «длинную» историю, получается, что группа L3 тоже имеет длинную историю. С удивлением обнаружил среди них народ бурушаски, обитающий где-то в Пакистане и считающий себя потомками Александра Македонского. Вот такие виражи иногда бывают в лабиринтах человечества…
А имя моего предка Гаги встречается в истории древней Армении, где есть известное место Гагикашен, потом обнаруживается где-то в XIII веке (в лице порубежника царицы Тамары – Гаги, который якобы контролировал земли, входящие сегодня в состав Чечни и Ингушетии).
Об истории и значении своего рода и своей принадлежности к нему я могу судить по такому элементу материальной культуры, как замок моих предков (примерно XIV–XVI век), который был разрушен когда-то стихийным бедствием… Он был именно замком, а не какой-то одиночной башней, входящей в состав башенного комплекса в горах. Этот факт еще нуждается в изучении, осмыслении.
Кроме того, интересно распространение представителей моего рода по миру: часть моего рода ушла в Грузию, другая часть осела в Чечне, третья осталась в Ингушетии, часть из которой в свою очередь мигрировала в Турцию, Ирак, Сирию в XIX веке.
Поэтому мне по природе абсолютно чужд местечковый национализм – люди моего рода живут во многих точках мира, даже самых немыслимых, и самое важное, что все они достойные люди и занимаются добрыми делами.
М. К.: Если бы ты сегодня встретился со своим дедом, что бы ты ему сказал? О чем бы поговорил?
А. М.: У меня два деда было, оба погибли, деда по отцу расстреляли. Я сказал бы, что я его хорошо помню, что он всегда был со мной и что я постарался не опозорить его доброе имя, и, наверное, все-таки я один из его преданных внуков – где бы я ни был, я всегда назывался его внуком (даже не именем отца). Имена деда и прадеда я пронес через всю жизнь и благодарен им за все, хотя в наследство мне достались только две их фотографии и украшения от уздечки коня, вот они до сих пор со мной.
М. К.: Что для тебя – родина? Дантону приписывается фраза «Нельзя унести родину на подошвах своих сапог» (досл. пер. «Возможно ли унести с собой свою родину на подошвах башмаков?») Ты согласен с этим высказыванием?
А. М.: Насчет сапог – нет, но если в голове, то можно унести (смеется).
Родина – это очень сложное понятие… С одной стороны, не то, что у каждого человека свое понимание родины, есть и коллективное признание родины – как места, своего рода genius loci… У меня такого нет. Чем больше я изучаю историю, философию, жизнь вообще, родина становится все больше и больше, то есть я не могу сегодня признать территорию обитания моих соотечественников родиной, особенно если знаешь, что у тебя длинная история. Сейчас ещё раз поясню это…
Когда в XIX веке на Кавказ пришла Россия, нам сказали, что наша история только начинается, что мы будем жить по новым законам, нас просветят и т. д. – и с этого момента начинается наша история, потому что прошлое у нас темное и неизвестное, никто о нас не знал, не слышал, не писал. Некоторое время назад считалось, что история чеченцев и ингушей – короткая, где-то 200 с чем-то лет, но появились новые знания, история начала удлиняться, и неожиданно для нас обнаружились древние источники на грузинском языке. Из них следовало, что основателем Картли был Фарнаваз, а его жена оказалась представительницей вайнахского племени дзурдзуков, и, таким образом, история моего народа удлинилась сразу на 2200 лет.
И мое представление о том, кого я считаю своим соотечественником или близким себе человеком, сильно изменилось, благодаря изучению длинной истории. У меня появились новые родственники-итальянцы, англичане, американцы, которые для меня остаются моими людьми-кавказцами. Даже если они изменят фамилии, укажут другую национальность, все равно они часть моей родины, часть меня самого.
М. К.: Почему ты вообще стал филологом? Это было твое желание? Не жалел никогда об этом? Это был Чечено-Ингушский университет, провинциальный, по большому счету. Можно ли сказать, что тебя как интеллектуала и творческую личность сформировал именно университет?
А. М.: Филологом я стал случайно. Это смешно, но так получилось, что моя мама сдала документы на филфак, потому что на истфак, куда я собирался, был большой конкурс, и она боялась, что я не пройду. Филологию я тогда не считал серьезной наукой, хотя был «заражен» литературой и мне хотелось самому что-то писать…
Когда я поступал на филфак, случилась забавная история: мне захотелось продемонстрировать свою начитанность и ошарашить экзаменатора, и вместо анализа чеховского рассказа «Ионыч» я начал ему рассказывать о традициях Чехова в творчестве Фланнери О’Коннор. Как оказалось, я удивил своими знаниями преподавателя, о чем он много раз мне потом говорил, интересуясь при этом, где же я достал эту книгу Фланнери О’Коннор. И Фланнери О’Коннор, и другие писатели, которые на меня потом воздействовали, не были в списке обязательного изучения на филфаке. Очень рано я открыл для себя зарубежную литературу – увлекся античностью, современными зарубежными авторами, книги которых сложно было найти в те годы. Но я собрал огромную библиотеку, которой бы мог позавидовать любой коллекционер. В ней много раритетных изданий, книг, которые не переиздавались с тех пор.
Если говорить об университете и о его влиянии на меня, то я не чувствовал, что это был какой-то узконациональный или провинциальный университет. У нас было много замечательных преподавателей – например, один из них предложил мне заниматься проблемами психоанализа в литературе, что было в те времена достаточно смелым шагом. Помню, что тогда я на основе своих знаний психоанализа с максимализмом самоуверенного молодого студента раскритиковал некоторых чечено-ингушских писателей, указав на отсутствие в их произведениях психологизма, чем вызвал их недовольство и возмущение… за что и поплатился, получив вместо красного диплома обыкновенный.
А уже на III курсе я познакомился с Никитой Ильичом Толстым и понял, что обязательно должен быть либо в МГУ, либо в Институте славяноведения, чтобы заниматься теми проблемами, которые обозначил для меня Никита Ильич. То есть для меня сам университет (Чечено-Ингушский или какой-то другой) был важен только как место, где я мог получить системные базовые знания, чтобы сделать следующий шаг, что в принципе и случилось… а так, сама по себе филология на начальном этапе не представляла для меня интереса, это пришло позже, когда я понял, что я смогу и в этой области что-то сделать, добиться чего-то.
М. К.: И в продолжение темы… Как повлияло на тебя общение с Н. И. Толстым, с этим человеком, ученым, носителем высоких академических традиций русской культуры?
А. М.: В первую очередь повлиял сам круг общения, куда меня ввел Н. И. Толстой, – это были большие ученые, авторы монографий, учебников по филологии. Я их увидел вживую и мог с ними общаться. Это был переход от кабинетного общения к живому, что было очень важно не только для меня, но и для них тоже.
Особенно запомнилось, как Ольга Михайловна, мать Никиты Ильича, призналась, что очень благодарна ему, что в доме Толстых опять появился кавказец… Я не чувствовал себя чужеродным элементом в кругу этой семьи и готовился к собеседованию в кабинете Никиты Ильича, который подбирал мне книги для подготовки, учебники, работы разных ученых. Кроме того, он сразу привел меня на кафедру русского языка МГУ и представил как стажера-преподавателя, своего ассистента и аспиранта. Познакомил со своими коллегами и учениками, которые встретили меня очень дружелюбно и заинтересованно – они поверхностно знали кавказскую цивилизацию, а у Никиты Ильича было желание уделять ей большое научное внимание.
И слова Ольги Михайловны («наконец-то кавказец появился в нашем доме») – это было глубоко личное, связанное с прошлым, когда кавказцы часто бывали в их доме (я не говорю о Льве Николаевиче – достаточно вспомнить «Хаджи-Мурата» и дружбу с Садо Мисербиевым. И самое забавное заключалось в том, что ингуши охраняли покой Льва Николаевича в Ясной Поляне).
Общение с Никитой Ильичом, ярким представителем русской науки и культуры, позволило мне по-другому взглянуть на историю завоевания Кавказа и его последствия. Я увидел некий просвет в бесконечной череде кровавых историй колонизации моего народа и, как бы банально это ни звучало, нашел глубокий смысл в этой трагической истории. Я понял, что наши культуры могут взаимодействовать и взаимообогащаться.
М. К.: Ты уже много лет живешь за рубежом, но твоя юность пришлась на 70-е годы – не самое простое время для реализации возможностей и стремлений молодого человека… Что формировало твои вкусы, интересы? Что помогало сохранить независимость взглядов, индивидуальность? Кто в те годы оказал на тебя особенное влияние?
А. М.: Прежде всего, это, конечно, музыка – The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin. Когда почувствовал, что невозможно слушать Led Zeppelin и читать о том, «как закалялась сталь», я понял, что советская система того времени находится в катастрофической ситуации.
Кроме того, как я говорил, мне тогда не близка была русская литература, все страсти, идеи и содержание которой, кроме Пушкина, – это пафос страдания, заполненного религиозными идеями, философскими развернутыми монологами Толстого, Достоевского. Это не помогало жить, двигаться вперед – можно было только любоваться прошлым или сострадать настоящему… это меня смущало в русской литературе. Единственным писателем, повлиявшим на меня тогда, был (и до сих пор остается!) Чехов. Ну, и конечно, западная литература – Лондон, Силлитоу, Фицджеральд, Кортасар, Маркес, Джойс… могу перечислить десятки имен.
На каком-то этапе я случайно натолкнулся на книгу Джона Уэйна «Зима в горах»… Для меня, «молодого горца», само название уже было каким-то манящим; я был поражен прочитанным; вопросы, которые ставил писатель, мне были близки, как и художественные приемы описания проблем, особенно валлийцев и шотландцев. Я увидел, что национальный вопрос может освещаться и так, как это сделал Уэйн. Мне его высказывания очень близки, например:
– В моей биографии нет ничего интересного, – сказал он, отхлебывая из стакана.
– Что-то все-таки должно же быть. К примеру, чем вы занимаетесь?
– Страдаю. Это моя профессия – страдать. Шагаю по земле и весь исхожу болью.
Горькая ирония большого мастера…
Ну и, конечно, кино. Оно тогда переживало расцвет… До сих пор удивляюсь идеологам, разрешавшим прокат западных фильмов, где показывали совсем другой образ жизни, другие идеалы, входившие в явное противоречие с нашей советской действительностью. Я до сих пор иногда пересматриваю эти фильмы старых мастеров.
М. К.: Ты – человек, открытый разным культурам, а в какой ощущаешь себя наиболее комфортно? Какую считаешь родной?
А. М.: Более комфортно я ощущаю себя, безусловно, в кавказской, одной из древнейших культур мира, и именно потому, что она по духу универсальна в своих проявлениях – она стала основой многих других культур и одновременно вобрала и вбирает в себя лучшее.
М. К.: Говорят, что язык человека формирует его мировоззрение и его поведение. Это так?
А. М.: Я думаю, что человека формирует сознание. Что значит в этом вопросе язык? Все, о чем я говорил, формирует человека, начиная с семьи, взаимоотношений в семье. И тут, по-моему, совершенно неважно, каким языком ты пользуешься.
М. К.: То есть получается, что ты мыслишь на родном языке, а пишешь на русском?
А. М.: В зависимости от ситуации… Когда обращаюсь к духовно-обрядовой сфере жизни или в какой-либо острой ситуации, я с русского сразу перехожу на родной, а в качестве рабочего языка, языка науки и литературного творчества остается русский, для меня это способ познания мира. Кроме того, на ингушском языке нет такого количества источников (в том числе литературных переводов, научных изданий), чтобы я читал и думал на нем. К большому сожалению (или не к сожалению), так получается…
М. К.: Сегодня довольно много писателей – выходцев из бывшего СССР и России – живут и пишут в эмиграции. Многие – на языке страны, в которой проживают. Как ты относишься к подобной творческой ассимиляции?
А. М.: Во-первых, к любой ассимиляции я отношусь плохо, во-вторых, нынешняя миграция во многих отношениях мне кажется спекулятивной (это отдельная проблема – здесь не буду ее развивать); я себя не чувствую эмигрантом (я уже об этом не раз говорил) и не хочу встраиваться в чужое общество, как многие люди, которые покупают виллы, вкладывают немалые средства во что-то в чужой стране и пытаются стать больше своими, чем они есть, но это их личный выбор. Кстати, я об этом писал в своих рассказах. Эта ассимиляция для многих проходит трудно, болезненно в силу определенных национальных особенностей, несовместимости правил жизни, менталитета, но у них есть цель – остаться там жить.
М. К.: Но таким образом увеличивается их читательская аудитория.
А. М.: Но мы же с тобой знаем пример Бродского, который пытался писать на английском, чтобы расширить аудиторию, сделать себе имя в англоязычной литературе, ну и что из этого вышло? И таких примеров много.
М. К.: Ты уже много лет живешь в Венгрии. Это как-то отразилось на твоем ощущении жизни?
А. М.: Ну примерно так, что я поехал отдыхать на курорт и надолго там задержался – и все…
М. К.: А вообще, как ты считаешь, твоя проза, переведенная на венгерский язык, будет близка и понятна венгерскому читателю?
А. М.: Для меня не существует таких понятий, как «венгерский» читатель, «английский» читатель, «русский» читатель. Наверное, будет близка, но не в национальном ключе, а потому, что читателям, как и мне, интересны типы людей с изюминкой, с чудинкой… они есть везде, и везде практически одинаковые. Например, у меня есть венгерские типажи – Пишта, Кати, но точно такие же гуляют в любом нашем ауле или на другом конце планеты. Я пишу просто для людей, без оглядки на их национальность.
М. К.: Один из твоих замечательных циклов – это венгерские зарисовки. Чем тебе интересны венгерские типы? Для тебя существует понятие «национальный характер»? Или это искусственно сконструированная категория?
А. М.: Да, это во многом декоративное, надуманное понятие. Разве ты не замечала, что о национальном характере люди вспоминают в ситуации каких-то конфликтов – политических, экономических, социальных. Здесь я могу говорить только об «обществах» людей. На моем творчестве и мироощущении жизнь в Венгрии никак не сказывается – я мог бы жить и в Германии, и в Англии, и везде писал бы так, как пишу.
С точки зрения психологии для меня нет никаких венгерских типов – есть типы людей. Если взять венгра, грузина и ингуша, в них много общего – все гордые, все на конях, все с саблями, вооружены, этакий собирательный образ джигита. Они не теряют благородства, освобождают девушек из неволи, забирают у богачей золото, делят его между бедными и т. д. То же самое можно сказать о русском национальном характере – это прежде всего народ, который создал большое общество, вобравшее в себя черты многих народов. Поэтому, как мне кажется, слишком узко в наше время размышлять о национальном характере – можно ли, например, говорить об американском национальном характере? Нет… но можно говорить об американской политической доктрине, о доктрине внутренней политики. А такое понятие, как «американская мечта», которое так любят американцы, вообще не несет в себе ни этнической, ни национальной идентичности.
Бывает, что народы-братья превращаются в людей разных национальностей, с разным национальным характером, как это вдруг обнаружилось в отношениях между русскими и украинцами, между чеченцами и ингушами. Иначе говоря, вдруг ни с того ни с сего обнаруживаются национальные различия, но они все-таки больше политические, искусственно созданные. А ведь и в философской мысли, и в мировой литературе утверждается мысль о том, что люди в принципе принадлежат единой культуре: они плачут и смеются одинаково, им всем нравятся красивые женщины, природа, спокойная жизнь, то есть если общество исповедует общечеловеческие ценности, то вопросы такого рода обычно не поднимаются.
М. К.: Вообще ты много размышляешь над природой творчества… Случались ли неожиданные открытия в этой области?
А. М.: Как только я взял фотоаппарат в руки, я стал больше проникать в суть тех же растений и относиться, например, к цветам, уже не просто как к цветам, а как к чему-то большему, по-другому.
В этой связи я всегда вспоминаю слова старика-мюрида о том, что, если рядом с тобой нет близких, родни и ты не можешь давать милостыню в святой четверг, тогда поливай комнатный цветок или деревце в саду, обращайся к Всевышнему и поминай всех людей, дорогих твоему сердцу.
И (к вопросу о связях) эти же мысли я нахожу в японской культуре – в духовном мире японцев, в японской духовной традиции, японской литературе. Я всегда пытался понять систему образов японской живописи или китайско-японской живописи, способность созерцать предметы и любоваться деталью.
Вот вспомнил, как в известном фильме Антониони (Blow-Up) герой-фотограф проходит этот сложный путь: бывает, что видишь одно, а за этим одним не замечаешь чего-то более важного, интересного или загадочного… К примеру, ты можешь фотографировать человека – и вдруг видишь, что в кадр попала обалденно красивая женщина, в которую ты мог бы даже влюбиться… это кортасаровское, фильм снят по рассказу Кортасара.
Описание детали – это, конечно, важный художественный прием, но нельзя им чересчур увлекаться, это приводит порой к творческой катастрофе. Вот почему мне неинтересны многие современные писатели. Да, они следуют всем канонам, знают, как «делаются» роман, повесть, рассказ, но когда это неискренне, когда нет этой пронзительности сердца, души, настоящей трагедии, когда это пишется все «со стороны» – это уже начало катастрофы.
Вот я читаю, например, книги о выселении народов, раскулачивании, вообще о сталинском периоде, и мне важно понять, что́ двигало этими авторами, которые, по сути, ничего не знают об этих трагедиях. На фоне этих трагедий они вполне прилично жили, получали образование и не знали даже десятой доли тех испытаний, которые выпали на мою жизнь и жизнь моих родителей. Сегодня трудно поверить, что я мог быть отчислен в 1973 году из ростовского университета по национальному признаку.
М. К.: Кто в твоей жизни (личной и творческой) оказал на тебя наибольшее влияние? Из родных и близких? Из наставников?
А. М.: Мой погибший старший брат в первую очередь, Никита Ильич Толстой и, наверное, старики моего тейпа, безымянные… я не называю их имен – такая общая коллективная мудрость моего маленького народа.
М. К.: А когда ты написал свое первое произведение? Кто был их первым читателем и критиком?
А. М.: Народный поэт Джемалдин Яндиев – он же читатель и строгий критик.
М. К.: А с чего обычно у тебя начинается рассказ или стихотворение? С события, наблюдения, ассоциации? «Из какого сора», как сказала А. Ахматова?
А. М.: Конечно, с первого толчка [смеётся] – это когда меня оставляют в покое! Я нахожусь в уединении и готов писать… даже неважно, на какую тему, – просто оставьте меня! Я сажусь и пишу…
М. К.: Как ты обычно пишешь? По вдохновению? Переходя из кафе в кафе (как некоторые писатели)? За рабочим столом? Что значит для тебя фраза: писатель должен изучать жизнь. Или это просто «пустая метафора»?
А. М.: Мой рабочий стол никакого отношения к писательству не имеет; из кафе в кафе я не перехожу – в кафе я отдыхаю, думаю о чем-то, если позволяют думать. Иногда неожиданно приходит даже не вдохновение, а какое-то острое желание что-то записать, переписать, отложить, а потом опять вернуться к этому.
Извини, но я не понимаю, что значит «изучать жизнь» – затрепанная метафора, которая ровным счетом ничего не значит. Писатель должен не изучать жизнь, он должен переживать ее, чтобы его произведения не были имитацией реальной жизни. Поэтому я бы сказал, что писатель должен изучать себя, свою внутреннюю жизнь, и чем больше он себя узнаёт и познаёт, тем богаче и сильнее его творчество.
М. К.: Получается, что творчество по сути своей всегда автобиографично? И у тебя тоже? Как можно определить жанр твоей прозы? Фрагменты, зарисовки, ассоциации, рассказы, «эпифании»?
А. М.: Конечно, автобиографично, но это не откровенный автобиографизм, который «про жизнь», а автобиография как импульс к написанию чего-то, сравнению, размышлению. Да, в этом смысле автобиографично.
По поводу жанров… я бы назвал это мини-прозой, но в то же время она отражает то, как я живу, какие-то отрывки мыслей, паузы. И когда ты пытаешься записать это, то понимаешь, что жизнь человека укладывается всего в несколько строчек и что есть вещи, которые не надо развивать в большую форму. Хотя, возможно, это слишком несправедливо по отношению к моим персонажам, но это факт – я не могу писать о людях, в жизни которых нет внутреннего движения.
М. К.: Читатели заметили, что твое творчество совершенно свободно от идеологических или политических канонов, а его автор?
А. М.: Это смотря что считать таким каноном. У меня пока еще есть непреодолимое табу, связанное опять-таки с моим происхождением, с моими адатами; кроме того, я редко вторгаюсь в описание интимной жизни своих персонажей.
М. К.: А хотелось бы?
А. М.: Пока не было такой необходимости вторгаться в эту сферу только потому, что это хорошо «продается». Что-то вроде кинотрюка, только в литературе. Совсем не сложно сочинить «постельную» сцену – гораздо сложнее описать, что́ происходит с людьми до неё… а то, что будет после, уже не так важно.
М. К.: А сам ты как относишься к себе как к писателю?
А. М.: Очень критично, сложно, потому что я никак не могу назвать себя писателем. Даже трудно определить это состояние, потому что чем больше я читаю современных авторов, тем больше мне не хочется быть писателем и иметь какой-то статус в писательском мире. Я не хроникер, не журналист – просто мне есть что сказать, и, скорее всего, я где-то близок здесь к Анри Мишо с его стремлением к разрушению жанров, которое шло от убеждения, что поэзия (прошлая и современная) себя изжила. Мне кажется, что у меня есть сторонники, которые меня поддержат.
Кроме того, мысли современного человека настолько усложнены потоками информации, что трудно выразить то, что происходит сейчас в нашем сознании, средствами как традиционной, так и «сверхавангардной» поэзии.
М. К.: Следишь ли ты за современной литературой? Как относишься к ней? Кто из современных авторов кажется тебе наиболее интересным?
А. М.: Слежу в меру своих возможностей, но меня не покидает ощущение, что одна группа писателей просто строчит «заказные» произведения, другая часть работает в каком-нибудь модном «тренде», третья просто занимается халтурой ради заработка. Мы переживаем процесс серьезной коммерциализации литературы, искусства, художественной культуры в целом – так что очень трудно найти в этом потоке что-то ценное и необходимое для себя.
М. К.: Твой последний сборник (издан в Чехии в 2015 г. – М. К.) получил высокую оценку читателей и критиков. Как ты считаешь, все ли было ими понято и отрефлексировано?
А. М.: Нет, конечно… Но я не стремился, чтобы меня все понимали. Это невозможно. Может быть, это оттого, что я пытался поработать в разных жанрах, испробовать разные формы, разные приемы, литературные техники. Мне это было самому интересно… такой своеобразный эксперимент с самим собой. Отзывы, которые я получаю, больше положительные: я вижу, что меня цитируют, некоторые фразы даже становятся заголовками газет, чего я даже представить себе не мог. Но, по большому счету, меня очень мало волнует, как отзываются и как понимают… Одинаковое восприятие и понимание просто невозможно. Например, кавказцам очень близок рассказ «Сорок всадников», кому-то непонятен аул Кукушке, а для кого-то ближе житейские истории.
Поскольку я надолго выпадал из творчества, из литературного процесса, я не очень уютно в нем себя чувствую и даже до сих пор не могу считать себя автором этой книги. И это никакая не блажь, не игра – просто я хотел куда-то записать и сохранить то, что подметил, о чем задумался. Вот, например, был такой момент, когда ученые-психологи попросили меня написать что-то на их тему, я написал, им понравилось. Меня больше всего заинтересовало не то, что я написал и им понравилось, а то, почему им понравилось?
М. К.: Конечно, не могу не задать традиционный вопрос: у тебя есть любимые писатели? Есть ли у тебя критерии гениального произведения? Назови хотя бы 5 книг, которые стали для тебя главными в жизни.
А. М.: О любимых не могу сказать, а вот об уважаемых мной… это, конечно, Чехов, Джойс, Селин, Сарамаго, Хименес, Паунд, Элиот, могу многих назвать. Критериев гениального произведения нет, потому что все гениальные произведения должны быть написаны после нас. И почему мы должны вырабатывать какие-то критерии? Они у всех разные. И это хорошо…
Пять книг тоже не могу обозначить – для каждого этапа жизни есть свои пять книг, которые важны. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы долгое время по идеологическим причинам не знали многих западноевропейских, латиноамериканских писателей. Многих только сейчас начинают переводить (М. Селина, например). И когда я после большого перерыва вернулся к литературе, то обнаружил имена, которые были известны только узкому кругу специалистов, и произведения, которые не доходили до нас.